Текст книги "Опыт № 1918"
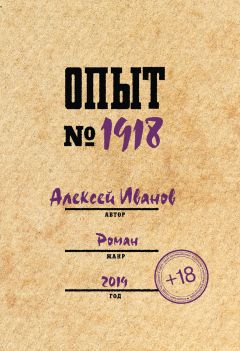
Автор книги: Алексей Иванов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 32 страниц)
– Так вот, господа, пока не случилось ни того, ни другого, – усмехнулся чуть подвыпивший Бехтерев, – растолкую вам всю гениальность большевиков. Вы, голубушка, когда я сказал, что они хотят управлять миром на расстоянии, то есть насильственно внедряя свои идеи, носик морщили? А напрасно! Они нашли заложенный природой и открытый мною, – он скромно потупил взор, – природный код. Сколько бы ты ни дал человеку или подопытной крысе, это безразлично, код один, тут Господь Бог особенно себя не утруждал, применял стандартные решения: сколько бы ты ни дал человеку – тире – крысе – еды или наслаждения, ему всегда будет мало. Он будет недоволен. Неудовлетворен. Что делают большевики? Они, – он поднял палец, словно грозя кому-то, – они никому ничего не дают! Вот принцип! Но при этом обещают. И обещают – все! Земля – крестьянам! Жизнь – во дворцах! Еды – от пуза! Женщины – общие, не имеют права отказывать никому! Заботу о детях возьмет на себя государство! И люди, в точном соответствии с кодом, бегут за обещаниями, бегут, убивая тех, кто им мешает подобраться к обещанному, бегут, забывая дом, забывая дружбу и родство! А им кидают все новые и новые обещания, отделяя от них все новыми препятствиями. А? Гениально?
Над столом повисла тишина, лишь потрескивали поленья в камине.
– И уже рождается второе поколение крыс, которым не нужна реальность, они живут во второй производной от реальности, их реальность – в стремлении к будущему, в дикой скачке…
– Владимир Михайлович, – в глазах Татьяны Ивановны стояли слезы. – Неужели мы все – не более чем подопытные крысы?
– Для них, – посерьезнел Бехтерев, – конечно! И даже – меньше. Крыс надо хотя бы кормить, чтобы они выжили. А нас необязательно.
Этот вечер и этот разговор определили решение Манухиных – уезжать. Особенно, когда Бехтерев, доставивший их обратно на Сергиевскую на машине, прощаясь, наклонился к Татьяне Ивановне и прошептал: – Уезжайте немедленно! Немедленно! Иван Иваныча увозите, он здесь погибнет!
– Я даже не представляю, как это можно сделать?
– Через Горького! У него все налажено! – Бехтерев приложился к ее руке. – Не получится – звоните мне. Не зря же я их пользую. Вместо того чтобы крыс изучать!
Глава № 49
Допрос патриарха длился уже несколько часов. И мальчишка-следователь, и унылый, сосредоточенный Евгений Александрович Тучков, представившийся как председатель комиссии по работе с церковью, уже подустали. Патриарх отвечал ровно, спокойно, иногда чуть улыбаясь, без иронии и снисходительности. Неожиданно, после телефонного звонка, чекисты взволновались, принялись поправлять форму и тревожно поглядывать на дверь.
Дверь вскоре распахнулась, вошел сопровождаемый несколькими людьми в форме некрупный, суховатый человек и быстрыми шагами прошел к столу следователей, заняв место напротив патриарха.
– Узнаете меня? – спросил он, опершись обеими руками на стол.
Патриарх, чуть прищурившись, смотрел на него.
– Да, узнаю, видел на портретах.
– Вот и хорошо! – Вошедший кивком отпустил сопровождающих и следователей. Подождал, пока все выйдут. – Представлюсь на всякий случай. Свердлов, Яков Михайлович. А как вас именовать?
– Патриарх Тихон.
– Я знаю, в миру вы – Василий Иванович Беллавин. Я буду называть вас Василий Иванович. Не против?
Патриарх в знак согласия опустил веки.
– Признаюсь, Василий Иванович, я долго размышлял, стоит ли нам встречаться или нет. И вот видите – пришел. Хотя сразу скажу, в Бога я не верю.
– Не верующих в Бога людей не существует, – спокойным тоном, как отвечал следователям на вопросы о своей контрреволюционной деятельности, заметил патриарх.
– Как так? – искренне удивился Свердлов. – А атеисты?
– Атеисты – это те, кто против Бога, – патриарх положил руки на колени. – А раз против, значит, верят, что он есть. И беси веруют, дрожат, а веруют.
– Василий Иванович, – Свердлов, сняв пенсне, принялся потирать переносицу, – вы понимаете, что я пришел не дискутировать относительно религии.
Патриарх кивнул.
– Я хочу вам задать один вопрос. Напрямую! – Свердлов поднял подбородок и чуть подслеповато посмотрел на патриарха. – Скажите, почему вы не хотите сотрудничать с государством? Вы – я имею в виду церковь.
– Потому что я не вижу государства, – спокойно ответил патриарх.
– Как, – не понял Свердлов, – как не видите? Я – председатель ВЦИК, правительства. Существуют Советы всех уровней… Что значит – вы не видите государства? Власть перешла к народу, Советы представляют народ…
– То, что вы захватили власть в государстве, я знаю.
– Мы создали новое государство, Российскую социалистическую республику! Мы – власть на всей территории бывшей Российской империи! Вы согласны?
Патриарх чуть пожал плечами.
– Мы – власть! – Свердлов повысил голос и стал прихлопывать ладонью по столу. – А всякая власть – от Бога, так я слышал?
– Не всякая, – патриарх сидел спокойно, чуть наклонив голову. – Есть власть от Бога, есть – от диавола.
– Нашу власть, я понял, вы относите не к Божьей?
– А вы как считаете? Полагаете, Господь вам власть передал?
– Мы не ждали власти от вашего Бога и ждать не будем! Мы сами ее взяли!
– Вот вы и ответили на свой вопрос, от Бога ли ваша власть. А еще в Писании сказано: по делам их судите их! Ваши дела пока – это истязания и убийства священнослужителей, счет которым пошел уже на тысячи. А ведь вашей власти еще и года нет!
– Вам не нравятся наши дела?
– Нет! – Патриарх смотрел с раздражающим спокойствием. – Я не вижу дел, которые я мог бы с чистой душой поддержать.
– А декреты о мире, о земле? Земля передана народу, вековая мечта крестьянства исполнилась! Земля – ключевой вопрос для России.
– Земля – дело Божье, крестьянину ведь не земля нужна, а то, что он на ней вырастит. А вы, землю давши, урожай, хлеб отбираете!
– А вот это уже – контрреволюция! – даже обрадовался Свердлов. – Мы пришли дать народу свободу! И все силы контрреволюции, объединившись, хотят нас задушить! Что мы должны делать? Сдаваться? Предать народ, который веками мечтал о свободе? Или отобрать хлеб у буржуев, накормить народ, чтобы он мог вышвырнуть контру и уничтожить навеки? А вы – на стороне контры, вы нам мешаете в момент, когда все силы народа напряжены и направлены на борьбу!
– Церковь никогда ни на чьей стороне не бывает! У церкви и государства – разные задачи.
– Лжете, Василий Иванович! – хлопнул по столу Свердлов. – Я читал ваше послание, анафематствование. Там вы призываете противостоять власти! – Он достал из папки на столе лист бумаги. – Вот! Вами писано? «Власть, обещавшая водворить на Руси право и правду, обеспечить свободу и порядок, проявляет всюду только самое разнузданное своеволие и сплошное насилие над всеми и, в частности, над святой церковью Православной! – Свердлов добавил иронии в голосе. – Где же предел этим издевательствам над церковью Христовой? Как и чем можно остановить это наступление на нее врагов неистовых?» И дальше, – он даже хохотнул: – «Зовем всех вас, верующих и верных чад церкви: станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне святой матери нашей»… – Свердлов перестал ерничать и коротко взглянул на патриарха. – Это ведь вы писали?
– Конечно.
– Вы не отрицаете, что вы призывали к неповиновению?
– Я призывал стать на защиту церкви.
– Это не одно и то же?
– Не всегда. Защита – не всегда неповиновение. Я надеюсь, что слово священническое будет услышано властью как слово народа и власть прекратит поношение церкви и издевательства над ее служителями.
– Мы не признаем церковь как общественную организацию!
– Мы это поняли из ваших декретов, по тому, что закрыты банковские счета монастырей, храмов, епархий, по тому, что изымается церковное имущество, монастырские помещения…
– Например?
– Монастыри и храмы в Кремле, монастырские помещения в святыне столичной, Александро-Невской Лавре…
– Столица у нас – Москва! И помещения в Лавре переданы под детский приют! А вами организованные крестные ходы против размещения бездомных детей в церковных хоромах…
– Откуда вдруг столько бездомных детей? Вы считаете, что ваша власть к этому не имеет отношения?
– Не вам, Василий Иванович, не вашей церкви, веками обиравшей народ, судить нас! Мы окружены врагами, они пытаются задушить революцию, но мы этого им не позволим! Великий Маркс, надеюсь, вы знакомы с его учением, сказал: «Религия – опиум для народа!» И это – приговор вашей религии!
– Я не философ, и в этом кабинете не место для философских дискуссий. Я бы только напомнил вам, что это – не вся фраза Маркса. Она вырвана из контекста. Могу ошибиться, но постараюсь процитировать сколь можно точно, хоть с самой сутью и не согласен: «Религия – это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому, как она – дух бездушных порядков». И только потом – «Религия есть опиум народа».
– Ну, что я говорил? – Свердлов даже встал и перегнулся через стол, поближе к патриарху.
– Работа эта была написана Марксом в 1843 году, когда опиум считался обезболивающим лекарством. Обезболивающим! А не наркотиком, как сейчас.
– Значит, по-вашему, религия – это лекарство?
– По-моему – нет! – Патриарх внешне был по-прежнему спокоен. Только близкие люди, взглянув на набрякшие, тяжелые веки и мешки под глазами, смогли бы понять, какого напряжения стоит ему этот разговор. – Это мнение Маркса, которого более я знаю как экономиста, а не как философа.
В разговоре наступила тяжелая, физически ощущаемая обоими собеседниками пауза, в которой каждый пытался понять: что же за человек сидит перед ним?
Два мира, волею судьбы соединенные в одном пространстве. Как легко сказать: дьявольские дела, дьявольские наваждения, дьявольские козни. Но как страшно увидеть перед собою земное воплощение лукавого. Не разбойника, брошенного в омут жизни, дрогнувшего от смертельного холода и как за соломинку схватившегося за руку посланца дьявола. Он, рукою этой погружаемый все глубже и глубже, даже не будучи крещен, понимает всю глубину и мерзость своего падения. Понимание это – возможность к раскаянию, возможность в последний момент жизни, на кресте, крикнуть: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Свое!»
Человек, сидящий перед патриархом, был из тех, что сами себя именовали «профессиональными революционерами». До сих пор судьба сводила его с исполнителями какой-то высшей воли, людьми, поддавшимися внушению, искусу, а потому понятными пастырю, несмотря на страшные преступления, ими творимые. Он видел в них под страшной грязью и коростой греха остатки человеческого существа. Стало быть, видел путь к исправлению, путь к покаянию.
Сейчас перед ним сидел пришелец из иного, падшего мира. Падшего сознательно, купающегося в грехе. Из человеческих чувств в сидящем vis-а-vis он читал только трусость, страх за свою жизнь (даже в кабинет следователей ЧК пришел с личной охраной) и трусость, страх другого рода: вдруг кто-то откроет дверь его персонального кабинета и громко, от двери, крикнет: «Ты что здесь делаешь?!» И разверзнутся хляби, и унесет, смоет его бесследно, как смывало сотни его подельников. Оставляя стараниями удержавшихся улицы и города, названные их именами.
– К вам приходили священнослужители с предложением обновить церковь, приблизить ее к народу. – Патриарх чувствовал, как трудно собеседнику даже выговорить слово «церковь». – Вы не приняли их! – Свердлов спрятал глаза за безжизненным отблеском пенсне. – Почему?
– Вовсе не от того, что они пришли, как вы, – в сопровождении стражей-чекистов. А потому лишь, что церковь может быть только одна – православная, Божья, это дом и душа Господа.
– По справке, – Свердлов снова вынул бумагу из папки, видимо, подготовленной к беседе с патриархом, – вы все-таки встречались с ними и согласились, что управление церковью не соответствует сегодняшнему моменту и должно быть изменено.
– Яков Михайлович, – патриарх, напрягшись, вспомнил его имя, – устроение церкви – это наше внутреннее дело. За тысячу без малого лет сложились и существуют каноны, правила, по которым церковь живет. Они непростые, но как корабельный устав написан кровью погибших моряков, так церковный устав внушен, передан людям Духом Святым. Для того чтобы не писать его кровью погибших.
– Демагогия! – хмыкнул Свердлов. – Не хотите власть отдавать!
– Не хочу, – просто сказал патриарх. – Не для того она мне была вручена Богом, чтобы я передал ее прохвостам.
– Кого вы имеете в виду?
– Тех же лжесвященников, которых имеете в виду и вы.
– Вот тут у меня в справке написано, – Свердлов говорил тоном строгого учителя, недовольного несообразительностью своего подопечного. – Предлагается вести службу на русском языке, чтобы сделать ее понятной… – он запнулся – …прихожанам. Разве это плохо?
Патриарх промолчал.
– Разрешить священникам разводы и повторную женитьбу… – Он сверкнул стеклами пенсне в сторону патриарха. – Они такие же граждане республики и должны иметь равные права со всеми…
– Они приняли на себя обязательства, – устало возразил патриарх. – Возлагая крест на грудь, священник принимает на себя обязательства, как офицер, принявший присягу и надевший погоны…
– Мы отменили и офицеров, и погоны!
– …принимает обязательство, – патриарх пропустил замечание Свердлова, – погибнуть, но не посрамить честь офицера и страны, за которую присяга принесена. Священник рукополагается для подвига духовного. Для того и крест носит поверх облачения.
– А я считаю, – Свердлов встал и пристукнул ладонью по столу, – что управление церковью должно перейти…
– Вы считаете, – патриарх неожиданно заговорил громко, легко перекрывая Свердлова, – на каком основании? Вы закончили семинарию, духовную академию, изучали на первом курсе Библейскую историю и катехизис, Священное писание Ветхого и Нового завета, далее – догматическое богословие, сравнительное богословие, пастырское богословие, нравственное богословие, патрологию, гомилетику, апологетику, историю религиозной философии? Это – далеко не все, что нужно бы знать, чтобы судить о церковной сущности! Это при том, что стараниями человеческими можно выучить высшую математику, а церковные науки без Божьего перста, Божьей воли, Божьего напутствия изучить нельзя!
– А как же ваши священники, которые ко мне являлись, чтобы оживить, обновить церковь?
– Вот это и свидетельство, что они без Божьего напутствия учили все, что положено в Академии. И – не выучились. Пришли за наукой – к вам!
Свердлов с внутренним раздражением рассматривал сидящего перед ним упрямого старика. Раздражало то, что старик не боялся. Он же привык, что во всяком человеке, беседующим с ним, чувствовался страх.
Этот – не боялся. У него не было защиты: никто – даже либеральная тряпка Луначарский, даже вечно подпевающий ему Горький – не ходатайствовал за него. И никто не стоял за спиной. Наоборот, приходилось сдерживать и Троцкого, впадавшего в истерику при упоминании патриарха, и Ленина, считавшего, что он должен быть казнен первым, чтобы всем другим зажравшимся и кривляющимся в алтаре было неповадно. Для Ленина важно было число: чем больше удастся расстрелять, тем лучше. Феликсу было плевать. Он воспринимал расстрелы как работу. Разве что Бокий? Это он толкнул Свердлова прийти на допрос патриарха. Свердлов усмехнулся: Бокий – любитель сложных психологических построений. Считает, что надо забрать власть патриарха и передать нужным людям. Чтобы те, кто получили ее из рук, сломавших патриарха, всегда помнили об этом и, как козлы на бойнях ведут за собой стада баранов, вели бы послушную «новой церкви» паству к счастью.
Да, Бокий любит сложные построения, но революция проста. И груба. У нас нет времени на психологию. От власти еще никто не отказывался. А выбор между властью и смертью – очевиден. Даже для этого старика.
Свердлов еще раз протер пенсне, и только тут патриарх заметил, что стекла на его очках – без диоптрий. Фальш-пенсне.
– У меня нет времени дискутировать с вами, – Свердлов нагнулся, навис над столом. – И нет желания разводить дискуссии. Завтра к вам придут священники, которых вы выставили. Договоритесь с ними о передаче церковного управления.
Свердлов вглядывался в лицо патриарха, пытаясь хоть что-то прочитать в этом деревенском лице, в неподвижных, глубоких морщинах, толстых веках, прячущих глаза.
– Власть, – он сделал длинную паузу, – власть церковная останется за вами. Они возьмут на себя только оперативное управление церковью!
Патриарх молчал, продолжая смотреть на Свердлова. Разве что чуть более склонил голову к плечу.
– Хочу также сообщить вам, – они смотрели друг на друга, почти не мигая, – что в случае вашего отказа от сотрудничества нам придется расстрелять взятых сегодня ночью заложников. – Он помолчал, глядя на недвижную маску старика. – Заложники из числа церковников. – Он подумал, достал из папки лист и протянул патриарху.
Патриарх принял листок, привычным движением достал и надел очки. И дрогнул внутренне. В списке было более полусотни священнослужителей. Включая высоких иерархов. Это были знакомые, друзья, соученики по Академии, люди, с которыми десятки раз в разных церквах вместе сослужили…
– Почему они должны быть расстреляны? – Патриарх постарался, чтобы голос перед этим человеком не дрогнул. – В чем их вина?
– Они заложники, – Свердлов сел, откинулся в кресле, сверкнув стеклами. – Для заложников вины не требуется! – Он хлопнул ладонями по столу и поднялся. – До завтра! Вас известят о приходе ваших церковников.
Патриарх, привезенный после допроса к месту домашнего ареста, в подворье Сергиевской лавры, долгое время лежал, молясь и стараясь не отвлекаться от молитвы: сердце сжимала стальная безжалостная рука, то заставляя его замирать, отдавая болью в плечо, скулу, под лопатку, то отпуская его внезапно. Сердце билось, словно хотело вырваться из груди, и патриарх задыхался и прикладывал к груди ладонь, пытаясь придержать это скачущее, трепещущее сердце.
– Ваше святейшество, – наклонялся к нему келейник, – капельки примите. Примите, легче станет! – и вытирал пот, проступавший на бледном лице патриарха. – Господи, несчастье какое! С эдакими допросами и до беды недалеко!
Патриарх морщился, пил капли и молился: очень не хотелось отходить в лучший мир по милости посланца лукавого. То-то радость им будет! Позже патриарх под нажимом келейника пригласил известного московского врача – гомеопата Дмитрия Петровича Соколова. И тот не только поставил патриарха на ноги, но, сам спортсмен, убедил и патриарха делать физические упражнения по утрам.
Глава № 50
Работа в Московском трамвайном парке неожиданно оказалась интересной. Иванов-старший с удовольствием шел пешком до проходной. От угла Киевской улицы вдоль Забалканского тянулись ухоженные монастырские огороды. Крепкие лошадки, управляемые монахинями и насельницами, бойко везли корзины и берестяные короба, полные огурцов, помидоров, свежей зелени, резкий запах которой смешивался с особым, сырым и теплым запахом обработанной земли. Впереди сверкала золотом четырехъярусная колокольня против главного входа в Воскресенский Новодевичий монастырь. Время от времени пробегал, завывая мотором, одинокий утренний трамвай, развивая скорость на ровном участке.
Солнце откуда-то со стороны Киевской улицы било косыми лучами, главы и главки собора сияли золотом, а стройные зеленые шатровые башни колоколен делали главное здание монастыря похожим на древнерусский замок или красивую, нарядную желто-золотую игрушку, изящно поставленную между высоким забором и купами зелено-оранжевых кленов.
Впечатление от прогулки портило только одно и то же воспоминание, как Иванов-старший ни пытался выбросить его из головы. Не будучи фанатиком, но верующим и воцерковленным человеком, Иванов-старший заказал в Новодевичьем монастыре молебен по случаю закладки первого камня в его с Владимиром Петровичем Кондратьевым детище: здание дома-коммуны (а мыслили-то целый город-коммуну). Заказал тайно от Владимира Петровича, предполагая устроить ему сюрприз: едем в авто мимо Новодевичьего, останавливаемся будто бы случайно, а там, в главном, Воскресенском храме идет молебен. Но вместо сюрприза и молебна вышла первая между партнерами ссора. «Этот молебен – проходная служба, каких у них сто или тысячи! – всерьез рассердился тогда Кондратьев. – Надо отпеть – отпоем, крестить – покрестим, во здравие – во здравие, за – сам понимаешь… – И когда шофер притормозил возле колокольни, центрального входа в монастырь, с вызовом натянул на голову фуражку и не перекрестился. – Не сердись, Алексей, ты же знаешь, я – агностик. И спектакль, который разыгрывают для меня толстые дяди в рясах, мне неинтересен! Тем более, – он хлопнул Иванова по колену, – что я тебе ведь тоже заготовил сюрприз. – Кондратьев засмеялся, довольный ситуацией. – К нам приедет на закладку камня Павел Иванович Лелянов. Ну, не дуйся, старина, лучше напрягись, подумай. Приедет сам… – он сделал паузу, – господин Лелянов! А задержись мы на твой молебен, может вовсе дичь случиться: городской голова со всей свитой прибыл, а виновников торжества – нету, на молебне! Стоят и кланяются ряженым!»
– Что, кланяться городскому голове с его присными и участвовать в его спектакле – лучше?
– Конечно! – обрадовался Кондратьев. – Он же поможет с кредитами!
Молебен в Новодевичьем не состоялся, как обломились (по выражению Кондратьева) и кредиты, а затем рухнуло и все дело. И, проходя мимо монастыря, Иванов-старший всякий раз вспоминал об этом. А что было бы, уговори он тогда Кондратьева выйти из машины и отстоять молебен? Может, и дело пошло бы по-другому? Не пришлось бы под старость лишиться всего нажитого? И мучительно краснеть за свою «коммерцию» перед женой? И ссориться с Кондратьевым, с которым столько лет связывала дружба? А увлечение Кондратьева социальными идеями и, в частности, идеей города-коммуны Иванов – как инженер и военный, организованный человек – в целом разделял и безмерную страсть и даже фанатизм своего товарища уважал.
Возле колокольни с церковью Исидора Пелусиота на втором ярусе Иванов остановился, перекрестился привычно и перешел на другую сторону Забалканского. Дежурный и диспетчер встали в ответ на его поклон.
– Надо будет на Васильевский съездить, на «Сименс». Не звонили оттуда?
– Рановато еще, Алексей Георгиевич! – Дежурный поднял взгляд вверх, на часы. – Семи еще нет. Это вы у нас ранняя пташка. Только-только ночная смена отвоевалась!
Хозяйство трамвайного парка хоть и не очень старое, но запущенное и неухоженное. С переменами власти трампарк никак не мог определиться – кто же ему хозяин. Еще недавно новые хозяева предпочитали врываться с маузерами на боку: «Даешь самый полный к Смольному!» Сейчас тоже продовольственные и другие комиссары любили покомандовать, но над парком взяла шефство воинская часть, стоявшая в казармах (бывших складах) возле Митрофаньевского кладбища, – и комиссары чуть поутихли. Особенно когда солдатикам подвозили лишнюю грузовую платформу дров с Лиговки или от самой Невы.
– Алексей Георгиевич, – сразу возле конторы перехватил его мастер ночной смены, – с кабелями у нас дело – швах! Не будет кабелей, вагоны не выпущу на линию! Все пробивают, искрят! Так ведь и вожатого спалить можно!
– Добро, Андреич, – Иванов тряхнул некрупную, цепкую руку мастера. – Я сегодня на «Сименс» поеду, обещали присмотреть кое-что. И переключатели, и силовые трансформаторы, и кабели разные у них есть. Не хочешь со мной? Я бы трансформаторами занялся, они все ремонта требуют, надо понять – сумеем ли мы сами их в порядок привести, а ты бы тем временем кабелечки поискал. Те, что нужно. Там сейчас сам черт ногу сломит!
– Неуж и на «Сименсе» такой кабак, как у нас?
– Может, и почище. Хозяева сколько лет как в Германии. Всё дело на управляющем держалось, пока рабочие свою «дирекцию» не избрали под командой комиссара.
– Я слышал, будто медь украли, продали в порт?
– Не знаю уж, куда продали, но пока все не разворовали, надо туда ехать!
На электротехническом заводе «Сименс и Гальске» на 6-ой линии Васильевского острова царил полный кавардак. Рабочие слонялись по территории, высматривая, что можно украсть и почти тут же продать, охрана занималась тем же, и лишь у нескольких дальних цехов, занятых военными, стояли часовые. Цеха эти, отошедшие армии, собирали радиостанции.
Иванов-старший поднялся в заводоуправление. В заплеванном окурками кабинете управляющего толпился какой-то бездельный народ, было не продохнуть от махорочного дыма и страшного мата: кого-то грозились расстрелять за воровство и контрреволюцию.
Зато в соседнем (в прежние времена – кабинете главного инженера) стояла тишина, за солидным столом человек в строгом деловом костюме и нарукавниках считал что-то на арифмометре, тут же перепроверял на счетах и записывал цифры в огромную амбарную книгу. Это был давний, еще по Ревелю, знакомец Иванова, бывший управляющий Электротехническим заводом Иоганн Тыкоцинер.
– Иван Дмитриевич! – окликнул его Иванов. Тыкоцинер любил, когда его именовали по-русски. – Мне кажется, если произойдет землетрясение, и после откопают этот кабинет, здесь будет сидеть господин Тыкоцинер и считать на арифмометре!
– А ты думаешь, Алексей, что землетрясение еще не произошло? – Они обнялись и похлопали друг друга по плечам.
– Ты прав, – Иванов присел за маленький столик сбоку от делового стола. – Землетрясение, сопровождающееся селем из, прости меня, дерьма. Как будто прорвало где-то запруды отстойника, и вся вонючая мерзость ринулась на нас.
– Когда началась революция… – Тыкоцинер ловко распоряжался на столике, где все, как и положено на электротехническом заводе, было электрическое: чайник, кофейник, тостер – невиданное приспособление, выдававшее подсушенный хлеб, и даже небольшой электрический самовар для особо важных гостей. – Ты же знаешь, я прирожденный социалист, так вот когда началась революция, я был в восторге. И, как идиот, ходил с красным бантом.
– Еще ведь давал, поди, деньги на социалистов в Германии?
– А как же, – Иван Дмитриевич налил чаю в стаканы (по-русски!) с серебряными фирменными «сименсовскими» подстаканниками, – это же была моя партия! Но, признаюсь, давал и русским социалистам.
– Денег-то не жаль?
– Жаль, – честно признался Тыкоцинер. – Очень. Но еще более жаль иллюзий! Это были иллюзии молодости! А теперь мы с тобой, два старых дурака, сидим в голодном городе, пьем чай из какой-то травы, наблюдаем, как растаскивают завод и слушаем матюки комиссаров. И никаких иллюзий!
– Если бы у тебя не осталось иллюзий, Иван Дмитриевич, ты бы уже давно был в Берлине!
– Ты прав, Алексей, и не прав. – Тыкоцинер задумался. – Понимаешь, я так привык жить в России, так полюбил ее, что меня не тянет в Германию. Я даже боюсь туда ехать! – Он достал из шкафчика старинный немецкий штоф и две большие стопки и со значением глянул на Иванова: – Это спирт! Ты видел когда-нибудь в Германии немца, пьющего чистый спирт? Такого никто даже представить не может! А я приучился. И даже извлекаю удовольствие! – Они чокнулись, выпили и, одинаково сморщившись, шумно выдохнули. – В этом городе я голодаю, как не голодал на фронте! – Тыкоцинер отдышался от спирта. – И здесь же я, как нигде и никогда, объедался икрой, осетриной, трюфелями! Трюфелями, которых не мог позволить себе кайзер! – Он налил еще по полстопки. – В этом городе, поверь мне, Алексей, я скучал по своей жене и детям, как только может скучать добропорядочный немец на чужбине. Но! – он поднял стопку, друзья чокнулись и выпили. – Но! – Тыкоцинер совершенно по-русски приложил тыльную сторону ладони к носу. – Но в этом городе у меня было столько замечательных женщин, сколько за жизнь не бывает у всех мужчин моей деревни! И таких женщин, Алексей, о которых я не мог бы и мечтать в Германии! В этой стране я перестал ходить на воскресные службы! Если моя мама узнает, она не пустит меня домой! Ты можешь мне объяснить, что это за страна?
– Россия! – хмыкнул Иванов.
– Да, да, Россия! – пьянел Тыкоцинер все-таки не по-русски. – И теперь объясни, Алексей, могу ли я уехать из этой страны, которая дала мне все, сейчас, когда ее захватили… захватили…
– Варвары?
– Если бы варвары, Алексей! – Он оглянулся на дверь. – Мне кажется, ее захватили пираты. Или бандиты.
– Второе – вернее. Международная банда.
– Алексей, откуда они взялись? Еще вчера их не было! Объясни, ты человек умный, военный, откуда эта зараза? Может, это эпидемия? Иначе почему эта зараза и в Германии?
– Ты говоришь, Иван Дмитриевич, вчера их не было. А сколько лет ты подкармливал своих социалистов? И наши богачи стеснялись не давать деньги «на революцию». Неприлично не поддержать людей, гибнущих «за идею», за свободу!
Они закурили. Иванов – трубочку, Тыкоцинер – сигару из своего неприкосновенного запаса. Со стороны это могло бы выглядеть странно. Два немолодых человека. Громадный, мощный немец и некрупный, сухой русский. Сидят в кабинете несуществующего завода, в несуществующей стране, оба выброшены из жизни стихией, которой они даже названия найти не могут, оба – с судьбой, которую предсказать не смогут на день вперед.
– А с точки зрения военной… – Иванов посопел трубочкой. – И немцы, ваш генштаб, и японцы, чуть не с самого начала века, считай, и американцы, – все, вся Европа подкармливала наших и своих, я думаю даже своих социалистов меньше, чем наших. Всем казалось, что поднимающаяся Россия для них страшна.
– А это не так, Алексей? Громадный медведь ворочается рядом, и ты не знаешь, чего от него ожидать!
– Ты же только что говорил о России!
– Да, но для того, чтобы понять Россию, в ней надо жить! Давай переселим всю Европу в Россию!
– И они станут русскими! – улыбнулся Иванов. – Вся Европа боялась не Россию, Европа – и Америка тоже – боялась за свой капитал, боялась, что вставшая с колен Россия отнимет у них свою долю!
– Это правильно, Алексей! Европа маленькими шажками продвигалась вперед, зарабатывала веками свой капитал, а потом Россия вдруг рванула так, что старая бедная Европа оказалась на задворках! Могла бы оказаться на задворках, – поправился после паузы честный Тыкоцинер.
– Так вот, с военной, повторю, точки зрения: деньги, которые давали социалистам все – и Германия, и российские миллионщики, и все-все, это как тяжелые осадные орудия. Нужно было пробить брешь в огромной и страшной для Европы крепости. Брешь пробили, разрушили стену. Тысячелетняя монархия рухнула. А вот ворвались в этот пролом не те, кто готовил осадные орудия и покупал к ним заряды, а невесть откуда взявшаяся международная банда. – Он докурил трубочку и решительно выколотил ее о тяжелую хрустальную пепельницу, в которой тлела сигара Тыкоцинера.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































