Текст книги "Опыт № 1918"
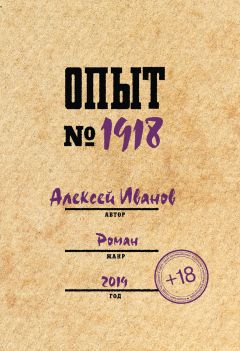
Автор книги: Алексей Иванов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 32 страниц)
Глава № 55
Бехтерев, как и обещал когда-то Николаю Константиновичу Кольцову, лекцию на биологическом факультете прочитал. Как всегда, в большой аудитории-амфитеатре и, как всегда, под аплодисменты. После аплодисментов, откланявшись и отблагодарив студентов, которые провожали профессоров по всему длинному коридору, присели за круглый столик в кабинете Кольцова.
– Угощение, – Кольцов повел рукой, показывая на чай и несколько мельчайших кусочков постного сахара в сахарнице, – как нынче говорят, по законам военного коммунизма.
– У них вечно так будет, – пробубнил Бехтерев, оглядывая кабинет, – то предвоенный коммунизм, то военный, то послевоенный.
– Я попытался вникнуть в этот ихний коммунизм, – Кольцов развел руками, – и ни черта не понял. Уж на что Бердяева не люблю, думаю, надо почитать, вдруг что толковое найду. Ну не может же так, на всю страну, а то и на всю Европу как морок какой-то: коммунизм.
– Уж и до Америки морок этот долетел!
– Ну, американцы-то от него быстро избавятся! – засмеялся Кольцов. – Они люди рациональные. Прикинут – выгоден им этот самый коммунизм или нет. А коли нет, так ему в Америке и не бывать.
– Да, – согласился Бехтерев, – я тоже думаю, что мы этот кукиш только для старушки Европы заготовили. А что пустовато у вас в лаборатории?
– Беда, – вздохнул Кольцов. – Голод не тетка. Пришлось почти всех сотрудников распустить. Кто мог – все на подножном корму, в деревнях. Я слышал, у вас еще хуже? Чуть не голод?
– Почему «чуть»? – Бехтерев поставил чашку на столик. – Голод и есть! Осьмушку хлеба на два дня дают. И купить ничего нельзя. Можешь в Чеку загреметь.
– Так как же вы? – с сочувствием склонился Кольцов. – Это ж и выжить нельзя…
– Так уж половины Петрограда и нету! Кто смог, тот съехал уже. А кто не смог…
– Вы-то как?
– Да что мы! – Бехтерев похлопал по карманам, извлек пачку папирос желтой турецкой бумаги и протянул Кольцову. – Мы с Павловым, Иван Петровичем, договор заключили. Мы ему – мышей да крыс наших линий, а они нам – картошку, свеклу, репу. Тут вот капусты привезли целый воз. У них ведь хозяйство-то большое.
– Как ни большое, но и своих кормить нужно! – Кольцов затянулся от души и закашлялся.
– Забыл предупредить, – повинился Бехтерев, – табачок-то настоящий турецкий, дух перехватывает!
– И бумажка, видите, желтенькая. Тоже турецкая. У нас в университете когда-то турок работал. Не знаю уж где, но по хозяйственной части. Он вот всё такие папиросы поставлял любителям. Я, грешник, тоже иной раз покуривал.
– А нас, – хмыкнул Бехтерев, – тоже свои, понимаешь, турки снабжают. Из Чеки! Они ведь к доктору Мокиевскому бегут, как муравьи к сахару. Дорожку протоптали!
– А Мокиевский, поди, доит их, как муравьи тлю?
– На том и живем! Мокиевский, проныра, раньше лечил от алкоголизма за три сеанса, – Бехтерев, смеясь, махнул рукой, будто отгоняя комара, – а нынче, говорит, меньше чем за пять-шесть никак не удается. И все – не бесплатно, заметьте. Продукты везут. Мы их скоро на пальто да штаны менять будем, а то пообносились мои ученые!
Через час – старуха-лаборантка еще дважды приносила чай – Бехтерев поднялся.
– Ждем вас с лекцией у себя. То, что вы рассказали, голубчик, невероятно интересно. Может, это голод так обостряет научную мысль?
– А что, не исключено! – поддержал шутку Кольцов.
– Я вам папиросы оставлю, – Бехтерев положил папиросы на стол, – вы ж у нас любитель! А мне они по случаю достались. Знаете, есть такой деятель в Чеке, Бокий по фамилии. Нет? Когда-то у меня в лаборатории вольнослушателем подвизался. Не без способностей человек, но продался дьяволу и служит ему со страстью. Помните, как в молитве: «Сподоби мя, Господи, возлюбити Тя, якоже возлюбих иногда той самый грех; и паки поработати Тебе без лености тощно, якоже поработах прежде сатане льстивому». Так вот Бокий этот, наоборот, сатане льстивому служит. И не сейчас только. Я и в молодости его подмечал, куда глаз ни обратит – везде чертовщина закручивается. А талантливый, – как будто даже с завистью сказал Бехтерев.
– Тяжко так-то человеку жить, – перекрестился Кольцов.
– Перед тем, как к вам идти, я с ним встречался. – Бехтерев снова опустился на кресло. – Они виды имеют на мою лабораторию!
– Что так? – удивился Кольцов.
– Им доктор Мокиевский, любимейший мой прохвост, наплел черта лысого про передачу мысли на расстояние, про телекинез, телепортацию… Ну, с голодухи чего ни наговоришь…
– Я слышал, Барченко ваш очень интересные опыты проделывает…
– Серьезный ученый, – закивал Бехтерев, – не нам с Мокиевским чета. И сумасшедший. Но все опыты – на уровне лабораторного эксперимента. Большевикам-то хочется, я их понимаю, массами командовать, чтобы те по приказу на бой, понимаешь, кровавый шли! Или, на худой конец, где надо, голосовали бы по приказу. А до этого от опытов – как до Луны.
– И что Бокий?
– Обещал оборудование немецкое – немцы по тому же пути идут, но до Барченки им далеко. Командировки обещал, пайки, жилье для всех – только работайте. Жмите на результат!
– Заманчиво! – подергал себя за ус Кольцов.
– А бес всегда соблазнителен! – Бехтерев посерьезнел. – Я ему так и сказал, Бокию. Вы, говорю, соблазняете меня, как бес Христа в пустыне. Сначала предлагаете мне камни в хлебы превратить, чтобы прокормить лабораторию. Потом соблазняете меня, объявляя нас с Барченкой гениями, а под конец – даже выдвижением на Нобелевскую премию. Мол, не одному Павлову, у нас есть, чем гордиться.
– Да, – Кольцов с сочувствием глянул на Бехтерева, – это прямо третий соблазн Христа: весь мир тебе принадлежать будет! – Они помолчали. – Тяжкий путь нам выпал, Владимир Михалыч!
– Нам с вами?
– Да. И России, и нам с вами. Истинно, как Достоевский говорил, бесы нас окружают. А теперь и к власти пришли… – Он поднялся, подошел к Бехтереву и обнял его. – Меня, слава Богу, не трогают. Разве что разоряют. А вот за вас, Владимир Михалыч, честно скажу, боюсь, сердце болит…
– Избави пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь?
– Хорошо, если барская… от лукавого-то уйти посложнее…
Они крепче обнялись, на секунду прижавшись друг к другу, словно прощаясь навсегда.
– А вы молодцом! – Кольцов похлопал Бехтерева по спине. – Стан как у молодого!
– Как привык с молодости по системе Лесгафта упражнениями заниматься, так и остановиться не могу! – засмеялся Бехтерев. – Хоть, говорят, и устарела система, так и мы с вами не молодеем!
Кольцов проводил Бехтерева до выхода, студенты и преподаватели останавливались и почтительно кланялись. Даже в старинном университетском коридоре не так часто можно было встретить сразу двух корифеев русской науки.
– А что, Владимир Михалыч, – Кольцов придержал Бехтерева за локоть, – как думаете, они и верно победить смогут?
– Нет, Николай Константиныч, – Кольцов вдруг увидел, как за последний год постарел Бехтерев, – разве на какой срок удержатся… А там, в полном соответствии с вашей теорией, перегрызутся доминантные самцы, пережрут друг друга, пока один не останется, да и того порешат… опять же в соответствии с наукой, свои же… – Он остановился на мгновение, словно хотел сказать что-то еще более важное, но не рискнул.
Кольцов помахал рукой, глядя, как Бехтерев бодро направился в сторону «Метрополя», где Бокием был оставлен ему номер.
Из этого номера Бехтерев и послал ему телеграмму: «На ваши условия категорически не согласен. Проф. Бехтерев».
«Проф. Бехтерев» и не подозревал, что независимо от его согласия и несогласия Институт по изучению мозга и психической деятельности станет лишь небольшой частичкой империи Бокия под названием «Спецотдел ОГПУ». В этой тайной империи, из которой не выходило ни одного документа без грифа «совершенно секретно», помимо охранников, следователей-костоломов, стукачей, провокаторов, расстрельных мастеров и прочих штатных слуг дьявола будут работать тысячи ученых, иногда даже не знающих, на кого они работают: лингвистов, криптографов, медиков, биологов, химиков – специалистов по ядам, психологов и психиатров, тех, кого позже назовут экстрасенсами, восточных магов, буддийских монахов и лам. Империя поглотит талантливейших инженеров, физиков, специалистов по радио и радиолокации. Изобретателей диковинных приборов для шифровки и дешифровки текстов – любимого занятия Бокия, единственной, быть может, его страсти. Он создаст грозу большевистской верхушки – шифрованный архив: досье преступлений, пакостей и предательств на всех, кто хоть единожды попал в круг его влияния. Архив, найденный лишь частично и не расшифрованный по сию пору.
Империя со столицей на Лубянке проведет тысячи и тысячи экспериментов, миллионы опытов, чтобы вчера еще свободных людей заставить сегодня подчиняться безоговорочно воле вождя. Здесь разгадка будущих политических процессов, нерасследованных убийств, фальшивых сетований: «может быть, так именно и нужно, чтобы старые товарищи так легко и так просто уходили в могилу».
Десятилетиями в лабораториях ядов, психотропных веществ, бесконтактных методов обработки сознания шли круглосуточные эксперименты над заключенными, чтобы вывести особую породу людей, питающихся, как крысы Бехтерева, надеждами и обещаниями. Научные ростки окучивала и удобряла пропагандистская машина, запущенная по команде и программе лубянской империи и схваченная за горло стальной рукой партии. В тайных лабораториях, в бесчисленных подвалах, в крытых грузовиках с надписью «МЯСО» на борту, в которых перевозили трупы, штамповались люди, готовые по первому зову идти, зная, что впереди их ждет неминуемая и мучительная гибель. Люди, покорные воле сверху и жаждущие ее, впадающие без окрика и удара электротоком в безмерную тоску, ведущую к полной деградации, пьянству и распаду. К духовной коме, вывести из которой может лишь свист бича, окрик или удар тока. Еще долгие десятилетия эта порода людей, выведенных в империи Бокия, как экспериментальные линии бехтеревских крыс, будут по-особому размножаться, воспитываться, и расти, и проникать по всему миру в здоровые сообщества, рождая там раздоры, злость, зависть и рабскую покорность команде сверху, так хорошо передающуюся по наследству.
Глава № 56
Вместо обещанной встречи со Сталиным бойкий Агранов проводил Бокия в кабинет Ленина. «Значит, они вместе», – отметил Бокий. Он видел это давно, со времен германских денег, хранить которые и наблюдать за жуликоватыми Парвусом, Ганецким, Склянским и прочими, чтобы те воровали в меру, Ленин-Бланк приставил Кобу. Это было умно. Не то чтобы тот был особенно честным, просто он родился со счастливым кавказским характером: зачем мне много денег? Денег должно быть столько, чтобы сунул руку в карман, и там всегда есть, сколько тебе надо! Это и почувствовал Ленин. Власть, особенно тайная, для горца была слаще денег.
Со времен петроградских встреч Ленин сдал. Постарел, пожелтел лицом и стал совсем похож на татарина. Голова чуть склонилась набок (из-за ранения?) и прищур стал еще сильнее. Ленин-Бланк был близоруким, но почему-то стеснялся носить очки.
– Рад, рад, – по обыкновению затоковал Ленин, глядя куда-то чуть выше бокиевского плеча. – Рад! Агранов Яков Саулович мне доложил, что вы готовы возглавить спецотдел. Это очень, очень важно, – он похлопал себя ладонью по лысине, приглаживая несуществующие волосы. – Никакой секретности нет. Информация секретнейшая растаскивается, растекается… Я дал команду – только через шифры, только через специальные коды…
– Информация растекается по многим каналам, – перебил его Бокий, понимая, что тот будет говорить еще долго. – Прослушивание телефонных линий, снятие информации с аппаратов «Бодо», перлюстрация… Нужна система, противостоящая утечке информации.
– Так, так, – Ленин уселся бочком к длинному рабочему столу, не приглашая почему-то Бокия присесть. – Очень интересно!
– Но нужно не только сохранять свою информацию, – Бокий сел рядом с Лениным, – но и получать чужую! Нужны системы прослушивания в посольствах, в наркоматах… – Он внимательно посмотрел на Ленина, отметив, как у того вспыхнули глаза. Идея прослушивания пришлась ему по душе.
– А технически это возможно обеспечить?
– Во всяком случае, есть системы гораздо более совершенные, чем та, что смонтирована у вас в столе!
– Как, вы знали об этом? – Ленин захохотал. – Браво, Бокий, я всегда подозревал, что вы гений. – Он придвинулся к Бокию. – Мы окружены дураками! – сказал он почти шепотом. – От них надо защищаться и страховаться. Но это временно, Бокий! Придут другие люди!
Разговор с Лениным для Бокия был важен. И не только тем, что Ленин собственноручно написал приказ о создании спецотдела ЧК и прямом подчинении отдела Политическому бюро ЦК и лично Ленину: «Руководить спецотделом ЧК Политическое бюро ЦК поручает тов. Бокий Г.И. с подчинением и финансовой отчетностью лично мне».
Ленин вызвал звонком Агранова и отдал ему приказ.
– Теперь, – он жестом остановил Агранова, – доложите мне об опытах Бехтерева. – Ленин поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее. – Яков Саулович рассказывал какие-то чудеса!
Бокий, увлекаясь сам, принялся рассказывать об опытах Бехтерева, об открытии Барченко – передаче мыслей и мыслеобразов на расстоянии, о возможностях массового гипноза и бесконтактного воздействия на массы, о Шамбале и даже спиритических сеансах.
– Насколько это серьезно, товарищ Бокий?
Бокий вдруг почувствовал за всеми, отчасти детскими, ужимками и восторженными восклицаниями жесткую, собранную в кулак волю и быстрый, тренированный мозг.
– Насколько? – Бокий повернулся к Агранову, который сидел с противоположной стороны стола. – Яков Саулович, – он постарался говорить спокойно, не повышая голоса, – поднимите, пожалуйста, руку. – Нет, другую, – он чуть усилил нажим, – правую руку, правую! – Бокий посмотрел на Ленина: – Мы можем продолжать беседу. Он будет держать руку, пока мы ему не дадим команду опустить.
– Невероятно! – Ленин был в восторге. – Яков Саулович, что же вы? Опускайте, опускайте руку!
Тот только улыбался кривоватой улыбкой, показывая, что ничего не может поделать.
– Невероятно! И вы так можете…
– Это самый простейший гипноз! – Бокий смотрел на Ленина, стараясь понять, насколько он искренен. И где валяет дурака. – Я вам говорил о гораздо более сильных вещах, о передовой науке, а не о штукарстве…
Похоже, Ленин был заинтересован по-настоящему.
– А вот это… как вы сказали… бесконтактное управление массами, – он быстро вышел из-за стола и опять подсел к Бокию. – Насколько это серьезно?
– Это научное открытие, прорыв на сто лет за горизонт! Но для утилитарного воплощения его нужно время. А главное – деньги! Деньги огромные! Нужны исследовательские работы, лаборатории…
– Глеб Иваныч, – вскочил вдруг Ленин, – денег у нас чертова прорва! На куче денег сидим, только не знаем, как ими распорядиться! – Он повернулся к Агранову. – Опустите же руку, наконец!
Тот снова бессильно помотал головой.
– Пусть опустит! Это меня раздражает! – И принялся смотреть, как Агранов, опустив руку, стал растирать ее – рука затекла. – Деньги есть! – он повернулся к Бокию. – Для вас они – вот тут, в этом приказе! – Ленин ткнул пальцем в только что подписанный приказ. – И как когда-то говаривали: «С Богом!»
Они подошли к двери, Ленин подождал, пока выйдет Агранов, и шепотом спросил:
– А вы откуда знаете, что у меня в столе телефонная станция? Интуиция?
– Самая лучшая интуиция – та, что основана на информации! – пошутил Бокий, понимая, что в этом вопросе – ключ сегодняшнего разговора. – Когда Свердлов просил меня установить ему в кабинет такую же станцию с возможностью прослушивать кремлевские разговоры, шведские спецы, к которым вы в свое время обращались, предложили усовершенствованную модель.
– И вы? – склонил голову набок Ленин.
– Поставил, – Бокий смотрел, как брови у Ленина поползли вверх, меняя лицо. – Но подключил к его станции не все номера! – Он улыбнулся, глядя на зашедшегося в смехе (его даже согнуло) Ленина. – Вашего там нет!
– А я, я как же его слушаю?
– Секрет шведской фирмы!
Они расстались, посмеиваясь, довольные друг другом. Так до конца и не раскусив собеседника.
Ленин-Бланк, судя по всему, не догадывался, кто, кроме Свердлова, был организатором сорвавшейся «акции» на заводе Михельсона: Бокий, вглядываясь в узкие татарские глаза вождя, не прочитал в них своей смерти. К чему был готов при вызове в Кремль.
Ленин, как показалось Бокию, больше обрадовался усовершенствованной станции подслушивания своих соратников, чем рассказу о научных достижениях Бехтерева. «Не понял», – подумал Бокий. И ошибся. Финансирование лабораторий спецотдела ЧК было открыто сразу. И не прекращалось никогда. Даже после 16 мая 1937 года, когда Бокия вывели из кабинета Ежова в расстегнутой гимнастерке, без ремня и сапог и повели по знакомым коридорам Лубянки.
Глава № 57
Город неожиданно накрыло мокрым снегом. Он лежал на мостовых, забиваясь в калоши и ботики, на тротуарах, на гранитных и чугунных парапетах и перилах набережных, выстлал скверы, выбелил мосты и залепил окна. Окна вместо черных провалов смотрели теперь на город болезненными, прищуренными бельмами. Даже лошади, сколько ни старались, не смогли своими кучами и желтыми дорожками испортить первую белизну.
А наутро ударил мороз. И город заскользил, потеряв остойчивость, размахивая руками и вскрикивая веселыми детскими и бабьими голосами. Ближе к осени город превратился в соревнование лжецов. Самые чудовищные слухи, рассказанные «знакомыми одних знакомых», подхватывались и сдабривались собственными предположениями и благими (не всегда!) пожеланиями. Странно, но год назад основными лозунгами были патриотические призывы «…все, как один… грудью на защиту… Вышвырнем германцев за наши пределы… Отстоим православную веру…» Сейчас германцев ждали как освободителей. Хотя и говорили об этом с опаской. Обязательно поминая, что они «все-таки европейцы и культурные люди»… Ко всеобщей городской лжи об увеличении пайков, о положении на фронтах, о германцах, уже взявших Одессу и направляющихся к Харькову, о «зеленых», овладевших Киевом, английской эскадре в Финском заливе и немцах какого-то полковника Готторна, приближающихся к Пскову, прибавились лживые сообщения о морозе. Назывались чудовищные цифры по Цельсию и Реомюру, которые тут же опровергались, и возникали новые, пугающие еще более.
Автомобили урчали моторами, стараясь взобраться на ледяные катки мостов, сползали юзом назад, сталкиваясь и пугая лошадей, извозчиков и пешеходов. Северный ветер свирепствовал, как всегда в Петрограде, ухитряясь дуть в лицо сразу со всех направлений, со всех улиц, площадей и переулков, в которые пытались спрятаться от его жестоких порывов закутанные в шали, полушалки, шарфы жители, вынужденные в эту погоду оказаться на улице. Вчерашние мокрые лозунги и транспаранты задубели, хрустели и стучали на ветру, стараясь вырваться из промерзших рук. Однако какие-то шествия, демонстрации то ли «за», то ли «против» чего-то и праздники с колоннами и флагами никак не могли закончиться. Хотя мороз и подразогнал устало и лениво протестующих и торжествующих. Кое-где транспаранты побросали в грузовики и незаметно растеклись по улицам, согревая дыханием руки и растирая уши: по осеннему времени треухов было немного. Их обладателям завидовали.
– При Учредиловке были грузовички, а при большевиках – броневички, вот что народ-то говорит, – пробасил, как всегда ни к кому не обращаясь, дворник Россомахиной, Адриан, глядя, как Марья Кузьминична садилась в коляску. На спине лошади, покрытой не то попоной, не то рогожей, лежал смерзшийся сугроб. Да и возница, хоть и пошевеливал плечами, стараясь сбросить снег, больше походил на рождественского Деда Мороза. Чем-то, правда, опечаленного.
Мальчишки-газетчики, каждый на своем углу, кричали, размахивая мокрыми газетами, в которых была та же ложь, приправленная журналистскими амбициями и невежеством.
Как изменилась толпа на Невском! Откуда эти небывалой ширины клеши и длиннющие ленточки, старого образца шинели, шлемы с завернутыми наверх ушами, башлыки, сабли, неожиданные малиновые кавалерийские галифе, громадные браунинги у пояса и даже гранаты, болтающиеся на брезентовых кольцах. Разнобой сапог, но непременно со шпорами, обмотки, сбитые рваные опорки… И повсюду обезьянье скорое шелушение, щелканье семечек, с неимоверной быстротой покрывших шелухой улицы.
У Либахов нежданно возникла исчезнувшая на два месяца Марья Кузьминична. И, возникнув, немало удивила. Она пришла с прописями доктора Вельде для детей и огромной просьбой: хоть микроскопическую дозу малинового варенья. По ее взволнованному рассказу, она стала матерью двух десяти – одиннадцатилетних девчушек, доставшихся ей вместе с Исааком Моисеевичем Бакманом.
– Исаак Моисеевич, – щебетала Марья Кузьминична, почему-то понизив голос, – чудный, интеллигентный человек. У него какое-то дело. Что-то вроде торговли. Я, разумеется, не вникала. Правда, – Марья Кузьминична еще понизила голос, – после гибели жены, Ревекки Марковны, он малость… малость не в себе… – Она сделала круглые глаза. – Когда находит на него, садится и смотрит в угол. Не слышит ничего, а иной раз и слезы в глазах… Я дам ему посидеть, а после «заклинания», что мне доктор Мокиевский произносить велел…
– Заклинания? – Татьяна и Зинаида Францевны только сокрушенно качали головами.
История Ревекки Марковны, бесследно сгинувшей в подвалах на Гороховой, 2, взволновала тетушек Сеславинского, и дополнительно к банке малинового варенья Марье Кузьминичне были выданы какие-то капли, спирт, вощеная бумага для компрессов и красный стрептоцид, хранившийся «как зеница ока». А Татьяна Францевна, закончившая курсы сестер милосердия при сестринской общине принца Ольденбургского, вызвалась немедленно отправиться вместе с Марьей Кузьминичной и ухаживать за ее приемными детьми.
Известия о новых жертвах Гороховой приходили каждый день и стали уже привычным делом. Вроде разговоров о грабежах на Сенной, ограблении в Перекупном переулке или убийствах из ревности где-нибудь на Лиговке. Первый страшный и почти невыносимый шок, охвативший всех после 30 августа – убийства комиссара Урицкого, ареста и расстрела пятисот заложников, призыва, а точнее всеобщего газетного воя, славящего «красный террор» и зовущего к нему, этот первый шок – прошел. Сменившись необычным чувством ожидания ужаса. Об арестованных, их мучениях и расстрелах на Гороховой говорили шепотом, оглядываясь, но говорили везде: в очередях (их теперь называли «хвосты»), в храмах накануне и после службы, в театрах и гостях, куда ходили все реже.
Террор, возможность внезапно и безвинно погибнуть странно гипнотизировал общество. Было чувство, словно гигантский невидимый сизо-красный петух стоит на чудовищных когтистых лапах, наклонив голову, и внимательно высматривает жертву. Жертвы под этим косым взглядом вздрагивали, старались быть незаметными, пытались слиться с толпой. Не выделяться ни шляпкой, ни слишком новой одеждой, даже не говорить громко. Но чудовище клевало и клевало, выхватывая из окружения Либахов то протоиерея Орнатского с сыновьями – офицерами, то мелкого банкира Чистовича и служащего в его банке, то горького пьяницу-краснодеревщика, занимавшего подвал в их доме, выходившем на набережную, то… Исчезнувших было так много, что в это невозможно было поверить. Как невозможно понять страшные правила, закономерности террора. Хотя правила эти непрерывно провозглашались вождями большевиков: никаких правил и закономерностей нет, никакой вины не требуется, никто «из бывших» не гарантирован от ужасного и мгновенного удара клювом сверху! Так требуют «законы революции», которая «не делается в белых перчатках», которая «требует жертв», жертв и жертв. Сначала казалось, что городские слухи, распространяющиеся со скоростью эпидемии, чудовищно преувеличивают и число жертв, и невероятные мучения и издевательства, которым эти жертвы подвергались. Оказалось – нет! Можно содрать кожу с живого человека или «только перчатки», посадить на кол перед ликующей толпой, разбивать головы кувалдой, заведя для этого специальную наковальню, обливать водой на морозе и раздирать, привязав к бешено рванувшимся лошадям. И ожидания ужасов, и сами мучения были так оглушающе невероятны, что люди вдруг (или почти вдруг) потеряли порог чувствительности – привыкли к ним. Ужасы стали знакомы и ожидаемы, как непогода, дождь или осенние наводнения Невы. Кое-кто даже пытался предсказывать приливы и отливы террора, как предсказывают плохую погоду опытные моряки, видя солнце, садящееся в кровавые облака.
Но эти привыкшие к террору как к неизбежности люди были уже другими людьми. Не похожими на тех петербуржцев, которые прогуливались по Невскому перед войной, раскланиваясь со знакомыми и разглядывая летние наряды дам. Те – исчезли. Пропали навсегда. И не только в подвалах на Гороховой. Само нахождение возле лап чудовища, высматривающего сверху очередную жертву, мгновенный удар и бесследное исчезновение в утробе монстра родных, близких, дальних, знакомых и незнакомых замораживали людей, делая их бессловесно – нечувствительными, словно стеклянный, холодно-равнодушный взгляд чудовища выхолащивал души, оставляя лишь незнакомо – узнаваемую оболочку бывших петербуржцев. С пыльными шляпными коробками на шкафах и мутными остатками французских духов в павловских и екатерининских туалетах.
А Сеславинский впервые был счастлив. Неловко быть таким счастливым в странном, замершем, неухоженном и запуганном городе.
Он всегда любил Петербург. С момента, когда благодаря соседу по имению князю Радзивиллу увидел его в окошко авто, направляясь в Пажеский корпус. Князь Эдмунд Радзивилл, решивший судьбу Сеславинского, худой старик в сверкающем золотом парадном мундире, сидевший в папенькиной «турецкой» комнате со старинной трубкой, вдруг поймал костлявой рукой шмыгнувшего мимо Александра и, глядя на отца, сказал, пыхнув сладковатым, противным дымом: «А этого я бы в Пажеский корпус определил, самое ему там место! Третьего дни собираюсь в Петербурге быть, сам его и отвезу, представлю!»
Так Сеславинский увидел Невский проспект, поразивший его: после ярославских улиц Невский был немыслимо красив и длинен. А шпиль Адмиралтейства иногда даже снился ему.
Сеславинский был счастлив, не скрывал и не мог скрыть этого. Даже начальник УГРО Аркадий Аркадьевич Кирпичников, обычно не интересовавшийся ничем, кроме уголовных расследований, поднял как-то голову от папок с делами и, улыбнувшись, что бывало совсем редко, спросил:
– Не иначе влюбились, Александр Николаич, что-то прямо сияете?..
– Не только влюбился, но и женился.
– Что же в известность не ставите? А я вас, по неведению, всё в ночные дежурства да патрули посылаю… – Кирпичников поиграл морщинами на подвижном лице, изображая растерянность. – Поздравляю сердечно! Кого, поинтересуюсь, осчастливить изволили? – И, вслушиваясь, приложил ладонь к уху. – А где дама сердца проживает? Гороховая, 57? Знаменитый дом… Купца Саввы Яковлева или еще купца Евментьева называют… Там рядышком, в 55-м доме знаменитейшее убийство в самом начале века произошло. – Он прикрыл глаза и почмокал губами, как от удовольствия. – А в конце-то концов едва убийцу не упустили… Забежал как раз в 57-й дом, в ротонду, и грозил вниз броситься! – Он полистал тетрадочку, отыскивая что-то, интересующее его, и по-стариковски поднял глаза на Сеславинского поверх очков. – Вам ведь теперь, поди, и о жилье побеспокоиться придется? Ко мне вчера замечательная дама приходила, артистка Грановская. Мы с ней с давних времен знакомцы. Когда-то, как и положено знаменитым артисткам, ее собственная горничная ограбила. Очень звонкая история получилась. Сговорились горничная, кучер – ее любовник – и ростовщик с Апраксина двора и ограбили. Все драгоценности выгребли, покуда Грановская по провинции на ангажементе разъезжала! А знаете, кто их сдал? Нет? Не догадались?.. Ростовщик и сдал! Половина драгоценностей оказались фальшивыми, польская подделка! Негодяи на суде утверждали, что ростовщик их надул, якобы драгоценности были настоящие, а тот их подменил! Да, – он поправил очки, – очень звонкое дело получилось, очень… И весьма для популярности Елены Маврикиевны полезное…
Кирпичников снял очки и протер глаза чистейшим, сияющим всегдашней белизной носовым платком.
– Приходила Грановская вчера, – другим уже тоном сказал он. – Донимают из домового комитета относительно уплотнения. Спрашивала, не можем ли чем-нибудь помочь… Не желаете с артисткой жилье разделить? У нее на Пантелеймоновской прекрасная квартира. И хорошо надвое делится. Она просит комнаты окнами во двор, а вам останутся – на Пантелеймоновскую, с видом на церковь. Я обещал подобрать порядочного человека… – Он помялся. – Из наших. Чтобы домовой комитет лишний раз артистку не беспокоил… Там на балконе кариатиды стоят, рыцарь с дамою… Как раз для молодоженов. Возле этих кариатид Елена Маврикиевна и прятала драгоценности! Настоящие. А те, что сперли, – стекляшки сценические были! А? Звонкое дело!
Жить в одной квартире с великой актрисой!.. Елена недавно была в «Пассаже», театре, построенном на репертуаре Грановской, и взахлеб пересказывала отдельные номера, скетчи, реплики… Особенно публике нравилось, когда актриса «ловила рыбу» – с помощью театральной удочки «вылавливала» из зала портреты, шаржи на «вождей революции» и тут же весьма комически и едко изображала их.
Грановская же, узнав, что высокий красавец, явившийся к ней от «самого Кирпичникова», еще и выпускник Пажеского корпуса, пришла в такой восторг, что вместо двух комнат, поначалу отведенных семейству Сеславинского, отдала и третью.
– Голубчик, – она распахнула дверь в комнату, залитую зимним солнцем, – вам при такой должности совершенно невозможно без библиотеки и кабинета! И кроме того, у меня же есть к вам свой интерес! Да! – кокетливо ответила она на недоуменный взгляд Сеславинского. – На днях является какой-то человек, представляется хозяином французской прачечной, просит билет на спектакль, говорит, что он в восторге от моей игры и… – она трагически дотрагивается до рукава Сеславинского: – и мы с горничной не можем выставить его из квартиры! Он говорит и говорит! – Она игриво, чуть-чуть оттолкнула Сеславинского, словно это он «говорил и говорил». – И тут выходите вы, в парадной форме!
– Должен вас огорчить, – поддержал домашний скетч Сеславинский, – у меня нет парадной формы, но я готов выйти против хозяина французской прачечной с саблей.
– Браво! – Актриса крепко сжала запястье Сеславинского. – Этого будет вполне достаточно!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































