Текст книги "Опыт № 1918"
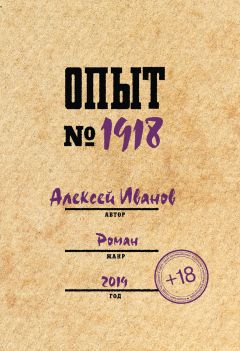
Автор книги: Алексей Иванов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 32 страниц)
Глава № 31
Лакей, оставшийся еще от елисеевского хозяйства, отворил и с почтительным поклоном держал роскошные зеркальные двери, хотя гости только вышли из авто и остановились перед входом, что-то оживленно обсуждая. Рядом с «хозяином города» Зиновьевым Горький казался непомерно высоким и басовитым.
– Благодарить будут вас, Григорий Евсеевич, – гудел он, с интересом глядя в ярко освещенный вестибюль, – будут благодарить!
В бывшем Елисеевском дворце, доме купца Елисеева, по случаю почетных гостей разожгли даже мертвую всю зиму котельную: из калориферов приятно обдувало теплом, хотя большинство гостей так и не решились снять пальто.
Комендант Роганец, шепелявя и приседая для важности, рассказывал, сколько комнат особняка предполагается отдать богеме, которая по мысли Григория Евсеевича (и с подачи Горького) должна была революционный порыв масс достойно отразить в искусстве. Богема идею весьма одобрила: голодная и жестокая зима быстро смирила гордыню.
– На сегодня у них диспут намечен, – комендант кивнул на плакат, установленный в вестибюле, возле роскошной мраморной лестницы. На нем рукой художницы Щекатихиной были изображены какие-то цветные вихри, в которых, если присмотреться внимательно, можно было разобрать тему диспута, написанную кривыми, пляшущими буквами: «Время и революция».
Важные гости поднялись по лестнице, наверху было чуть теплее. Горький даже распахнул пальто. Шляпу он держал в руке.
В белом зале, украшенном роскошными хрустальными люстрами и громадными хрустальными же канделябрами, сидели несколько человек довольно диковинного вида: кто-то в пальто и валенках, кто-то во фраке и тяжелом вязаном шарфе, дамы курили, стряхивая пепел в медный таз, стоявший на изящнейшем ломберном столике.
– Алексей Максимович! Милости просим!
– Рад, рад повидаться, Фёдор Кузьмич! Давненько не встречались. – Горький торжественно пожал руку поднявшемуся ему навстречу мужчине, кутающемуся в пальто. – Время, видите, такое, не до дискуссий, хотя и хочется кое-что обсудить в своем, что называется, кругу, – он повернулся к Зиновьеву. – Позвольте представить, Фёдор Кузьмич Сологуб, поэт. Божьей милостью поэт.
Зиновьев и Сологуб на расстоянии обменялись поклонами.
– Предполагаете выступить, Алексей Максимович? Обещались и Александр Александрович Блок подойти, и Гумилёв Николай Степаныч, Минский, Михаил Кузмин, Волошин в Петрограде, из Москвы сегодня как раз Осип Мандельштам, из молодых – Оцуп, Каннегисер…
– Каннегисер? – поднял брови Зиновьев.
– Говорят, талант, надежды подает. – Горький поиграл морщинами. В этот момент он напоминал умную, старую собаку. – Хотя сам не слышал, не имею чести знать… С отцом его приходилось иметь дело. Бывал у него и в Николаеве, он судостроительным производством там командовал, знатный, говорят, инженер, и в Питере, в Сапёрном переулке бывать доводилось… Помогал нам, большевикам, деньгами, помогал. Этого не отнимешь…
– Я слышал, он и эсерам помогал? – огрызнулся Зиновьев. – На их газетенки денежки ссуживал!
– Это ж Богу одному известно, кто кому помогал… Но нам добро-то не к лицу забывать…
Горький всей душой презирал Григория Евсеевича и весь его жадный до власти и благ, ею приносимых, семейный клан. Зиновьев отвечал ему тем же. Недоучившийся сын молочника Аарона Радомысльского не в состоянии был осознать, что Горький, выходец из той же мещанской среды, мог стать всемирно известным писателем. И не читал – в уверенности, что ничего хорошего он написать не способен. Было и еще одно обстоятельство, в котором Григорий Евсеевич ни за что бы не признался. Он яростно, по-мальчишески завидовал Горькому. Но вовсе не таланту и известности, а успеху у женщин. Он так нравился самому себе, что был убежден: всякий человек, женщина или мужчина (многие считали, что мужчины – особенно), обязан влюбиться именно в него. И брак, сожительство, а тем более влюбленность в кого-либо другого воспринимал как измену.
Сопровождаемые свитой, они поднялись по лестнице, переговариваясь неохотно, но как бы смирившись с обстоятельствами, которые бывают сильнее неприязни.
Просторный зал между тем наполнялся, появились откуда-то стулья, столы, столики, зашумели студенты, не поладив с молчаливой и важной охраной вождя. Горький покосился на Зиновьева – тот, не слушая Сологуба, рассматривал расписной потолок.
– Не желаете ли, Григорий Евсеевич, открыть дискуссию? – Горький чуть наклонился к Зиновьеву. – «Время и революция», тема-то хороша. Ваша тема. Да вот и Александр Александрович появился, – он махнул рукой, подзывая Блока. – Вы ведь знакомы?
Блок, озиравшийся по сторонам, будто отыскивая кого-то, кивнул, улыбнувшись кривовато:
– Минского не вижу, должен был мне книжку принести.
– А стихи будете читать, Александр Александрович? – дама в шляпке, оказавшаяся сестрой Зиновьева, положила ручку в тугой перчатке на рукав Блока. – Попросим вас, Александр Александрович!
Блок покивал ей быстро и меленько, поклонился и отошел к своим, живописной группой расположившимся в углу.
Вспыхнули празднично и забыто громадные хрустальные торшеры. Сквозь толпу протащили дополнительные стулья и расставили вокруг столика, за которым, как предполагалось, будут сидеть почетные гости. Народ все прибывал, мест в зале уже не было, желающие услышать дискуссию толпились в дверях. Розовощекий, с косым приказчичьим пробором, Всеволод Рождественский, занявший какой-то пост в комитете писателей и исполнявший нынче роль распорядителя, попросил внимания:
– Предполагалось, что дискуссию по обозначенной теме откроет Николай Степанович Гумилёв, но по неизвестной причине он пока что опаздывает.
– Да его с дамами в «Дононе» видели, водку пьет! – пробасил кто-то из «богемного» угла.
– Однако у нас сегодня неожиданные дорогие гости, Алексей Максимович Горький и Григорий Евсеевич Зиновьев, председатель Петроградского совета…
– Горького, Горького! – зашумели в дверях.
Горький поднялся из-за стола.
– Дорогие мои, благодарю вас, но слово, по праву, должно принадлежать уважаемому Григорию Евсеевичу. В том, что дом этот, дворец, можно сказать, купца Елисеева, государство решило предоставить работникам искусства, заслуга нашего сегодняшнего гостя, товарища Зиновьева. Которому, я предполагаю, мы все с удовольствием предоставим слово, – Горький символически похлопал, глядя на Зиновьева.
– Товарищи! – Зиновьев встал. Быстрый, резкий, громкоголосый, еще только начинающий полнеть. – Благодарю за предоставленную возможность выступить перед вами, творческими людьми, на которых мы, партия и трудящиеся массы, возлагаем большие надежды! Мы отдаем вам этот прекрасный дворец, хоромы сбежавшего от революционной бури купца Елисеева, зная, что в ваших силах превратить этот бывший вертеп, где строились планы ограбления народа, угнетения трудящихся масс, в настоящий дворец пролетарского искусства!
Бокий, припоздавший к началу, протиснулся сквозь толпу в дверях и подошел к Блоку, сидящему возле окна (они были знакомы со времен следственной комиссии по работе Временного правительства). Блок приоткрыл глаза, чуть качнулся в сторону докладчика, словно в дреме, и едва слышно спросил:
– Это надолго?
– Надолго, если не остановить! – Бокий передернул плечами, из окна поддувал сырой сквознячок. – А если на международное положение перейдет, считайте, до ночи никому не даст слова сказать!
Как бы услышав Бокия, Зиновьев заговорил о результатах Брестских переговоров и свинцовых тисках Антанты.
– Началось! – шепнул заговорщицки Бокий Блоку.
– А я с вами не соглашусь! – проснулся вдруг Блок и встал, уловив паузу в речи Зиновьева. – Я недавно в дневник даже записал, что позор трех с половиною лет – с войной и патриотизмом надобно смыть! За рванью немецкою, за всеми этими Антантами мы потеряли исторический взгляд на Европу. И потеряли свое историческое европейское лицо. Мы на них смотрели как на арийцев! Пока у них было лицо…
Бокий увидел, как Горький остановил вождя, положив громадную руку на его рукав. (Блоку дорого обойдется это выступление. Никто, даже однопартийцы, не решались перебивать Зиновьева, зная его злопамятность. Смертельно больному Блоку именно Зиновьев не разрешит отъезд за границу и сунет в стол разрешение на выезд, пришедшее из Москвы в ответ на письма Горького и петроградской интеллигенции.)
Зал вспыхнул овацией и тут же умолк, повинуясь кивку Блока.
– Я знаю и по газетам вижу, что многие, отвлекшись на революционные порывы, забыли, отбросили историческую роль государства российского перед миром. Мы всегда стояли форпостом, стеною, крепостью между Западом и Востоком. И вот Запад, не только ощерившиеся в смертельной судороге немцы, но и Англия с Францией, обернулся к нам не арийским лицом, которое мы с такой надеждою рассматривали. Радость от возможности погубить, обрушить Россию исказила это лицо, сорвала, смыла маски. «Демократический мир» ради радости уничтожения России губит революцию! А значит, господа европейцы, вы уже и не арийцы больше! В ответ мы широко откроем ворота, и пусть на вас прольется Восток, а ваши шкуры пойдут на китайские тамбурины. Мы – варвары? Хорошо же. Мы и покажем вам, что такое варвары. И наш жестокий ответ, страшный ответ – будет единственно достойным человека!
Пока Блок пережидал аплодисменты, Бокий с удовольствием наблюдал за Микуличем и высоким, ростом почти с гвардейца Микулича, Каннегисером. Рядом с ними стоял невзрачный, в очках, с жиденькими усами на породистом лице человек, почему-то в галифе, к которому Микулич наклонялся время от времени и оживленно что-то говорил. Тот рассеянно кивал.
«Перельцвейг», – догадался Бокий.
– «Скифы», «Скифы»! – стали кричать из толпы.
– Пожалуйте сюда, Александр Александрович, – Горький жестом пригласил Блока к столу. (И этой обиды Зиновьев не простит: мало, что один прервал речь, другой и вовсе лишил его права голоса. После этого вечера все просьбы Горького, обращенные к Зиновьеву, перестанут исполняться. А в ответ на поддержку «пролетарского писателя» из Москвы Зиновьев научился включать бесконечную бюрократическую процедуру.)
– «Скифы», «Скифы»! – вперемежку с аплодисментами.
– Я не очень люблю это стихотворение в одной линии с политическими манифестами… – Блок, потирая лоб рукой, посмотрел вдаль, поверх голов. – Я решил предварить это стихотворение эпиграфом блистательного ума нашего, поэта и философа Владимира Сергеевича Соловьева. «Панмонголизм! Хоть имя дико, но мне ласкает слух оно, как бы предвестием великой судьбины Божией полно…» – Блок вздохнул – в полной тишине зала было слышно его дыхание – и начал читать. Так, как читал свои стихи только он – с трагической и мрачной интонацией:
– Мильоны вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы…
После «Скифов» его просили читать и читать, уход Зиновьева с Горьким, хоть слегка и поаплодировали им обоим, почти не заметили. Бокий вышел вслед за ними и с удовольствием наблюдал, как Горький озирается по сторонам, пытаясь отыскать его. Это было забавно. Он сделал шаг навстречу.
– Мне Мокиевский просьбу вашу, Алексей Максимович, передал. – Бокий был одного роста с Горьким и, не мигая, смотрел тому в глаза. – Очень трудно… – он как бы запнулся, – трудновыполнимая просьба. Относительно великих князей, других особ императорской фамилии из Москвы особое распоряжение вышло…
– Однако же выполнимая, – в желтых глазах Горького вспыхнули огоньки, которые он тут же погасил. – Вот и Александр Александрович говорил, что лицо-то у нас должно быть арийским. Не так ли? Да и налево, как у вас в Чеке принято говорить, отправить великого князя – невелика заслуга! А спасете – век будут помнить. И я к общей просьбе питерской интеллигенции горячо, горячо присоединяюсь! – Горький приподнял шляпу, уже было надетую. – Желаю успеха вам и очень, очень надеюсь!
Бокий резво поднялся назад, в белый зал. Там уже разгорелся обычный для сборищ поэтов скандал. Осип Мандельштам, появившийся вместе с Волошиным и первой красавицей Саломеей Андрониковой (Соломинкой), нападал на Всеволода Рождественского, который, по его словам, осмелился читать после Блока.
– Кто вы такой?.. – кричал Мандельштам, пытаясь заглянуть в глаза высокому Рождественскому.
– Ося, мы же с вами… – начал было растерянный Рождественский, который предыдущие сутки провел с Мандельштамом, кормил и поил его, пряча «от полиции»: Мандельштам в очередной раз ввязался в скандал в московском кафе «Домино».
– Кто вы такой, чтобы выступать после Блока со своими виршами?..
– Ося, я просто ведущий, я хотел восстановить порядок!
– Я вам не Ося!
Волошин, в восторге от соседства с Саломеей, подругой всех поэтов, и от любимой атмосферы легкого литературного скандала, крикнул:
– Всеволод, предложите Осипу почитать свое!
– Я не хочу читать, – по-птичьи повернулся к нему Мандельштам. – В присутствии Саломеи я могу только говорить нежности! – Но тем не менее скинул на стол ведущего шубу, явно с чужого плеча, и вытянулся, бросив сжатые в кулаки руки вниз.
Ещё сражаться надо много,
И многим храбрым умирать,
Но всё ж у нашего порога
Чужая разобьётся рать.
В победу мы смиренно верим
Не потому, что мы сильней.
Мы нашей верою измерим
Святую правду наших дней.
Когда над золотою рожью
Багряные текли ручьи,
Не опозорили мы ложью
Дела высокие свои.
Да, не одною сталью бранной
Народ наш защититься мог:
Он – молот, Господом избранный!
Не в силе, только в правде Бог.
Разрушит молот козни злые,
Но слава Господу, не нам, —
Он дал могущество России,
Он даст свободу племенам.
– Браво, браво! – вскипел аплодисментами зал.
Мандельштам откинул голову и сделал картинный жест рукой, как Пушкин, читающий Державину.
– Господа, я к этому стихотворению отношения не имею. Вот автор, Фёдор Сологуб! Фёдор Кузьмич, почитайте, пусть почтенная публика услышит русскую поэзию!
Бокий с интересом смотрел на автора «Мелкого беса» и «Слаще яда». Стихов Сологуба он не знал. Да и видел его впервые, хотя память привычно выбросила строчку из досье: «Среди поэтов прозвище его „Кирпич в сюртуке”». Забавно, но Сологуб и сейчас был в сюртуке.
– Благодарю за прекрасное чтение, Осип. – Сологуб суховато поклонился Мандельштаму. – Но сегодня у нас гость залетный и редкий, – он повернулся к широкоплечему толстяку, что-то шептавшему на ушко Саломее. Та хихикала и сверкала черными глазами-бриллиантами.
– Фёдор Кузьмич, уволь, прошу тебя, – неожиданно высоким голосом проговорил Волошин. – Пусть молодежь почитает, дай нам с Саломеей посплетничать!
– И то дело, – Сологуб кивнул Рождественскому. – Всеволод, дайте слово!
Рождественский, оглянувшись на Мандельштама (но тому уже было не до него, он сидел возле Андрониковой, стараясь отвлечь ее от молодежи Волошина), подозвал к столу Каннегисера.
– Леонид Акимович, публика просит!
Каннегисер вышел, словно стесняясь своего роста, красоты и ловко сидящей на нем офицерской шинели.
– Леонид Акимович – ближайший друг Есенина и Кузмина, блестящий поэт…
– Я сейчас ближе, скорее, с Николаем Степановичем Гумилёвым, – негромко сказал Каннегисер. – В его студии…
– «Смотр», если можно, – попросил Сологуб и захлопал бледными, деревянными ладонями. Аплодисменты подхватили немногие.
Каннегисер чуть прикрыл глаза:
– «Смотр», стихотворение написалось в прошлом году, 27 июня. В Павловске.
На солнце, сверкая штыками —
Пехота. За ней, в глубине, —
Донцы-казаки. Пред полками —
Керенский на белом коне.
Он поднял усталые веки,
Он речь говорит. Тишина.
О, голос! Запомнить навеки:
Россия. Свобода. Война.
Сердца из огня и железа,
А дух – зеленеющий дуб,
И песня-орёл, Марсельеза,
Летит из серебряных труб.
На битву! – и бесы отпрянут,
И сквозь потемневшую твердь
Архангелы с завистью глянут
На нашу весёлую смерть.
И если, шатаясь от боли,
К тебе припаду я, о, мать,
И буду в покинутом поле
С простреленной грудью лежать —
Тогда у блаженного входа
В предсмертном и радостном сне,
Я вспомню – Россия, Свобода,
Керенский на белом коне.
Стихи Каннегисера публика приняла вяло, а когда он все же по просьбе Рождественского прочитал новое стихотворение, к нему смешной, неуклюжей побежкой подлетел Мандельштам:
– Зачем вам писать стихи? Бросьте это, стихи у вас будут получаться плохие, хуже этих! Эти – труха, какая-то протухшая романтика, приправленная… этим… Керенским! Это даже хуже, чем Рождественский!
– Я в студии Николая Степановича… – смутился Каннегисер.
– Гумилёв сам написал километры чепухи! Одно стихотворение из тридцати… нет, из пятидесяти стоит, чтобы его читать!
– Осип, – окликнул Мандельштама Волошин, – дай людям почитать стихи!
– Это даже хуже, чем Каверин, который выдает себя за поэта! Я ему сказал, что от таких, как он, надо защищать русскую поэзию!..
Бокий с удовольствием смотрел на разгорающийся скандальчик. Мандельштам ему нравился. Щуплый, маленький, егозливый, с залысинами и реденькими волосами, он вдруг из шута неожиданно становился еврейским пророком. И снова – неряшливым, крикливым мальчишкой с волосиками дыбом.
– Осип, – Саломея нежным голосом постаралась перекрыть крики Мандельштама и Рождественского, пытающегося навести порядок, – мы собираемся уходить!
– …и пошли вы к черту! – Мандельштам повернулся и бросился к выходу, раздвигая руками людей, стоящих в дверях. – Я знаю, что Макс про меня наврал вам, будто я спер у него свою собственную книжку. Макс – брехун, каких свет не видывал!
Волошин, улыбаясь, что-то нашептывал очаровательной Саломее.
Бокий поднялся и вышел вслед за Мандельштамом. Тот в коридоре дергал ручки всех дверей, потеряв выход.
– Позвольте вам предложить папиросу, Осип Эмильевич! – Бокий протянул портсигар. – Я, правда, предпочитаю, табак покрепче, турецкий…
– Вы меня знаете? Откуда? – Мандельштам остановился против высокого Бокия. – Мы разве с вами знакомы?
– Лично – нет, – улыбнулся Бокий, разглядывая это странное лицо. Таких в его коллекции еще не было. Закрывает глаза – провинциальный еврей, откроет, распахнет – ангел. – Но я много знаю о вас и рад познакомиться.
– Что значит – много, что вы знаете? – вскинулся Мандельштам.
– Хотя бы то, что вы приехали в Петроград прятаться от Блюмкина, которому дали по морде.
– По морде я не давал, – вдруг съежился Мандельштам, – я просто выхватил у него эти бумажки… Понимаете, он был пьян, как гомельский сапожник, и размахивал подписанными ордерами на арест! Пустыми! И кричал – впишу любого и через два часа его не будет! Я их выхватил и разорвал! – Он вдруг с испугом посмотрел на Бокия. – А откуда вам известно про этого подонка Блюмкина?
– Мне даже известно, что это было на Петровке, в «Табакерке»!
– А вот и нет! – Мандельштам захохотал, забрасывая голову назад. – Не в «Табакерке», а в «Домино» на Тверской! – он был счастлив, что незнакомец ошибся. – Представляете, он погнался за мной с пистолетом, подонок! Но я ведь знаю там все проходные дворы! – Он опять горделиво закинул голову. Ему нравилось знать все проходные дворы на Тверской. – Простите, – вдруг спохватился он, – с кем имею честь?
– Меня зовут Бокий, Глеб Иванович Бокий. Я заместитель начальника Петрочека.
– Да-а-а, – по-детски протянул Мандельштам. – Вы пришли меня арестовать? Из-за этого подонка Блюмкина?
– Нет, я пришел познакомиться с вами…
– У вас хорошее лицо, хоть вы меня и обманываете, – сказал вдруг Мандельштам. – Если бы вы не сказали, что вы чекист, я решил бы, что вы ученый.
– Я отчасти и есть ученый, – улыбнулся Бокий. – Я занимаюсь проблемами мозга, восточными оккультными науками…
– Правда? – обрадовался Мандельштам. – Меня это очень интересует!
Они вышли на парадную лестницу и медленно, споря и жестикулируя, начали спускаться вниз, останавливаясь едва ли не на каждой ступеньке. Так и шли: высокий и маленький, элегантный даже в своем старом плаще Бокий и встрепанный, в пиджаке с оторванными пуговицами и драных башмаках Мандельштам.
Два гения, рожденные искалеченным временем.
Двух существ, более непохожих друг на друга, нельзя было представить. Странно было видеть их, спускающихся вместе по дивной красоты лестнице, устланной красной ковровой дорожкой. Двух гениев – злодейства и добра, спускающихся по мягкому ковру лестницы с елисеевскими лакеями, замершими внизу в полупоклоне. Каждый – к своему крестному и мученическому пути. Один – утащивший с собой тысячи и тысячи жертв, другой – ставший символом страданий и гибели этих тысяч и тысяч.
– Осип, – вдруг позвал Мандельштама Волошин, появившийся наверху, – Осип, куда же вы без шубы? Вы не забыли – Саломея приглашает нас сегодня в «Донон»!
Мандельштам, словно очнувшись от обаятельного морока, исходившего от Бокия, радостно прокричал:
– Иду, Макс, иду!
И повернулся к Бокию:
– Рад, душевно рад был познакомиться!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































