Текст книги "Опыт № 1918"
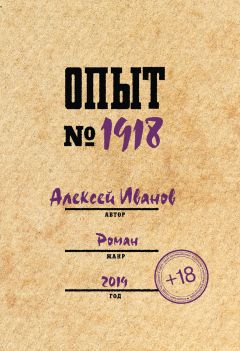
Автор книги: Алексей Иванов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 32 страниц)
Глава № 9
Прошлогодний Февральский переворот, как и все перевороты в России, прошел незамеченным. Просто чаще стали раскатывать по булыжникам автомобили с солдатами, все вдруг украсили себя красными бантами и впали в детскую эйфорию: все можно, все дозволено. Как обезумевший от нечаянной свободы гимназический класс, в который не пришел по болезни учитель, вырвались на улицы студенты, курсистки, мелкие чиновники; вырвались, ожидая строгого окрика надзирателя, – но окрика нет! И хмель ударил в головы – так ударяет впервые выпитое подростком шампанское: свобода, свобода, свобода! Бабахнули где-то вдалеке совершенно нестрашные выстрелы, промчались, весело дребезжа, на стареньком «Рено» солдаты с бантами, винтовками и пулеметом на грузовой платформе, затакал возле моста через Обводный пулемет из башни углового дома, толпа шарахнулась было, и тут же побежала навстречу нестрашным выстрелам: убить, немедленно убить того, кто стрелял! Развернули грузовичок с пулеметом, но не успели пристроиться и открыть по злодею огонь, как вдруг мелькнуло что-то в мансардной выси дома, что-то блеснуло, и тряпичной куклой из окна вывалился человек. Толпа ахнула, взвыла от восторга и побежала смотреть: кто, кто это? Человек, выпавший (выброшенный?) из окна, на злодея похож не был. Был он в аккуратных бороде и усах, почему-то без пальто, в визитке, при галстуке и даже в калошах, отлетевших прочь от удара о мостовую. Лицо медленно покрывалось бледностью, из-под темных волос потянулась струйка крови. Что этот человек делал там, наверху? Почему стрелял из пулемета? И по кому стрелял? И откуда взял пулемет? Да и он ли стрелял? Толпа застыла в недоумении, плотнее окружая первый увиденный ими в дни переворота труп, сзади давили, напирали от нетерпения: убили, убили того, кто палил вдоль Забалканского! Передние придвигались к трупу неохотно: смерть, как всякая смерть, пока еще внушала уважение. Будь их воля, стоявшие первыми подались бы прочь от страшного тела. Тут выскочил непонятно откуда мужичонка в рванине, шапка на одно ухо, глаза дикие от сивухи: «Братцы, да это ж городовой, я ж его знаю! Городовой это! Ишь, приоделся, как будто на свадьбу!» – и, схватив покойника за ногу (башмак при этом соскочил с ноги), поволок его к набережной, Обводного. «Городовой!» – возликовала толпа, радуясь более всего, что наконец-то появилась ясность. Как сразу-то не поняли, кто ж еще мог по проспекту, полному людей, палить? Ясно, что городовой! И тут же нашлись помощники, подтянули, оттискивая толпу, тело к набережной да и скатили вниз, по крутому откосу, к мутно – желтой мартовской воде.
Что делать дальше, никто не знал. Вид поплывшего спиною вверх трупа тоже не радовал, но вдруг кто-то из стоявших сзади взметнул небольшие красные флаги, и студенты из Техноложки запели что-то по-французски. «Марсельеза», «Марсельеза!» – загомонили знатоки, но «Марсельеза» тоже как-то увяла, и толпа потихоньку начала расходиться. Потихоньку, будто все ощутили чувство вины: то ли перед этим человеком, сброшенным зачем-то в канал, то ли друг перед другом – с чего это сорвались и побежали толпою, сами не понимая, куда и зачем?
Мальчишки понеслись через мост, по широкому мощеному проспекту с криками: «Городового убили! Городового убили!» И умолкли, только когда, добежав до трактира «Новгород», получили хорошие щелбаны от половых, вышедших на проспект. Что там у вас в городе ни происходи, а у нас в трактире порядок, раз и навсегда установленный. Пить – запрещено, пьяным появляться – не моги, выкинут на улицу и костей не соберешь, подпевать оркестру или певцам – можно. Но лучше сидеть тихо, порядок соблюдать за чаем и смотреть, как вдоль стены бегает натуральный паровозик с игрушечными вагонами, пыхтит натуральным же паром и даже гудит время от времени, как на большой железке.
Сразу за трактиром возвышалась громада доходного дома, выстроенного купцами Растеряевыми, хозяевами городских складов. Из окон заднего флигеля вид открывался прямо на их склады. От этой громады и пошли вдоль по Смоленской улице доходные дома, построенные местными богатеями: Зеленцовыми, Удаловыми, да и теми же Растеряевыми. Место становилось бойким: хоть еще и дымила круглые сутки городская свалка – Горячее поле, что за Альбуминной улицей, еще гнали по ночам скот, заворачивая его в широченные ворота, украшенные золочеными быками Демут-Малиновского, еще немцы-колонисты по утрам погоняли своих битюгов, груженых овощами по сезону, но протянулась по Забалканскому проспекту (старожилы все еще называли его першпективой, а Обводный канал – канавой) не веселенькая конка со звонким колоколом, а натуральный электрический трамвай, и от Технологического института зашагали не газовые – бери выше! – электрические фонари.
Петя Иванов, Пекка, как почему-то на финский манер называли его дома, приехал вовремя. Старые деревянные часы на кухне отбили ровно пять. Пётр Алексеевич был по-военному точен и по-военному немногословен. Приложился щекой к лицу матери, чуть прищелкнув каблуками, пожал руку отцу и крепко тряхнул руку младшему брату.
– Готов? – Георгий молча кивнул, не в силах отвести завороженный взгляд от его жены.
Надежда, как и Пётр, была одета в кожаную куртку, кожаную шляпку-каскетку и… это была несбыточная мечта всякого мальчика: на каскетке неотразимо сияли, бросая блики по всей кухне, автомобильные очки.
– Пекка, – Иванов-старший был простужен и отхлебывал чай с малиной и малиновыми листьями, – ты уверен, что с этим поездом их можно отпустить? Безопасно?
– Батюшка, – Пекка принял налитый ему матерью чай, – поезд литерный, наркомовский. Я все уладил, они поедут в вагоне охраны.
– С китайцами? – удивился Иванов-старший.
– Нет, – хмыкнул Пекка. – Хотя с китайцами было бы вернее.
Надежда уже сняла свою каскетку вместе с очками и теперь было видно, что она взволнована:
– Там всякой твари по паре. Какие-то немцы…
– Ластивка моя, – на украинский манер проговорил Пётр (Надежда была хохлушка), – то ж не нимцы, а венгры. Просто они по-русски ни бельмеса, а по-немецки хоть чуть-чуть могут. – Он ласково положил свою ладонь на руку Надежды. – И латыши там есть, я с ними все обговорил.
– Вот уж кому бы я не доверяла, так это латышам! – Мать, Мария Ивановна, завязала узелок по-деревенски. – Тут пирожки свежие, только поспели. Возьми к чаю! – протянула узелок Надежде. – Эти латыши, скажу я вам… – она покосилась на Георгия. – При ребенке и говорить такое неприлично. Словом, быстро приспособились твои латыши к петроградской жизни. Банты красные понацепляли, революхционеры! – она почему-то, скорее от презрения, именно так и произносила: «революхционеры». – Я бы их истопниками в трактир «Новгород» не взяла бы! Злющие! Глазами так и зыркают! И на водку очень падки.
– А это вы откуда, маменька, знаете? – засмеялся Пётр. – Сухой закон не отменен еще…
– Да на них, шелопаев, никакой закон не закон. Дворники наши, Ахмедка с братом, целую бадью спирта где-то раздобыли. Так эти самые латыши аж дорожку к их сараю протоптали! Уж на что мясники-бойцы лихой народ, а в питейном деле больше порядка знают, чем эти твои латыши!
Семья Ивановых с недавних пор обосновалась на Смоленской улице, рядом с городскими бойнями, и в окрестных доходных домах жили бойцы скота, в основном рязанцы.
– Петенька, – Надежда широко раскрыла добрые голубые глаза, – а откуда они вообще взялись в Петрограде, эти латыши?
– Что-то не о том разговор у нас пошел, – остановил ее Алексей Георгиевич, Иванов-старший. – Дивизий несколько было латышских, немцы им по загривку надавали, хоть они, должное отдам, вояки и неплохие. Но за Россию воевать, да еще с немцами, перед которыми они испокон века шапку ломят, не хотели. И дезертировали. А теперь-то уже и прижились в Питере. Свобода, кормежка, бабский пол тоже под рукой…
– Алексей Георгич, – мать показала глазами на младшего. – Мы же не в казарме!
– И то верно, – согласился Иванов-старший. – Надежда, на тебя, получается, бремя возложим. – Он строго посмотрел на младшего. – Инструкции ему все даны и выписаны, в случае неповиновения, чего быть не должно, прошу достойно выпороть и отослать обратно в Питер.
– Батюшка…
– Сама выпороть не сможешь, попроси кого-нибудь. На это дело всегда желающие найдутся. Что, пора? – он перехватил взгляд Петра, мельком брошенный на часы-кукушку, висевшие на стене. Подарок Милошей.
Они спустились во двор, где вокруг авто, на котором приехали Пётр и Надежда, роились мальчишки.
– Гоха, ты на моторе поедешь?
Это был триумф Георгия. Открытое авто – ландо на дутых шинах, брат Петя в желтой кожаной куртке, в кожаных штанах и крагах, Надежда (он ее немного побаивался) в автомобильных очках и – он, рядом с Надеждой и вещами, – кофрами и тючками.
– Петя, не лишку ли вещей нагрузил? – поинтересовалась Мария Ивановна.
– Маменька, – Пётр взял кривую рукоять для завода и подошел к сверкающему никелем радиатору. – На ее ридной Украйне, – он подмигнул в сторону Надежды, – лишних вещей не бывает. Особенно петербургских.
Авто, несмотря на легкий морозец, завелось с двух оборотов. Петя быстро сел за руль, поиграл какими-то рычажками, отчего мотор чихнул и кашлянул сизым кольцом дыма.
– Петро! – Из окна третьего этажа высунулся старый приятель их семьи Сергей Сергеич Неустроев, главный бухгалтер боен. – Ты все-таки дай слово, что навестишь нашу усадьбу! Там от Гуляй-Поля всего пятнадцать верст.
– С гаком? – отозвался Пётр, чуть прибавляя газу и прислушиваясь к двигателю. Пётр, закончивший, как все Ивановы, Инженерное училище, специализировался на «Русском Рено», и автомобили были его страстью.
– На Украине без гака не бывает!
Коротко обнялись, отец лишних слов не любил. Мать поцеловала Надежду, Георгия и перекрестила их:
– С Богом!
Так началось первое настоящее путешествие Георгия. До этого самым большим приключением были поездки на дачу к старым друзьям отца Кондратьевым, в Келомякки.
Глава № 10
Из окна кабинета Бокию видно было Адмиралтейство, заснеженный, заледеневший Александровский сад, правее, за негустыми по-зимнему деревьями сада угадывалась ржаво-красная сквозь снежный туман громада Зимнего. Он смотрел в окно, «отпустив мысли на волю». Так он расслаблялся, ожидая, когда мозг по одним ему понятным законам заработает как всегда: быстро, четко и, как любил говорить о его «голове» сам Бехтерев, – нестандартно. Для этого нужно только расслабиться, погрузить себя в гипнотическое состояние: ты спокоен, мысли текут медленно и плавно, как кучевые облака на голубом небе… на голубом высоком-высоком небе, и ты лежишь на скошенном поле, пахнет свежим сеном, и облака, подсвеченные солнцем, плывут, плывут, плывут… Расслабиться и отключиться от действительности с первого раза не удалось. Что и понятно, огромное перенапряжение… Иметь дело с психом Урицким… Не будем об этом… Я иду по летнему теплому лесу, мягкий мох под ногами, голова свободна и пуста, мыслей нет, только ощущение свободы, полета, легкости в теле… Ты спокоен, свободен, тебе легко, свободно думается, можно лечь на мягкий мох, мягкие иголочки чуть покалывают тело… Можно представить темный, темный омут… черная вода… Сбрасываем туда все мысли, все, и ждем, пока из сотен, тысяч мыслей, встреч, разговоров появится и сформулируется одна, та самая нужная мысль, одна из глубины омута…
Телефонный звонок вернул его в прокуренный, уставленный шкафами кабинет. Не вовремя позвонили. Он поднял трубку:
– Бокий!
– Глеб Иванович, справки по убийствам и грабежам почему у меня нет?
Урицкий, как всегда, ни здрассьте, ни спасибо.
– Справка передана вчера вашему адъютанту в шестнадцать ноль пять! – Бокий с удовольствием выговаривал эти «шестнадцать ноль пять», чтобы этот «юрист», как он любил себя называть, почувствовал, с кем имеет дело. – Дополнительные сведения и предложения по организации нашей работы переданы ему же сегодня.
Урицкий положил трубку, а Бокий представил, как он морщится и корчит рожи. «Вставить перо», как говаривал Бехтерев, самодовольному Глебу Ивановичу не удалось. Однако блаженное состояние, когда голова начинала работать, исчезло. Бокий снова попробовал сосредоточиться, глядя на деревья с качающимися на ветру ветвями. Он представил, каково сейчас на улице – ветер, мороз, сырая поземка, налипающая на черные стволы деревьев. На улице быстро темнело, в черно-фиолетовом небе еще чуть светилась игла Адмиралтейства. Что за страна! Даже самый красивый в России, европейски прекрасный город – совершенно не предназначен для житья! Страшные зимы, чахоточные вёсны, короткое, блеклое, как финское небо, лето и опять – промозглая, с быстрыми, секущими дождями осень, когда ветер дует в лицо, в какой бы переулок ты ни свернул. Разве что короткое время белых ночей… от белесых сумерек которых ничего, кроме нервных расстройств у барышень… Боже мой, нет, это не Франция, в которой каждое дерево – на месте, камень возле дороги, облако, плывущее над полем, – все, все это чудесно уравновешено, с изяществом брошено великим художником на холст, чтобы последующие поколения любовались… Франция всегда похожа на женщину, прелестную и ветреную, собирающуюся в театр, на любовное свидание, – обольстительную, причесанную, прибранную. А любимая наша Россия – лохматая бабища с похмелья, с синяком под глазом и соломой в грязных патлах. А вот поди ж ты, тянет и тянет всех к этой бабище, что за прелесть особая в ней… Ведь слова «ностальгия» никто, кроме русских, не знает…
Бокий сел в кресло, снова сосредоточился, всматриваясь в темный, страшный омут, и вдруг откуда-то вынырнуло слово: «попы». И следом – «религия». Эти слова еще не успели прокрутиться в голове, еще Бокий не понял точно, что они должны означать, но он уже поднял трубку и вызвал Кобзаря.
– Вы слышали, что в Москве создали отдел по работе с религиозными организациями? Нет? Жаль! Я сам рекомендовал туда очень толкового человека. Тучков, Евгений Александрович. Попрошу вызвать его сюда. И срочно! – Бокий смотрел на своего заместителя, пытаясь понять, то ли он слишком много пьет, то ли… Это «то ли» могло быть и похуже рядового пьянства. Может быть, работает тайно на кого-то? На кого? Уж слишком честно смотрит в глаза…
«Выцарапывать» Тучкова пришлось из Уфы, куда его загнали для наведения порядка среди тамошних крестьян, недовольных изъятием хлеба. Понадобилось даже звонить Дзержинскому. Феликс, люто ненавидевший церковников, пришел в восторг от идеи Бокия.
– Гениально! – это была невиданная оценка обычно сдержанного Феликса. – Как вы сказали, Глеб Иваныч, «государство в государстве»? Гениально! Я сегодня встречусь с Ильичом, привлеку его к этому делу. Там, вы правильно сказали, ценности сумасшедшие сосредоточены, миллионы награблены у народа! Нужно тряхнуть этих церковников!
– Хочу напомнить, Феликс Эдмундович, – мягко остановил воодушевившегося председателя ВЧК Бокий, – мной уже организован подотдел по работе с церковью при Московской Чеке. И начальника я подобрал подходящего…
– Из церковников?
– Из крестьян, но толковый и сообразительный. Я вам пришлю подробности в телеграмме. Но из общего отдела его направили к башкирцам, в Уфу. Хорошо бы срочно оттуда вытащить!
И напрасно думал Бокий, что особый энтузиазм Дзержинского вызван лишним порошком кокаина, которым Феликс поддерживал силы. В кокаиновой «ажитации» он мог кое-что и забыть. Но – нет. Через неделю Тучков собственной персоной сидел перед Бокием, внимательно склонив голову набок.
Среднего роста, крепкий, головастый, аккуратно стриженный и бритый. Глаза посажены глубоко, близко к переносице: внутренняя сосредоточенность и упорство – так говорит физиогномика.
– Нам с вами, Евгений Александрович, – Бокий свернул папироску и предложил свой любимый турецкий табак и специальную, турецкую же, бумагу Тучкову. Тот отказался. – Предстоит великое дело… Великое дело… Наша партия, – Бокий, гипнотизируя, сосредоточил взгляд на переносице Тучкова, – имея несколько десятков тысяч человек, совершила исторический социальный переворот. Первую в мире социальную революцию. Но! – Бокий чиркнул спичкой, поднял ее и замолчал, глядя на желтоватый огонек. Тучков, как и предполагалось, тоже перевел внимание на огонь, подрагивающий в руке Бокия. Это давало дополнительное влияние на мозг пациента. А Тучков в этот момент и был именно пациентом Бокия. – Но в падающем, разваливающемся, гниющем государстве осталась сила, которая способна возродить его и, таким образом, отбросить назад все наши усилия. Что это за сила? – грозно спросил Бокий, привстав и как бы нависая над столом в сторону Тучкова. – Что это за сила, я спрашиваю?! – он прочитал легкий туман в глазах Тучкова, туман, после которого внушения гипнотизера будут, как учил его Бехтерев, восприниматься «без перевода». – Эта сила – церковь, православная церковь. Это государство в государстве, – ему и самому нравилась эта формулировка, – и мы с вами должны разрушить ее, эту силу, это церковное государство. Разрушить и ограбить! Вы слышите меня? Ограбить и разрушить! Поставить на колени, заставить служить нам, большевикам! Согласен, веришь?
– Да! – истово кивнул Тучков. – Верую!
– Вот и хорошо, – Бокий откинулся назад, сел в кресло и пыхнул сигаретой. – Будем работать вместе.
– Четыре класса образования у нас… – с сомнением сказал Тучков.
– Образования нам хватит! – засмеялся Бокий. – Надо привлечь церковников. Среди них есть много недовольных. Белое и черное духовенство. Монашествующие. Перекрывают белому возможности продвижения наверх. Это раз. Есть искренне заблуждающиеся – считают, что церковь нуждается в обновлении, не соответствует духу времени, отстала от современной науки, – он хохотнул, вспомнив беседы о Боге с Мокиевским. Тот был убежден (а еще ученик и сотрудник Бехтерева!), что Бога нет. А если Бога нет, то и дьявола, выходит, нет?
– Работать надо начинать прямо сейчас. Я уже говорил с отцом Александром Введенским. Свяжитесь с ним, у него в храме есть телефон. А пока что… – Бокий поднял папку со стола, – вот материалы, которые я подготовил. По ним составьте план работы хотя бы… – он задумался. – Хотя бы на год. Не перебивайте меня, – он увидел, как у Тучкова дернулись брови. – Там идей хватит больше, чем на год, – Бокий похлопал ладонью по коричневой коже солидной папки и открыл ее. В папке лежало несколько листочков, отпечатанных на машинке с фиолетово-красной лентой. Отчего странички показались Тучкову напечатанными кровью. – Все шифруйте! Все – абсолютно секретно! Шифрам обучитесь. Самый простой – на первой страничке, – Бокий захлопнул папку. – А здесь видите, что написано? Начальник 6-го отдела Вэчека Тучков Евгений Александрович! А знаете, почему шестой отдел?
– Н-нет! – Тучков «ел глазами» начальство.
– Потому что мы с вами – шестерки, половые у нашей партии. Мы – на подхвате! Мы – принеси-подай! Но без полового гости будут сидеть в ресторане голодными, верно? Мы незаметны, но – всегда рядом. Мы готовы обслужить, но – не забываем и свой интерес, нам нужны чаевые, а? – Бокий любил разного рода совпадения. Хоть числовые, вроде 6-го отдела, хоть именные… Старые заключенные Соловков все, как один, долго еще будут вспоминать, как высокий московский чекист и организатор СЛОНа (Соловецкого лагеря особого назначения) Глеб Бокий приплывал на остров на корабле «Глеб Бокий».
– Да! – просветлел лицом Тучков.
– Нравятся чаевые? – хмыкнул Бокий и встал. – Три дня здесь. Гостиница «Астория», талоны на обеды в нашей столовой и… – Бокий перегнулся через стол, глядя на разбитые ботинки Тучкова. – И мандат на одежку! Все – от куртки до сапог!
И все – новенькое!
Глава № 11
Сеславинскому снился запах яблок. Снился совершенно явственно, и Сеславинскому не хотелось открывать глаза. Какое наслаждение вот так отчетливо слышать тончайший, нежнейший запах… Он, по-прежнему не открывая глаз, вспомнил, уже проснувшись, как плюхнувшись на мокрую землю и вжавшись в нее в ожидании очередного разрыва, увидел однажды прямо перед своим носом яркую, спелую ягоду земляники. Это было странно и поражало каким-то чудовищным несоответствием: едкая вонь сгоревшего пороха, запах свежевывороченной снарядом земли, раскаленного металла, осколки которого с шипением крутились в развороченной торфяной жиже, и огромная ягода земляники. Он повернулся набок, со стоном протянул раненую и кое-как перевязанную руку – непослушные пальцы не могли поймать ягоду. Наконец она попалась и, слегка раздавленная, была отправлена в рот. Вкуса он не ощутил никакого. Кроме металлического привкуса крови, сочащейся из разбитого час назад носа. Но зато увидел еще ягоду, и еще, и хотя они тоже не имели вкуса, он пополз к ним, от одной к другой, обретая неожиданно смысл в этом смертельном безумии. Еще, еще ягода – он полз, опираясь на локти, вскрикивая от боли в руке, полз, следуя хоть какому-то, пусть эфемерному, смыслу. Немецкие мины ложились так кучно, что казалось – на всей земле уже нет ничего человеческого, и только эти ягоды, присыпанные землей, давали ощущение другой, отброшенной омерзительным воем мин, жизни.
– Поручик, вы живы? – услышал он сквозь разрывы голос Тоцкого, тоже выпускника Корпуса, – Ползите сюда, у меня роскошная воронка. На двоих! – Тоцкий никогда не терял оптимизма. – Что вы молчите?
– Я ем землянику! – сипло ответил Сеславинский, не узнавая своего голоса.
– Что-что? – не понял Тоцкий. – Где вы, поручик?!
– Я ем землянику! – крикнул Сеславинский, и этой фразой вошел в историю полка.
В рассказах Тоцкого, неоднократно повторенных потом при самых разных обстоятельствах и даже дошедших до высоких командиров, Сеславинский представал человеком, который под рев снарядов собирал землянику на полянке. Позже это едва не стало полковым анекдотом. Но когда лихой подполковник Грач отбирал «достойнейших из достойных», как он сказал, в полковую разведку, мнимое хладнокровие Сеславинского сыграло роль, и он оказался среди отчаянных удальцов. Может быть, это и спасло ему жизнь – полк, почти в полном составе, так и не вышел из бескрайнего галицийского болота.
И все-таки запах яблок… Между тяжелых портьер пробивался узкий солнечный луч, высветивший темно-янтарные дощечки паркета. В луче, словно дымящемся, светящемся внутренней силой, плавали, кружились и плясали, вспыхивая и тут же угасая, пылинки. И запах… да это же не яблоки, это запах ванили, запах пирогов, детства…
С водворением Сеславинского в небольшую квартирку на Екатерининском канале жизнь его тетушек, Татьяны и Зинаиды, приобрела потерянный в революционных перипетиях смысл. Тетушки были небогаты: старшая, Татьяна, жила на пенсию, назначенную ей государем за отца – генерала, погибшего в японскую кампанию, и была активисткой Общества трезвости, Зинаида преподавала частным образом пение. И как ни странно, учеников за время переворота у нее не убавилось. Что в связи с прекращением выплаты пенсии очень было кстати. Смысл же, обретенный тетушками, как утверждал Сеславинский, состоял в том, чтобы накормить, точнее – «откормить» племянника.
Из комнаты тетушек доносился неспешный разговор, сопровождаемый или даже прерываемый иногда тихой (чтобы не разбудить его!) и какой-то особенно нежной игрой на фортепьяно Зинаиды. Она обожала Шопена и часто, разговаривая с сестрой, наигрывала что-то «шопеновское», как говорила Татьяна.
Сеславинский, стараясь не замечать запахов, доносившихся с кухни, шмыгнул в ванную. И – о чудо! Чугунная дровяная колонка была протоплена и полыхала жаром угольев, в ванной было тепло, дивно пахло мылом и духами. Ах, тетушки! Сеславинский налил в таз горячей воды. Конечно, принимать ванну сейчас в Петрограде – немыслимая роскошь, но вот так помыться настоящей горячей водой, когда можно ее не экономить, – это счастье!
Он по закону Корпуса («Ополаскивайся холодной водой – не будешь знать простуды!») вылил на себя полтаза холодной воды и, завернувшись в широкое полотенце, выбрался из чугунной, на затейливых витых ножках ванны. И только тут заметил розовую открыточку, стоявшую на стеклянной полке возле запотевшего зеркала: «Дорогой Саша, с Днем Ангела! Твои тетушки Т и З».
В последний раз день ангела Сеславинский отмечал в эшелоне, на котором пробивались из Пскова в Петроград. И так надрызгались неизвестно откуда взявшимся денатуратом, что даже и вспоминать не хотелось.
Тетушки встретили его веселыми возгласами и маршем из «Аиды». И началось настоящее пиршество, которое увенчал пирог с яблоками. Раскрасневшаяся горничная Настя подала его, повторяя свое обычное: «Уж как получилось, не обессудьте, старались мы!» Сеславинский помнил это «старались мы!» с детства. Так было заведено почему-то говорить у них дома, в ярославском имении. Настя, родом из Рождествено, имения Сеславинских, была, наверное, возраста тетушек, и с девчонок, вот уже лет двадцать пять, жила у Татьяны Францевны, росла и старилась в их семье.
Сеславинский пил чай, хрустел сушками, помалкивал, поглядывая на тетушек. Рядом с ними, стоило закрыть глаза, он погружался в старый-старый мир, где было все спокойно, уютно, по-домашнему. И даже «революционеры», появлявшиеся время от времени у старшей сестры Даши во флигельке, были симпатичными, забавными и остроумными. Сеславинский до сих пор помнил немца с какой-то сложной фамилией – не то Раушенбах, не то Раушенбаум, который удивительно ловко показывал карточные фокусы, приговаривая, что научился им в тюрьме. Но и загадочная тюрьма тоже казалась весьма романтичной и даже интересной – там можно было выучиться фокусам.
Скорость, с которой обрушились прежняя жизнь, прежний быт, рухнули родственные и служебные отношения, мораль, представления о мире, смерти, войне, была дьявольской. Все, все, чем жили миллионы людей в империи, было вышвырнуто на обочину. Все валялось в пыли, грязи, потеряв прежний вид и даже свою вещественную принадлежность: все стало прахом. И люди, выброшенные безумным временем, даже те, кто, как Сеславинские, сохраняли хотя бы прежний вид, на самом деле оказались на обочине, задыхаясь от пыли, смрада и грязи проходящих мимо полков. Таких же жалких и растерянных.
А страшная, невидимая и неуправляемая сила тащила и тащила, волокла изможденных, измученных, растерянных и растерзанных людей дальше и дальше, не давая им поднять голову, ухватиться за что-нибудь, еще не потерявшее твердости и прежнего своего предназначения, глуша невесть откуда взявшимися визгливыми гармошками, песнями вроде «Вы жертвою пали» и залпами расстрелов, расстрелов, расстрелов…
– Марья Кузьминична пришли, – появилась в дверях горничная.
– Проси, проси, Настя, – Татьяна Францевна поднялась из-за стола навстречу приятельнице.
– Здравствуйте, дорогие, – сияющая Марья Кузьминична вошла, развязывая ленты под подбородком и снимая шляпу. – Александр Николаич, рада вас видеть. Наконец-то! Таша с Зиночкой все рассказывают о вас, а я помню вас только кадетиком…
Собственно, с Марьей Кузьминичной Россомахиной тетушки сблизились не так уж и давно. Их отцы, Кузя Россомахин и Франц Либах учились в одном классе гимназии в Ярославле, потом пути разошлись: Франца Либаха, по традиции, отправили в кадетский корпус, а Кузю Россомахина – тоже по традиции – в коммерческое училище. Но детская дружба осталась, перешла к семьям, детям, чуть слабея, конечно. Тем более что Кузьма Ильич Россомахин изрядно разбогател, прикупил дом в Петербурге, а Либах, хоть и дослужился до генерала, богатства не нажил, да так и сложил голову где-то в Маньчжурии, верно, как детскую дружбу, храня любовь к царю и Отечеству.
Кузьма же Россомахин, овдовев, женился неожиданно на молоденькой актрисе, завел себе шикарный выезд, стал театралом и меценатом, но ум и хватку ярославцев сохранил: после первых же наших неудач на германском фронте, будто предвидя грядущие события, перевел все капиталы в Англию, рассчитался с партнерами и кредиторами – и стал лондонским банкиром. Оставил часть капитала дочке – Марье Кузьминичне. Правда, управлять им, от греха подальше, поручил молодому родственнику своему по жениной линии. Тоже из ярославских купчишек. Хоть рангом и пониже. Родственника этого Кузьма Ильич на собственные деньги выучил в Англии, чтобы было кому в старости передать так называемые бразды. Передать, правда, пришлось быстрее, чем Кузьма Ильич рассчитывал. Да и родственничек в отсутствии хозяйского ока осмелел, и когда Марья Кузьминична вернулась в мае семнадцатого года из Италии, отметив купаниями в горячих сицилийских источниках окончание очередного романа (все ее романы начинались и заканчивались в Италии, так она говорила), оказалось, что образованный родственник со всеми ее капиталами уже высаживался с теплохода «Дж. Вашингтон» неподалеку от статуи Свободы. В далекой Америке.
Неунывающая Марья Кузьминична сначала хотела продать свою роскошную квартиру на Большой Морской, но не смогла – опоздала. Потом так же не продала мебель, фарфор, картины (многие были ей, красавице, подарены), и сейчас ее выселяли из квартиры как представительницу чуждого класса.
Несчастья не испортили характер Марьи Кузьминичны, но сблизили ее с тетушками Сеславинского – несчастья-то были общими. И тетушки рады – Марья Кузьминична, Мари по-домашнему, все еще была светской дамой и театралкой.
– Едва сумела к вам пройти, – Марья Кузьминична, завзятая курильщица, уютно устроилась за столом, положив на соседний стул сумочку и доставая из нее папиросочницу. – Представьте, Александр Николаич, все деньги трачу на папиросы! Впору научиться вертеть козью ножку и переходить на махорку!
Настя подала ей пепельницу, пошепталась с Зинаидой Францевной и вышла в коридор. Настя Марью Кузьминичну недолюбливала, полагая (не без оснований), что та повадилась ходить в гости, непременно подгадывая к обеду. Тетушки тоже видели это, посмеивались, но жалели Марью Кузьминичну.
– Опять крестный ход к Казанскому, – Марья Кузьминична изящно (так даже рисовал ее когда-то сам Михаил Ларионов!) держала папиросу двумя пальцами. – Немыслимое количество народу. И митрополит Вениамин впереди. Вы знаете, Александр Николаич, – она кивнула Насте, та принесла ей омлет из американского яичного порошка и овсяную кашу, – в прошлый раз меня просто втащили в Казанский, столько было народу! И я не пожалела. Владыка произнес дивную проповедь! Половина храма рыдала! Вы же знаете об этом ужасном декрете?
– О каком, Мари? – Татьяна Францевна отвлеклась от разливания чая. – О том, что вы прежде говорили?
– Ну да! Об отделении церкви от государства!
– Саша, ты знаешь о декрете? – повернулась к нему и Зинаида.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































