Текст книги "Опыт № 1918"
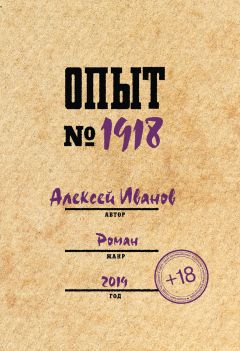
Автор книги: Алексей Иванов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 32 страниц)
– А что же делать, Алексей?
– Тебе? Удирать, пока цел, в Германию.
– А тебе? – Тыкоцинер дружески положил ладонь на рукав Иванова.
– Мне и здесь дела найдутся, Иван Дмитриевич! Будем вот для начала трампарк восстанавливать!
Через два часа грузовой трамвай, таща несметное богатство: трансформаторы, кабели, выключатели, запчасти к трансформаторам, хитроумные машинки для намотки трансформаторов, катушки медного провода, изоляторы всех видов, сваленные на платформе, тронулся от площадки Электротехнического завода и под охраной красноармейцев, вызванных из Митрофаньевской казармы бойким мастером Андреичем, скрежеща и завывая на поворотах, поплыл через Николаевский мост, Мойку, мимо Никольского собора и далее – на родной Забалканский, в Московский трампарк.
– Забирайте все! – шепнул Иванову Тыкоцинер, глядя как красноармейцы катят и грузят на платформы тяжеленные катушки с проводом и кабелями. – Я буду спокоен. Добро в хорошие руки передаю. Не достанется бандитам.
На Николаевском мосту начался дождь. Небо, как бывает в Петрограде, быстро почернело, Нева нахмурилась, вздулась и стала свинцовой. Ветер с гулом ворвался под фермы моста, ливень ударил косо, заливая платформы, на которых, укрывшись шинелями, скрючились красноармейцы. Вагон, гудя и блямкая педалью звонка, покатился с моста на Благовещенскую площадь. Возле храма Благовещенья Богородицы под козырьком трамвайной остановки сбилась толпа застигнутых дождем. Пятикупольный, с шатровыми куполами храм потемнел от дождя, блестели только путиловский камень и гранит.
Иванов вспомнил, как в детстве, если ему приходилось идти на службу не с маменькой, а с братьями или няней, ему разрешалось вести пальцем по гладкой, черно-красной поверхности гранита. На пальце оставалась грязь, которую ни в коем случае нельзя было вытирать о штанишки. Для этого существовал платок. Внутри на стенах висели бронзовые доски с именами павших в боях под Аустерлицем и Бородино офицеров, полковые знамена, георгиевские штандарты, высочайше пожалованные Конногвардейскому полку, которому принадлежал храм, за боевые заслуги, – от них невозможно было оторваться. Больше всего тогда ему нравились в храме мундиры императоров Александра I и Николая I, шефов полка. А по надписи на витринах, где хранились императорские мундиры, «знак царской любви к войскам и в вознаграждение по заслугам их в память о государях-благодетелях, изволивших носить их», маленький Алексей учился читать. И еще по вывескам, когда они по воскресеньям шли с Пряжки в храм. Иванов вдруг неожиданно, но совершенно явственно ощутил запах воскресных булок и печений. Он оглянулся – двери и витрины старинной булочной Филиппова были заколочены, красочный бублик, всегда раскачивавшийся над входом, исчез.
Трамвай, сбросив скорость, обогнул церковь, двое мальчишек прицепились на «колбасу» грузовой платформы и пригнулись, отворачиваясь от дождя. Память неожиданно выбросила: воскресенье, вот такой же косой осенний дождь, пришлось от дома до церкви ехать в коляске, и вдруг – какая-то суета возле входа в храм, остановились несколько колясок, и из одной ловко выпрыгивает высокий офицер в кожаных штанах, красном мундире, в колете с медными, сияющими украшениями, и с палашом у пояса. «Князь Голицын, командир полка, князь Голицын», – все повернулись в его сторону, князь, поднеся два пальца к золоченой каске, резвым шагом прошел мимо, снял каску, широко перекрестился и вошел в церковь. Может быть, вот эти стать, мощь, стремительный шаг Голицына, этот образ военного (да еще твердая домашняя традиция) и подтолкнули на нелегкий военный путь – от кадета, шею которого натирает высокий воротник кителя, до курсанта Михайловского училища и дальше – через саперные роты и инженерные полки, от унтера роты в училище до командира полка…
Он смотрел на скорчившихся мальчишек «на колбасе», хлещущий по ним дождь, на солдат, укрывшихся шинелями, на здания Мариинского театра, Никольского Морского собора за высокими деревьями сада, и не мог понять: неужели все это происходило с одним человеком, с ним, Ивановым, стоящим плечо к плечу с мастером трампарка Андреичем в узкой кабине грузового трамвая, мчащегося сквозь стену питерского дождя. Неужели человек способен все это пережить и оставаться в твердом уме и здравой памяти? Что произошло с самой жизнью, которая с какого-то момента принялась ускоряться, лететь с немыслимой скоростью, не давая оглянуться. Куда несется этот трамвай с молодым и веселым вожатым, с Андреичем, красноармейцами, нырнувшими под шинели, с мальчишками, Никольским собором… Трамвай резко затормозил, приближаясь в Сенной площади.
– Я, пожалуй, соскочу, – мастер протиснулся к двери, отодвинул раздвижную решетку. – Мне отсюда до дома – два шага! – И не дожидаясь, пока трамвай окончательно остановится, спрыгнул и пробежал несколько шагов рядом. – Георгич, а этот немец-то ваш, – крикнул он, улыбаясь во весь рот, – парень – во! На большой!
Глава № 51
Конечно, Исаак Моисеевич Бакман знал, как делаются дела. Иначе он так и сидел бы клерком в меняльной лавке в своем местечке. И даже будущего тестя мог бы видеть только в газете, где пропечатаны почетные горожане и благотворители. Будущий тесть был таким же благотворителем, как Ицик Бакман танцором. А что, жизнь заставит. И танцевать, и давать деньги на содержание «несчастных» в тюрьме. Но тесть умел делать дела – а иначе он стал бы почетным гражданином? И Ицик учился от него, сколько мог, пока не пришлось дезертировать в Петроград. Чтобы попасть на обучение к ребе Рафе. А это уже была школа почище ваших академий, хоть и помещалась она в подвале Апраксина двора. Да и после (кроме разве Бэбы с ее родителями) кто-то мог бы упрекнуть Ицика Бакмана, что он не знает, как делаются дела?
Так вот сейчас он оказался мальчиком, который, не закончив хедера, стоит перед кабинетом директора Азовско – Донского банка господина Е.М. Эпштейна и размышляет, как бы уломать Эпштейна дать ему кредит.
Так представлялось ему предприятие, которое он затеял. А надо было ни больше ни меньше как пробиться в ЧК и освободить Бэбу. Ицик, Исаак Моисеевич, точнее, не относил себя к горячим головам, готовым схватить оружие и «пробиться» и «освободить». Но ведь есть и другие способы, кроме как ограбить господина Эпштейна. Например, напомнить ему об извечной печальной участи еврейского народа, к которому, худо-бедно, он и сам принадлежит. Если он об этом не забыл, конечно. И в ЧК, как Исаак Моисеевич убедился на своем невеселом опыте, тоже есть кому вспомнить о бедах избранного народа. А что, когда у тебя увозят жену и оставляют с двумя плачущими девчонками и идиоткой – прислугой Маней, которая ревет хуже их, разве это не беда? Да еще ты и сам не знаешь, есть ты, вообще-то, или тебя нет? Может быть, ты, Исаак Моисеевич Бакман, и вовсе расстрелян, пусть и шляешься по улицам от одного знакомого к другому, стараясь найти хоть малую тропку в ЧК.
Конечно, среди евреев найти знакомых или даже родственников все равно что отыскать хорошего червяка в навозе: копни поглубже раз-другой – и тут же обнаружатся. Но при одном условии: если ты на коне или при деле. Сказать, чтобы Исаак Моисеевич сейчас был на коне, это сильно преувеличить, чтоб вам привалило такое счастье! (А глик от им гетрофен!) Может, поэтому первые усилия к цели не привели? Нашелся кое-кто из Бакманов, который был седьмая вода на киселе пинским Гибельманам. Но кто их считает, эти воды и кисели, когда твоя жена Бэба сидит на Гороховой, а ты уже неделю, как матрос в отпуске, метешь клешами тротуар и не можешь найти ход в ЧК? Конечно, тот Гибельман, который в ЧК стал Барановским, не лучший вариант для доверительной беседы, сказал бы любой, кто знал его по Пинску. Но и того (еврейское счастье!) чуть не месяц нету в Питере, а есть только его семья, где все плачут, молятся по-еврейски и пишут письма своим красным богам, пытаясь разыскать сгинувшего отца.
От отчаяния Исаак Моисеевич хотел было, просто записавшись в канцелярии, пойти «в порядке общей очереди» на прием к главному начальнику Бокию. Но, опять же еврейское счастье, – встретил на Гороховой Лёву Альтшуллера. Того самого, чей папа, хозяин антикварной лавки, умер во время налета. И что лучше? Охранять свою лавку и умереть – или отдать все? Тем более что лавку налетчики все равно ограбили. Но в ней уже не было папы-Альтшуллера. А сынок Лёва и не подумал вернуть небольшие папины долги. Благо причина была. Но не последнее же взяли налетчики! Тем не менее Лёва не захотел тогда встречаться с Исааком Моисеевичем. Но тот и не настаивал: от налета не гарантирован никто. Особенно если ты выставляешь свои богатства в витрине лавки.
Лёва, который, по его словам, пошел на службу в ЧК, чтобы отомстить за папу, провел его, как свой, в здание, посадил в коридоре возле кабинета, где сидело несколько «комиссаров», как определил их Исаак Моисеевич, и оставил ждать. Сам при этом ходил туда-сюда, будто бы не узнавая старого знакомого. А часа примерно через три (Исаак Моисеевич, идя в ЧК, на всякий случай не стал брать свои золотые часы) два остолопа-латыша, ни бельмеса по-русски, отвели его в другой кабинет, где ленивый «комиссар» принялся лениво, по обязанности, расспрашивать, где гражданин Бакман хранит свои деньги. Особенно его интересовали именно те места, в которые Исаак Моисеевич и хотел кое-что припрятать: диван, шуба Бэбы (для бриллиантов), цветочные горшки, местечко под ванной, где был вынут кирпич… Хорошо, что Бэба отнесла все своей гимназической подруге. Правда, теперь ни Бэбы, ни подруги…
Очнулся Исаак Моисеевич, как ни странно, в камере. Где было так тесно, что стоявшие вплотную люди не могли упасть, даже если теряли сознание. Очнулся от того, что кто-то царапал крысиной лапкой по его боку, и обнаружил возле себя тощего мальчишку, который ухитрялся в дикой тесноте ползать по чужим карманам. Исаак Моисеевич попробовал его оттолкнуть, потом лягнуть ногой, но тот методично и тихо продолжал свое дело. «Волчок» в камеру время от времени открывался, и кто-то спрашивал в окошечко: «Предложения есть?» И того, у кого «были предложения», выводили из душной камеры. Это означало, что он согласился отдать деньги и в обмен его выпускали «из горячей». После третьего «предложения есть?» Исаак Моисеевич понял, что сейчас он умрет от жары и удушья, и прокричал: «Есть!» – просто для того, чтобы глотнуть холодного воздуха. Его провели по коридору и остановили перед открытой на улицу дверью. Исаак Моисеевич глотал холодный воздух, понимая, что делает последние глотки. Сквозь туман, застивший глаза, он увидел высокого, смуглого человека, притормозившего у двери, чтобы раскурить папиросу. По почтительности, с которой его окружали «комиссары», по тому, как быстро спрятали Бакмана за свои спины конвоиры, Исаак Моисеевич понял, что это – большой начальник. Он вдруг с незнакомой резвостью шмыгнул между конвоиров и бухнулся на колени перед комиссаром. Тот с изумлением смотрел на маленького человечка в мятом костюме с вывернутыми карманами, взлохмаченного, с полубезумным взглядом.
– Я ни в чем не виноват, – просипел Бакман, стараясь поймать взгляд комиссара, – я пришел сюда просить за Бэбу, за жену…
– Глеб Иванович, – спохватились конвоиры, – мы его…
– Не надо! – Бокий, глубоко затягиваясь, смотрел на человека, стоящего на коленях.
Вот он, символ бывшего мира. Жалкий, взмокший, с мокрыми штанами, стоящий перед ним на коленях. Еще вчера он думал, что он – создание Божье. Мечтал. Преуспевал, судя по визитке на алой подкладке. А сейчас – тянется к нему дрожащими руками, плачет и бормочет что-то… Жаль, что редко удается спускаться сюда, к камерам. Заедает текучка. А надо, надо приходить сюда, освежать ощущения.
Бокий кивнул свите, прошел по коридору, ногой отворил дверь какого-то кабинета и сел за стол. Вслед за ним ввели человечка.
– Рассказывайте! – И, прикрыв глаза опухшими веками, Бокий, не слушая, погрузился в нирвану.
Как же можно было упустить этот великолепный способ расслабления, внутреннего полета, освобождения! Вот он, жалкий мир, лопочет что-то, утирая рукавом слезы и по-заячьи взглядывая на него. Вот так они должны приползти все! Так умолять о пощаде. О снисхождении. О жизни…
Человечек нес что-то о Екатеринославе, виолончелистке Ребекке, Ривке, Бэбе, каком-то ребе Рафе и Лёвке Альтшуллере… Вот так должны приползти… Ему показалось, что он медленно, словно на невидимом монгольфьере, поднимается, оглядывая с высоты поле, усеянное людьми. Некоторые из них еще сражались, почему-то на мечах и шпагах, кто-то суетился возле старинных пушек, но в основном поле было усеяно мертвыми телами. По мере того как монгольфьер поднимался, открывались все иные и иные пространства со скачущими, сошедшимися лоб в лоб игрушечными конниками, клубами черно-белого дыма и пламенем горевших и рушащихся домов в городах, открывающихся вдали. Шар внизу стал медленно поворачиваться, поплыли поля, горы, натруженные вены рек с точками-пароходами на них, Бокию казалось, что он узнает плывущие в дымке места. Вот Казань, Екатеринбург… Вращение ускорилось, смазывая четкие очертания, можно было различить лишь огни, дымы, беззвучные взрывы и среди них – тысячи, тысячи людей, мушек-дрозофил. На конях, тачанках и даже самолетах мчались убивать, не чувствуя ни боли, ни страха, ни даже злобы… Они – слуги силы, столкнувшей их. Вот они, дрессированные крысы Бехтерева, по команде бросающиеся на смерть! Старик Бехтерев ближе всех подошел к разгадке человечества. Оно управляемо. Пока что человечеством правят деньги. Банкиры. Но это слишком примитивно. Старомодно. Вы должны и будете выполнять мои команды. Я, как мощный радиевый излучатель, буду посылать их вам, а вы, натянув на головы невидимые алюминиевые шлемы, каски-уловители, как в опытах Барченко, будете слушать и выполнять, слушать и выполнять мои команды. Нет, не зря большевики так любят мистический бред Барченко, путаные опыты гениального Бехтерева, муть Блаватской и жалкие тайны Шамбалы. У них есть чутье. Коллективный разум. Как у крыс, обучающихся на гибели слабых. Просто по убогости духа и отсутствию образования они не знают, где искать путь к владению миром. Бокий улыбнулся, глядя, как затихает сражение на пустеющих пространствах. Два-три самолета-комарика еще кружили, не зная, куда скинуть бомбы. Да, коммунисты не знают, где искать путь к овладению миром. Не знают… Пока не знают…
Он открыл глаза, все еще с улыбкой глядя на бьющегося в истерике у его ног человечка.
– Две девочки, – сипя и заикаясь, проталкивал тот слова сквозь скривившийся рот. – Дома… две девочки…
– Чьи?
– Мои…
Бокий, по-прежнему ощущая резковатый запах озона, который он чувствовал, поднимаясь на монгольфьере, кивнул помощнику. Тот, повинуясь жесту, подал ручку и бумагу.
– Фамилия?
– Ба-бакман…
– Бабакман? – удивился Бокий. И подписал пропуск на имя Бабакмана. – Проводите его и отправьте домой.
«Странно устроен человек», – Бокий смотрел на Бакмана, пытаясь понять, какое отношение этот безумец имеет к его теории. И вдруг понял: он уже управляем! Он протянул подписанный пропуск, как протягивал вялый капустный лист кролику на эксперименте. Зная, что жить кролику остается несколько мгновений. Слово – ключ: он – управляем моей волей!
И все-таки, что ни говорите, Исаак Моисеевич родился под счастливой звездой. В тот момент, когда жулик и обирала дворник Адриан, поняв, что в карманах безумного человека нет ни копейки, а порванная его визитка не стоит ни гроша, собирался выбросить его на улицу, к парадной подъехала Марья Кузьминична Россомахина. И признала в безумце мужа Бэбы Бакман, с которой они «шились» у одной портнихи.
Она распорядилась немедленно поднять бедолагу в ее квартиру, растопить колонку в ванной комнате и принести самовар. Слушать стенания сидящего на полу в ванной мужа Бэбы было невозможно. Пришлось позвонить доктору Мокиевскому. Что отчасти входило в планы Марьи Кузьминичны, но как-то все не находилось повода. К приезду Мокиевского муж Бэбы уже отмок в горячей ванне, был извлечен Адрианом и лежал на диване в гостиной, сотрясаясь от нервной дрожи под тремя любимыми Марьей Кузьминичной шотландскими пледами. Доктор сделал несчастному укол, от которого тот почти сразу забылся, и был приглашен Марьей Кузьминичной в уютную столовую.
– Я дал бедолаге лошадиную дозу, – Мокиевский, как бы сочувствуя Марье Кузьминичне, положил свою ладонь ей на руку. – Думаю, до утра он не проснется.
Мокиевский пожал мягкую, ухоженную руку, с удовольствием ощутив легкое ответное пожатие.
– Это ваш муж? – Мокиевский любил состояние ни к чему не обязывающего флирта, когда мужчине и женщине все ясно с самого начала. Но в том-то и было удовольствие, чтобы почти незаметными движениями, пожатием руки, ничего не значащими словами установить незримый, неслышимый контакт. И заставить эту таинственную, прячущуюся во флере слов струну зазвучать тонко, сладко и призывно.
– Нет, что вы! – Марья Кузьминична взмахнула ресницами, искоса глядя на доктора. Она тоже расслышала очаровательное звучание таинственной струны и почувствовала, как все тело ее отозвалось, ответило этой милой и знакомой ноте.
Она, как могла, рассказала Мокиевскому историю «мужа моей знакомой Бэбы», чуть коснулась своей жизни – доктор попросил рассказать о портретах, висевших в столовой. Особенно его заинтересовал коровинский портрет. На нем Марья Кузьминична и вправду была хороша. Не зря Коровин, закончив работу, сказал ей: «Я влюбился, Марья Кузьминична. И не знаю, в кого больше. В вас или в портрет!»
Чай с печеньем, домашний ликер и прелестный разговор Марьи Кузьминичны сделали свое дело. Когда доктор поцеловал ее в щеку, ощутив легкий запах французских духов и пудры, она повернулась к нему, смело глядя черными, вспыхнувшими глазами, и, как показалось Мокиевскому, чуть подмигнув ему, проговорила: «С этим приключением я совсем потеряла голову!»
Впрочем, утром они проснулись раньше «несчастного мужа Бэбы».
Когда Марья Кузьминична вошла в гостиную, он, все еще скорчившись, лежал под пледами, печально и виновато поглядывая на, как ему показалось, незнакомую женщину. Этот несчастный взгляд Исаака Моисеевича, может быть, и решил дело. Во всяком случае, к моменту появления элегантного и вежливого доктора Исаак Моисеевич уже успел рассказать о своих приключениях, своих девочках и все пытался немедленно бежать к ним.
Рассказ тронул чувствительную Марью Кузьминичну до слез, хотя и насторожил. Особенно когда он принялся слово в слово повторять его доктору. Мокиевский послушал рассказ Исаака Моисеевича не более минуты и тут же остановил его. «Вы слышите только мой голос! Только мой голос! Вы подчиняетесь только моим командам. Мой голос – главный в жизни. Он выведет вас из лабиринта!» – Мокиевский сделал несколько пассов, приблизил свою голову к Бакману и загромыхал: – Забудьте все, что с вами было. Вычеркните из памяти! Я считаю до пяти. Раз! Вы видите только меня. Только меня! Смотрите мне в глаза! Два! Вы слышите только мой голос! Только голос! Три! Закройте глаза! – Он схватил больного за руку. – Я держу вас за руку и веду по лабиринту! Вы слышите мой голос, идете за мной, я веду вас! Четыре! Полная темнота, только мой голос и моя рука! Я выведу вас наружу! Вы верите мне?
– Да…
– Громче! Верите мне? Видите свет?
– Да, да, верю, вижу! – Бакман вдруг задергался, будто бежал куда-то маленькими шажочками.
– Пять! – прогремел Мокиевский. – Пять! Я открываю дверь, яркий свет в глаза! Мы вышли, мы на свободе! Ваша голова чиста, свободна, вам хорошо! – Он крепкой рукой схватил Бакмана за виски и сжал их. – Я закрепил это чувство свободы! Откройте глаза!
Марья Кузьминична была поражена. Бакман вдруг сделался прежним Бакманом: встал и извинился, шаркнув ножкой, за небрежность в одежде. Несчастного больного больше не было. Возле дивана стоял несколько встрепанный после сна, но вполне нормальный человек.
Уходя, доктор Мокиевский научил ее, как следует резко, но не сильно, без боли сжимать виски, чтобы вызвать у больного забытое чувство покоя и уверенности.
И многие годы, когда муж Марьи Кузьминичны Исаак Моисеевич Бакман, со временем все реже и реже, впадал в кошмарное состояние надвигающегося ужаса (Марья Кузьминична определяла его по остановившимся, застывшим глазам), она спокойно и уверенно сжимала ему виски и твердо, как доктор Мокиевский, произносила: «Веришь мне? Веришь?» И, дождавшись ответа: «Я выведу тебя из лабиринта! Я закрепляю чувство свободы!»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































