Текст книги "Опыт № 1918"
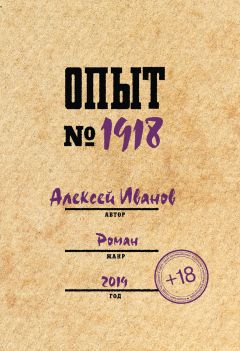
Автор книги: Алексей Иванов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 32 страниц)
Глава № 52
Сентябрь выдался удивительно тихим и теплым. Если бы не громкое убийство Урицкого, покушение на московского Ленина и объявленный сразу после них Зиновьевым «красный террор», тетушки еще оставались бы на даче. Обычно они уезжали «по погоде», но сейчас, напуганные газетами со списками расстрелянных, решили вернуться. Не успев даже дать поручение мужу Хельги навесить ставни на окна, как они делали это всегда, и вообще подготовить дом к зиме.
Мысль поехать на Взморье, в Лисий нос, пришла в голову всем сразу: Сеславинский рассказывал Елене о тетушках и их даче, которую они собирались было продать перед войной и революцией, да так и не собрались.
Оля, дочь Елены, была в восторге от всего: ехали на прекрасной машине, которую вел веселый дядя Петя, ехали на Взморье, где она ни разу в жизни не была, и сзади, прижавшись друг к другу, сидели папа с мамой. И он накрыл ее плечи своим пиджаком. Страшно было только смотреть вперед, с такой скоростью неслась машина. Проехали железнодорожную станцию, приткнувшуюся между двумя роскошными когда-то ресторанами «Вилла Родэ» и «Славянка».
– Когда-то, – Пётр повернулся к Сеславинскому, – мы отсюда, из Новой Деревни, на Коломяжский ипподром ездили. Кстати, и в этом году скачки проводили. И публики было немало. А я, грешник, – он сдвинул автомобильные очки на лоб, – любил на вокзал в Новую Деревню заехать в буфет. Здесь чудные раки финские бывали и «Старая Бавария», пиво. Пять копеек за бокал!
После буддийского храма потянулись дома с огородами и палисадниками, слева из-за неожиданно отступивших в сторону деревьев открылся залив: бескрайняя стена темно-зеленого тростника с грязноватым, заваленным кое-где морским мусором – плавником – песчаным берегом. И серо-голубой, теряющийся в солнечных бликах залив с золотой головой Кронштадтского собора.
– Смотри, смотри, Оля, виден Кронштадт! – Елена рукой в нитяной перчатке указала влево, чуть повернув даже голову дочки, и сразу, как по команде, протянулся солнечный блик, луч по застывшему в безветрии заливу к едва различимому в дымке Собору. Елена смахнула платочком слезу и виновато глянула на Сеславинского: – Мы в нашей кронштадтской квартире после гибели папы ни разу не были.
Дорога сузилась, прижалась вплотную к железнодорожной ветке, но Иванов, взявшийся покатать семейство друга, почти не сбросил скорость.
– Вот здесь, в Лахте, – он обернулся, поблескивая автомобильными очками, – невероятное количество птиц собирается. Огромные болота, заповедник. Еще Пётр Первый издал указ, «буде кто на сии болота выйдет птицу стрелять, того бить плетьми на казенном дворе», – Петя покосился на девочку, тоже надевшую автомобильные очки и похожую на стрекозу. – Они прилетают сюда отдыхать. Весной, когда летят с юга на север, а осенью – назад, в теплые края. Их охраняют, не разрешают охотиться.
Сзади раздался паровозный гудок, Пётр притормозил.
– Устроим соревнования, – он подмигнул Оле. – Как думаешь, паровоз нас перегонит или нет?
– Думаю – или нет, – она тоже подняла очки на лоб, преданно глядя на Петю.
Маленький, будто игрушечный, паровозик, тащивший пять таких же желтых, как он сам, вагонов, пыхтя и подавая сигналы, помчался совсем рядом с машиной. Полетели даже водяные брызги и кусочки паровозной сажи.
Петя и Ольга сдвинули очки на нос, машина понеслась, то прижимаясь к железнодорожной насыпи, то отъезжая от нее. Всего несколько минут – и машина вырвалась вперед, победно трубя клаксоном. Паровоз обиженно гуднул и начал притормаживать – впереди виднелось деревянное здание станции.
Свернули налево к морю. В конце недлинной дороги сверкнул солнцем залив, машина мягко катилась по плотному, укатанному песку.
– Вот мы и дома, – Сеславинский отворил калитку красивых кованых ворот.
Небольшой деревянный дом с башенкой и балконом, обращенным к морю, чем-то напоминал корабль. Не зря, должно быть, старший Либах любил сидеть на балконе с мощным морским биноклем на шее. Дом, по-фински основательный, строил для своего русского друга знаменитый Армас Линдгрен, архитектурный отец скандинавского «национального романтизма». Толстяк Линдгрен любил посидеть в гостиной Либахов, попивая русскую водку, и порассуждать о национальном характере. Кроме архитектуры, это была его единственная любимая тема.
– Скажите, мой дорогой Франц, – они беседовали на немецком, – как это вы, истинный ариец, вдруг оказались русским?
И в очередной раз выслушивал историю переселения немцев в Россию.
– И все-таки я не понимаю, – по мере убывания водки в графинчике национальный вопрос интересовал его все больше, – не понимаю. Екатерина, переселяя немцев, хотела сделать Россию немецкой?
– Дорогой Ари, – Либах говорил ласково, как говорят со старательным, но не быстрым умом учеником, – гениальная Екатерина Вторая, немка по крови, по духу была совершенно русской. В этом ее особое величие. Она растворилась в России. Она, как дрожжи – растворилась, чтобы пышнее взошла Россия!
– А мне кажется, ты чего-то не понимаешь, мой дорогой Франц, – Линдгрен смотрел, как дым от трубки Либаха исчезает в камине, отделанном узорчатыми изразцами по эскизам самого Линдгрена. И всякий раз, когда они сидели у камина (в национальном, конечно, духе), архитектор думал, что очень удачно получился камин. – Я сужу по себе, – Линдгрен протянул ноги к теплу. – Могу ли я представить себя русским? Никог-да! Сколько я ни стараюсь понять этих русских, мне не удается. А тебя я понимаю!
Обычно после этих разговоров Либах присаживался к фортепьяно и аккомпанировал любимой песенке Линдгрена: «Там, в стране далекой, где шумят луга, где родные волны бьют о берега, где летают чайки с криком над волной, там моя отчизна, там мой дом родной!» Песенка была довольно длинная, печальная, и в конце ее Линдгрен обязательно промокал платочком навернувшуюся слезу. После этого они еще долго гуляли по берегу залива, обсуждая, чем финны отличаются от русских и как шведы подвели финнов, проиграв битву в Заливе (Линдгрен всегда именовал Финский залив просто Заливом, других для него не существовало) Петру Первому.
– Мы, финны, могли бы сами построить Петербург, и это был бы настоящий финский город! Бог дал финнам очень хорошую, но очень маленькую территорию. И не дал полезных ископаемых. Но, как заботливый отец, он дал финнам трудолюбие, вкус к простой жизни и чувство стиля!
Либах соглашался с другом и поддерживал его под руку.
– А сейчас Гельсингфорс, – почти с отчаянием говорил Линдгрен, – это абсолютно русский город! Какой-то Малый Петербург! Как тебе это нравится?
Впрочем, на свежем морском воздухе Линдгрен быстро трезвел и, прощаясь, шутил почти всегда одинаково:
– Знаешь, Франц, почему мне не предлагают строить дома в Петербурге? – Он ласково склонялся к сухонькому Либаху. – Потому что они знают, что я никогда не соглашусь!
Впрочем, дачу одной из петербургских красавиц, Евгении Леопольдовне Кричевской, он все-таки построил.
Боже, неужели это все было когда-то?
Дом, впопыхах оставленный тетушками Сеславинского, пустой и чуть скрипучий, еще больше стал походить на корабль. Теперь уже покинутый командой.
Ольга солнечным зайчиком пронеслась по всему дому, оставляя за собой маленькие стуки, скрипы, сквознячки, и, топоча туфельками (красными, прекрасными!), купленными в Апраксином дворе (вместе с папочкой и мамой!), скатилась со второго этажа прямо в объятия Петра.
– Дядя Петя, я уже все посмотрела, поедемте кататься!
– Оля, что за «дядя»? Пётр Алексеевич устал, сейчас мы приготовим чай, потом пойдем на залив…
– Елена Станиславовна, если вы не против, я с удовольствием прокачусь вместе с Олей. Мне надо обкатать машину. А если удастся проскочить, как просил папа, в Келломяки, к его другу Владимиру Петровичу Кондратьеву, это будет совсем здорово.
– Там ведь сейчас пограничный пост, – сказал Сеславинский, не без ревности глядя, как Ольга прижалась к Петру. Ах, женщины!
– Да, конечно, – улыбнулся Пётр, – но у нас, шоферов, есть свои пограничные правила, – он достал из нагрудного кармана кожанки десять долларов. – Эти пропуска, кажется, еще никто не отменял? – Он чуть присел и изобразил солидного барина за рулем. – Надо надуть щеки, финны это очень любят, и вот так: «По важному дел-лу есть надопность проех-хать»! – Это он проговорил, по-фински растягивая слова и слегка выпевая их. – И достаем пропуск! – Он помахал десятидолларовой бумажкой. – Я раз в месяц езжу туда за продуктами.
Весело крякая клаксоном, сияющий, словно и не было пыльной дороги, «Рено» умчался. Елена и Сеславинский, держась за руки, вернулись в дом. И одновременно подумали: «Мы впервые остались вдвоем. А это наш первый дом». Елена прямо на пороге обняла Сеславинского и мягко, нежно поцеловала его в губы.
– Ты знаешь, Са, – она, как Ольга в шутку, стала называть его «Са», – я что-то так устала, можно, я прилягу на диване?
Это был старый-старый, почерневшей карельской березы диван, каким-то образом перекочевавший сюда еще из ярославской усадьбы Либахов. По-домашнему он назывался «самосон», и считалось, что вылечить любую головную боль и как следует выспаться можно только на этом диване. Он скрипел, в двух местах был слегка продавлен, но несколько поколений Либахов привычно укладывались на него, находили местечко поудобней и тут же засыпали. Сеславинский едва успел положить подушку и достать плед, как Елена уснула.
Сеславинский несколько минут посидел в кресле, глядя на нее. Это было невероятное ощущение сошедшей истинно небесной благодати. Сухой, продутый ветрами и прогретый солнцем дом с двумя столбами света, бьющими в окна и растекающимися на крашеном полу, старый, родной диван и женщина, спящая на нем. Укрытая пледом, которым укрывалась еще его мать. А может быть, и бабка. Вещи долго хранились в их семье.
Неужели все это есть? Это существует, не снится ему в вонючей землянке, где не продохнуть от мокрых шинелей, полушубков, сапог, ремней портупеи, седел, пороховых газов, бинтов с запекшейся кровью, нужника… Почему это счастье, эта благодать досталась, снизошла именно на него? Чем он отличен от тех, кто бился рядом, бежал, хрипя и матерясь, в атаку, задыхался в сжигающем легкие пороховом дыму и лежал, рядами, рядами, рядами на мокрой осенней земле, не вслушиваясь в троекратные похоронные залпы?
Он встал на колени перед диваном, стараясь не разбудить Елену, и прижался лбом к ее откинутой в сторону руке. Двойное ощущение живой, нежной кожи и жесткой ковровой обивки было таким неожиданным и сильным, что захотелось заплакать. Он чуть сильнее прижался лбом к руке и скрипнул зубами. Неужели именно для этого нужны были бесконечные учебные плацы, хамы – офицеры, хлебнувшие уже передовой, воры и скоты унтера, отсиживающиеся в учебном отряде, землянки, землянки, атаки, гасящие душу обстрелы, кровь – своя и чужая, дикая скачка по пахоте на пушечном передке, лихорадочное выставление батареи на прямую наводку, залп, еще залп, и – страшный, страшный удар, будто тебя, твое тело, лихо, со всего маху ударом в бок запустили в налитое грозой небо… И ты, медленно вращаясь, летишь обратно, падая уже почему-то не на бруствер батареи, а в санитарный поезд, ад, наполненный стонами, махорочным дымом и запахом гноя. Неужели именно это нужно было пройти, чтобы встать на колени перед диваном и прижаться лбом к нежной, холодящей лоб руке?
Он почувствовал, как Елена, вздохнув, повернулась и легонечко, с невероятной нежностью погладила его волосы. Он понял почти сразу – это было не во сне. И это был второй молчаливый и удивительный, откровенный разговор. Как будто рука матери, вернувшейся из небесного небытия, гладила его, утешая и прощая. И он, прижимаясь к ней, казалось, слышал не только четкие удары пульса, но и какой-то голос – кающийся, исповедывающийся, прощающий…
Елена придвинулась к нему и поцеловала в голову.
– Я так счастлива, Сашенька, так счастлива… Я не знала, что так бывает… И не знаю, за что мне это…
Потом они гуляли вдоль моря. Елена то держала его под руку, то отбегала в сторону, легко наклоняясь к береговым осокам, прячущимся от ветра, к необычным – малолистным – шиповникам, дотрагивалась до чуть гудевших от поднявшегося к вечеру ветра искривленных сосновых стволов, шагнувших на линию песка; он смотрел на нее издали со странным чувством: мы вернулись. Вернулись сюда. В наш дом. Мы вместе. Вся семья в сборе. Этого чувства не было у него никогда. Разве однажды, недалеко от местечка Сумы. Батарея впервые попала под настоящую бомбардировку: бомбы сыпались с аэропланов и падали где-то совсем рядом, вздымая в небо камни, пыль, пороховую гарь и дым, заставляя раскаленные осколки со свистом летать мимо или падать, вращаясь и шипя. Необученные лошади испугались и понесли. Позже, после полусуток розысков батарейцев, когда, едва спрыгнув с коня, враскоряку, Сеславинский добрался до землянки и вестовой принес чаю, он услышал незнакомый, не похожий ни на что звук. Ни на что военное. Показалось? Он снова прикрыл глаза, и звук вернулся. Сеславинский неожиданно понял, что это поют его вологжане – батарейцы. Поют какую-то неизвестную ему песню, слов которой разобрать он не мог. Но странный, чуть однообразный мотив, разложенный на три голоса, завораживал, притягивал слух. Сеславинский вышел из землянки, прошел по ходу сообщения и встал за угловым выступом, чтобы не смущать солдат. Впереди, в отсеке, оборудованном под кухню, сидели все бойцы. Песня вдруг оборвалась, в тишине слышно было лишь позвякивание уздечек, да кони, оторвавшись от сена, встряхивали мордами, вытягивая в темноте шеи, стараясь взглянуть на звезды. Солдаты пропели еще что-то, опять незнакомое, и в возникшей на миг тишине унтер Вылегжанин, мотавшийся вместе с Сеславинским верхами в поисках батарейцев, сказал громко: «Господи, хорошо-то как, все дома!»
Это поразило Сеславинского. Господи, все дома! А этот дом – в гнусной глиняной яме под, непонятно, польским ли, украинским ли местечком Сумы, в тысячах верст от своих деревень, для которых уездная Вологда – край земли, без жен, детей, с ожиданием завтрашней атаки и бомбежки… И – вдруг: «Господи, хорошо-то как, все дома!»
Глядя на Елену, он припомнил не просто душой, а всем телом припомнил этот миг тишины: «Все дома!»
Через неделю от батареи не осталось ни одного человека. Последним на носилки погрузили Вылегжанина. Он был бледен, в кровавых бинтах, но черные, ясные глаза смотрели спокойно. Громадного роста унтер выглядел каким-то странно маленьким: обе ноги ему оторвало чуть не по ягодицы. Он шевельнул губами, санитары прочитали что-то в его шепоте и попросили Сеславинского нагнуться к солдату.
– Господин поручик, Александр Николаич, – услышал он неузнаваемый голос, – у меня под задницей браунинг лежит, трофейный. Специально выменял, если что… – он тяжело задышал. – Прошу Христом Богом, порешите меня. Чтобы самому смертоубивство не делать. Грех это.
– Да ты что, Фёдор Терентьич, рано засобирался! – сфальшивил Сеславинский. – Еще девок твоих замуж выдавать будем!
Санитары подняли носилки и двинулись в сторону обоза. Через минуту с той стороны раздался одинокий револьверный выстрел. Сеславинский обернулся и увидел суету вокруг носилок своего унтера. Последнего бойца в его батарее…
Они подошли к маленькому ручейку, который можно было легко перескочить по крутым, в засохшей тине, валунам.
– Ты знаешь, – он догнал Елену и обнял ее за плечи, – весной этот ручеек превращается в самую настоящую речку. И с залива в нее заходят миноги. Финны ловят их руками.
Сеславинский и Елена присели, разглядывая сквозь прозрачную воду песчаное, в некрупных камешках, дно. Ручеек бежал довольно бойко, густо-зеленые бороды водорослей чуть шевелились в такт журчанию воды. И небольшие синие стрекозы зависли между водой и ветками тальника.
– Когда меня из Корпуса отпускали на каникулы, я приходил сюда и всегда здоровался с этими стрекозами. Это невероятно, но что бы ни случилось, будем мы здесь или нет, будем мы живы или нет, что бы ни произошло, эти маленькие стрекозы всегда, всегда будут висеть здесь. Именно в этом месте. И в этом какой-то огромный, огромный Божий смысл, Божий промысел. Мы уйдем, как ушли старые Либахи, показавшие мне этих стрекоз, как наши родители, а они – все так же будут висеть и висеть здесь…
Обратно вернулись, груженые сухим плавником, растопили камин и, устроившись перед ним, не могли оторваться друг от друга. Даже когда Сеславинский привставал с небольшой скамеечки возле ног Елены поправить поленья, ей казалось, что он может исчезнуть, и ей надо было держать его за руку, чтобы быть спокойной.
К вечеру, Елена начала уж было волноваться, весело заквакал клаксон «Рено». Ольга, увешанная покупками и подарками, едва держалась на ногах от усталости. Наскоро перекусили вкуснейшими финскими сардельками, которые Пётр мигом поджарил на угольях камина, и тронулись в путь.
Когда Сеславинский нес Ольгу по крутой винтовой лестнице в их «ротонде», она вдруг проснулась, обхватила его за шею и прошептала, щекоча шею губами:
– Папочка, а ты останешься у нас ночевать?
– Нет, моя дорогая, я должен сейчас ехать по делам.
– А все папы обязательно остаются и спят вместе с мамами. И я бы тогда забралась к вам… – это она пробормотала, совсем уже засыпая и бессильно отбрасывая голову на плечо Сеславинскому.
Глава № 53
Направляясь в Москву по вызову Свердлова, Бокий прекрасно знал, что может его ожидать. И даже вшил в воротник гимнастерки вторую ампулу синильной кислоты. Зашивал сам. Навыки ссыльной жизни в Сибири пригодились. После 30 августа, убийства Урицкого и покушения на Ленина, он никогда не расставался с этими ампулами. Стоило повернуть голову вправо или влево, и уже ощущалась приятная и чуть будоражащая округлость.
Бокию было ясно: московское «дело» провалено из-за полного непрофессионализма. Неоправданно много людей было привлечено к акции, и Свердлову сейчас нужно провести чистку. Свердлов не прячет Ленина-Бланка в Горках, бывшем имении московского градоначальника Рейнбота, но бесконечно это длиться не может. Однако мысль – печатать для Ленина фальшивые газеты под лозунгом заботы о его здоровье: «Пусть Ильич отдохнет!» – Бокию понравилась. Как способ на короткий срок отстранить Старика от дел. Пусть безобидно (и безбедно!) теоретизирует на досуге. Пока все привыкнут к его отсутствию. Конечно, было что-то в этом Свердлове, было.
Соблюдая конспирацию, Бокий заглянул к Фёдорову, единственному человеку, которому он почему-то доверял, и дал команду позвонить маме.
– Скажите, поедем готовить ассамблею, надо отдохнуть!
Теперь Зиновьев, повадившийся контролировать телефонные переговоры Бокия и его помощников, донесет в Москву, что Бокий устал и хочет удариться в легкий загул. Вопрос: кому донесет? Вопрос ключевой, но Бокий обдумывание его отложил – в дороге из Питера в Москву уснуть не удастся, там и разложим карты!
Фёдоров сел за руль неприметного «фордзона» и посмотрел на Бокия. Хорошо зная начальника, он всегда был готов к любой команде.
– На Николаевский! – Бокий имел в виду вокзал.
Подъехали, как всегда со стороны Новгородской, от пересылки, прошли, перешагивая через узлы, корзины, плачущих и ползающих детей, будто вся Россия сорвалась и бросилась на вокзалы, не зная, не понимая еще куда ехать, но внутренним, животным чутьем ощущая леденящий, смертельный страх внутри. Страх этот и толкал хватать детей, вязать в узлы и корзины жалкий скарб и бежать, бежать в надежде сбежать куда-то от надвигающегося ужаса.
Это был мотив, а причины для бегства всякий находил свои. Чаще – голод. От Петрограда осталась треть населения. Хотя петроградским населением этот странный сброд Бокий никогда не назвал бы. Революция и война взболтали гигантский сосуд под названием Россия, и массы народные, веками кое-как устоявшиеся, разделившиеся, как слоями, не смешиваясь, разделяются в колбе, оставленной на ночь, вода, масло, бензин и прочая дрянь, слитая в нее нерадивым лаборантом. От страшного этого встряхивания слои начали перемешиваться, сделав сосуд непрозрачным, мутным, вспучившимся и вязким даже на взгляд.
Вот и сейчас, шагая через раздвинутые ноги баб, сидящих на полу, спящих пьяных солдат и матросов, отталкивая с дороги суетящихся, спешащих куда-то мужиков с коробами на спинах и принюхиваясь к запаху керосина (Фёдоров молодец, не забывает смазать керосином шею, запястья, щиколотки – вернейшее средство от вшей и, частично, блох), Бокий чувствовал приятное возбуждение. Схожее, может быть, с возбуждением хорошей гончей перед охотой. Славно, славно взболтали этот отстойник. Пусть они носятся, давят друг друга, заражают тифом и испанкой, это пойдет на пользу будущей стране. Лавочник Зиновьев полагает, что из ста миллионов должны погибнуть, исчезнуть раствориться десять процентов. Вот их, лавочников, масштаб! Не десять, а половина! Не коммунисты – навоз истории, как предполагал Маркс, а вот эти, эти бегущие, обходящие осторожно человека в плаще, идущего стремительным шагом, разрезая толпу. Вот эти, дышащие чесноком, перегаром, пахнущие портянками и дерьмом, – они лягут навозом для тех, кто сумеет управлять ими. И направлять их.
Бокий молча отодвинул в сторону матроса, охранявшего дверь начальника вокзала. Протолкался через толчею к столу, достал янтарный мундштук и постучал по роскошному письменному прибору. И хотя в общем гвалте этот стук был почти не слышен, начальник вокзала поднял на него красные, отёчные глаза.
– Добрый день, – вежливо улыбнулся Бокий. – Валерьян Сергеевич, как всегда, маленькая просьба. Срочно. Спецмаршрут. Один вагон классный и вагон для охраны. И предупредите все дистанции, чтобы были готовы заправлять паровоз без проволочек.
– Москва? – беззвучно в шуме кабинета спросил начальник вокзала Петровский.
– Москва, – так же беззвучно ответил Бокий. – Срочно. Отправление… – он достал из кармана часы, щелкнул крышкой и прищурился. – Отправление через два часа от платформы Цветочной.
Двух часов должно было хватить: Бокий неожиданно для себя решил, что надо переправить дочерей в Москву, в надежное место. И жену. Если захочет. Он все еще улыбался приветливо начальнику вокзала, размышляя уже, что со Свердловым надо держать ухо востро. А дочки – слабое место.
Бокий был чадолюбив. Кое-кто считал, что даже слишком. Особенно когда Бокий брал девочек, а уж старшую – почти обязательно, на свои «ассамблеи».
– Стоять! – вдруг услышал Бокий у себя за спиной.
Он покосился назад, верный Фёдоров остановил человека, протискивающегося через толпу.
– Глеб Иванович! – человек издали махнул рукой, с надеждой глядя на Бокия. – Глеб Иванович!
Бокий повернулся и чуть двинулся навстречу, не замечая руки, протянутой ему. Бокий вообще не любил рукопожатий.
– Я Зубов, – громко сказал человек, – Зубов, Валентин Платоныч… Вы помните…
Конечно, Бокий превосходно помнил его. Граф Зубов. В его особняке когда-то так удобно было скрываться и уходить от полиции.
– Всё вина коллекционируете? – Бокий любил иногда сбить собеседника идиотизмом вопроса. Кругом грязь, мерзость, толчея, махорочный дух и вошь тифозная, и вдруг – всё коллекционируете?
– Да что вы! – Зубов обрадовался, что Бокий его признал. – Это папенька мой коллекционировал. Я – нет. Я сейчас в Гатчине… – Его оттерли от Бокия, но граф, работая локтями, пробился обратно. – Мне к Луначарскому надобно! Неделю переговоры с ним вел, а нынче он просто перестал трубку брать. Через секретаря отбрехивается.
«Хорошенькая у меня конспирация, – подумал Бокий, – даже этот олух понял, что я двигаю в Москву!» Впрочем, «олух» ничего не понял, он просто сиял прозрачными желто-коричневыми глазами – рад был встретить старого, да еще и могущественного знакомца. Хотя, как показалось Бокию, глаза готовы были тут же по-детски налиться слезами.
– Через час… – Бокий снова достал часы, – через час пятнадцать у входа в Знаменскую церковь. На Лиговке. Прошу не опаздывать. Опоздаете – уеду без вас! И не надо кому-либо сообщать, что вы едете со мной! – Бокий поймал недоумевающий взгляд. – Так у нас принято! – Он щелкнул крышкой и двинулся вслед за Фёдоровым, ловко раздвигавшим толпу.
К платформе Цветочная, что за Московской заставой, подъехали почти вовремя. Бокию пришлось самому сесть за руль – Фёдоров на другой машине смотался за охраной, молчаливыми латышами.
Граф Зубов, находящийся в родстве со всеми знаменитыми фамилиями России, был человек незаурядный. Искусствовед, философ, оригинал. Приютил в Гатчинском дворце, смотрителем которого был, бежавшего из Питера Керенского, яростно отбивался от его охраны – казаков, добиравшихся до сокровищ дворца. Открыл в собственном особняке на Исаакиевской площади (и за свой счет!) Университет искусств, где преподавали и бесплатно читали лекции блестящие ученые, искусствоведы, архивисты. И, как положено русскому интеллигенту, пригревал, прятал от полиции и ссужал деньгами социалистов-революционеров.
В «классном», бывшем царском вагоне, как в последнее время не раз бывало, не работала электростанция. Их когда-то устанавливали шведы, но сейчас шведские специалисты-электрики отказывались ехать в Россию даже за большие деньги. Однако Бокия отсутствие электроосвещения не очень волновало. Скорее, даже наоборот, успокаивало. Маленькая трехлинейная керосиновая лампа давала мягкий, желтоватый свет, обозначив круг от абажура на рабочем столе. Этот круг, в котором лежали его руки и поднимался, затейливо кружась, дым от папиросы, помогал сосредоточиться. Бокий любил это состояние: голова свободна, мысли «отпускаются» и мелькают, выстраиваясь, как в калейдоскопе, в странные структуры, композиции, сочетания… Вспомнился Зиновьев, впавший в истерику от того, что Бокий снял свою подпись под заметкой о красном терроре. «Вы хотите все свалить на меня, хотите, чтобы я вошел в историю как человек, у которого руки по локоть в крови?» Бокий позволил себе чуть улыбнуться – фраза, сказанная в ответ, получилась неплохой: «Стоя по колено в крови, не следует так беспокоиться о чистоте рук…» И смешно, что он вытащил из стола донос из Дома ветеранов сцены. Да, одну из ассамблей пришлось устроить в этом доме на Петровском острове. Старые актёры так возбудились от запахов давно забытой хорошей кухни, что тут же написали Зиновьеву. Надо отметить, что актерам-ветеранам не изменил скандальный нюх: тот ненавидел Бокия и завидовал его ассамблеям.
Бокий услыхал в коридоре голоса. Прислушался. Одна из дочерей. Он знал, что верный Фёдоров не пропустит никого: Бокий не терпел, когда его отвлекали. «Донос актёров», – он снова вернулся к этой мысли. Забавно, что актёры жаловались только на то, что отходы с кухни и объедки со столов не дали им, а бросили бродячим собакам и котам… Это любопытно…
Как быстро меняется психология человека. Ведь кое-кого из этих «корифеев сцены», как они сами именовали себя в доносе, Бокий помнил еще по афишам… Оказывается, если «корифеев» не кормить, они очень быстро превращаются в банальных склочников.
Надо сконцентрироваться на последних событиях. Акция, как любил говорить Свердлов, с Урицким – там все прошло хорошо. Провал акции с Лениным-Бланком… Эта идиотская телеграмма: «Всем, всем, всем…», отправленная раньше времени. Не удержался Яков Михайлович. А операция – сорвалась.
Почему? Барановский с Микуличем, посланные в Москву, не могли промахнуться. Значит, стреляли не они? Но кто и как их отстранил? Перекупил Свердлов? Чем? Деньгами? Тем, что выпустит за границу? Но они же опытные люди, понимают, что за границей тоже не так просто укрыться. Ясно одно – стреляли не они. А кто? Сейчас выяснить трудно – Барановский с фальшивыми документами на имя Протопопова арестован и расстрелян, Микулич, опытная лиса, исчез. Идиотку Каплан Свердлов вовремя изолировал и уничтожил – пока не примчался из Питера долдон Феликс, не посвященный во все тонкости операции, и не принялся за расследование. Не иначе, вызвал своих ребят из Екатеринбурга – Шаю Голощекина, Белобородова, – и вот получили результат работы непрофессионалов.
Фёдоров принес чай, любимые сухари – из черного хлеба с солью. И чуточку чеснока. Как акцент.
– Елена (дочка) хотела прийти перед сном? – как бы спрашивая разрешения, проговорил Фёдоров.
Какое все-таки обаяние у этой девчушки! Даже Фёдоров поддается!
Бокий отрицательно качнул головой. Сейчас не до того. Надо думать, думать… расхлебывать результат работы непрофессионалов… Но не исключено, что они тоже занялись «расхлебыванием» и мой вызов к Свердлову – часть этого дела. Каков же сегодняшний расклад? Ленин-Бланк сидит сычом в Горках, читает «липовые» газеты и кипятится, ожидая, когда закончится бесконечный ремонт, затеянный Свердловым в его кремлевской квартире. Но сидение Ленина в Горках не бесконечно. День-другой, и он вернется. И, зная дотошный характер этой персоны, можно быть уверенным, что возьмется за расследование: как из инсценировки, из цирка, получилась настоящая стрельба? И тут прыткому Свердлову, уже расположившемуся в кабинете Ленина и рассылающему телеграммы едва ли не от его имени, – несдобровать.
Он переставил лампу со стола на дальнюю, почти возле двери, полку. Черно-багровый осенний закат полыхнул за окном. Поезд мчался, раскачиваясь и гремя на стыках. Паровоз, ведомый веселым, усатым машинистом – Бокий уже знал его в лицо, – выплевывал клочья пара, грязные брызги, расчерчивающие окно, и короткие, ухающие гудки. Солнце, то прячась, то вываливаясь из облаков, отдельными лучами, как боевыми прожекторами, освещало проплешины болот, кромку леса, выбегающего прямо к насыпи, избы, странными бородавками расползшиеся по косогорам. И раскачивание, болтанка вагона только дополняли фантастическую картину. В небе явно шла борьба: могучими, нечеловеческими силами орды, стада черных, серых, сизых облаков швырялись откуда-то сверху в плавящееся солнце. Солнце проваливалось в них, высвечивая края облаков оранжевым, нежно-сиреневым, сполохами ярко-желтого и багрового, и вырывалось из тяжелых, черных объятий, чтобы попасть в следующую свинцовую стаю. В промежутках между атаками оно освещало пугающим, театральным светом перелески, слюдяные окна болот и озер и деревенские избы, казалось, разбросанные без всякого признака ratio, здравого смысла.
Поезд-коротышка, состоящий из паровоза и двух вагонов, мчался, разрезая эту молчаливую картину неведомого великого сражения, резкими, ухающими гудками пытаясь разогнать тишину, повисшую снаружи. Там была тишина бёклинского «Острова мёртвых», тишина изначальная, в которой человек всегда начинает с холодом в душе чувствовать себя песчинкой, на мгновение вышвырнутой из дымящейся бездны на край ее – этот невидимый, безмерный, сползающий в бездну край.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































