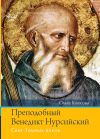Текст книги "Христианство. Три тысячи лет"

Автор книги: Диармайд Маккалох
Жанр: Религиоведение, Религия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 33 (всего у книги 126 страниц) [доступный отрывок для чтения: 41 страниц]
Провинциальные администраторы становились не только христианскими поэтами. Все в большем числе они и их родственники делались епископами, беря с собой митры, которые были частью униформы чиновников византийского императорского двора. Церковь – особенно после терминального кризиса Западной Римской империи в начале V века – оказалась более надежной перспективой, нежели постоянно слабеющая государственная служба, для тех, кто жаждал служить своим общинам или руководить ими. Часто знатные римляне становились епископами потому, что усматривали в этом служении единственную возможность сохранить то, что оставалось от мира, который они любили. Впервые такая ролевая модель проявилась в конце IV века в лице имперского правителя, сделавшегося епископом Милана, – Амвросия. Воспитанный как христианин, но в значительной мере и как благородный человек, он был сыном преторского префекта (т. е. генерал-губернатора) обширной имперской провинции, включавшей в себя современную Францию, Англию и Испанию. Этот великий аристократ предсказуемо начал военную арьеру, столь же предсказуемо завершил ее как правитель Италийской провинции, столица которой – Милан – была основной штаб-квартирой империи на Западе.
Здесь в 373 или 374 году дело приняло неожиданный оборот. Христианское население собралось, чтобы избрать нового епископа, и жестко разделилось на сторонников Никейского вероопределения и тех, кто поддерживал омийский компромисс (см. с. 241–242). Это интересное доказательство того, что христианские общины все еще по-настоящему выбирали своих лидеров – даже в стратегически ключевых городах; но это также означало, что данная ситуация грозила перейти в смертоубийственный бунт, каким было омрачено избрание Дамаса папой. Амвросий пришел во главе воинского подразделения, которое обеспечивало сохранение порядка, и, когда он по-военному твердо высказывал толпе какие-то пожелания, в церкви раздался детский голос: «Амвросия во епископа!» Это было превосходным решением – толпа вняла воплю.[597]597
Stevenson (ed., 1989), 120.
[Закрыть] Будучи рукоположен во епископа после неприлично поспешного прохождения через крещение и священническую хиротонию Амвросий – по крайней мере в политических терминах, – имел поразительный успех. Он был беспощаден в отношениях как с оппонентами Никейского собора, так и с некоторыми христианскими императорами. Для христианства необычайной трансформацией успешности было то, что человек, который легко мог бы сам стать императором, теперь использовал духовную власть церкви, прощая самого могущественного властителя во всем обозримом мире. Церковь прошла большой путь с того времени, когда римские власти видели в ней всего лишь небольшую помеху.
Еще более необычно то, что Амвросий всегда побеждал. В 385 году он отказался отдать главный храм в городе омиям – противникам Никейского собора, по-прежнему имевшим мощное влияние при дворе в правление молодого западного императора Валентиниана II, несмотря на решения соборов в Константинополе и Аквилее в 381 году (см. с. 242). По мере того как борьба за власть в городе продолжалась, на следующий год Амвросий вдохновился на необыкновенный акт, чтобы отстоять свои права. Он ввел в действие другой большой новый храм и объявил, что сам он будет впоследствии похоронен в его средоточии, под алтарем. Такой поступок был для еще здравствующего епископа беспрецедентным, и даже Константин не дерзал обеспечивать себе подобное место для погребения. А императорскому двору Амвросий сообщил, что надеется на мученическую кончину и позаботился о подобающем месте воспоминания своего мученичества. Продолжая череду дерзких поступков, он заставил работников раскопать основание своего только что построенного храма, и те извлекли из-под земли тела двух мучеников времен Неронова гонения, уже с готовыми именами – Гервасий и Протасий, – «долго неведомых» и действительно первых из мучеников, какие когда-либо были известны в Церкви Милана. Торжественным парадом епископ обнес вокруг основных храмов города их кости, покрытые следами крови (возможно, если это было на самом деле подлинным открытием, кости цвета охры из доисторических захоронений). Последовали чудесные исцеления. Омии не могли конкурировать, а их власть в любом случае закончилась со смертью Валентиниана.[598]598
Там же, 132–134.
[Закрыть]
После этих лет борьбы Амвросий был хорошо подготовлен, чтобы отстаивать свои права – или права церковной власти – против набожного сторонника Никейского символа веры императора Феодосия I. В наших глазах результаты выглядят двусмысленно. В двух изрядно контрастирующих ситуациях Амвросий, с одной стороны, заставил императора отменить приказ о компенсации иудейской общине в Месопотамии, чья синагога была сожжена воинствующими христианами, а с другой – успешно приказал императору совершить покаяние за его мстительность, после расправы, которую тот учинил над взбунтовавшимися жителями Фессалоник (современный г. Салоники в Греции).[599]599
Там же, 135–139.
[Закрыть] Оба злодеяния произошли в сотнях миль от Милана, но благодаря этому стало ясно, что епископ церкви Вселенской может в действительности быть международным политиком. Когда Амвросий приходил, чтобы проповедовать на погребении сначала молодого и скорее незадачливого императора Валентиниана II, а позже – Феодосия, он без каких бы то ни было терзаний пренебрегал всеми условностями, требовавшими похвал таким мировым лидерам. Он представлял их как людей, подверженных ошибкам и страданиям, и особенно подчеркивал смирение Феодосия.[600]600
Lunn-Rockliffe, “Ambrose’s Imperial Funeral Sermons”, особенно на с. 205.
[Закрыть]
Так в 390-х годах стало казаться, что будущее – за христианской империей под владычеством сильных правителей, как Феодосий, и сильных епископов, как Амвросий: кульминация Божьего замысла о мире и начало золотого века, как воображал историк Константина Евсевий Кесарийский. Но оказалось, что это мираж. Западную Римскую империю захлестнули волны нашествий «варварских» племен из-за северных границ; наиболее унизительным ударом стало взятие и разграбление самого города Рима армией визиготов под предводительством Алариха в 410 году. Через шестьдесят шесть лет мальчик-император Ромул Августул был низложен своими наемными войсками, которые легко заключили расплывчатое соглашение с императором в Константинополе, признав его единственным императором. К этому времени бо́льшая часть тех территорий, что прежде принадлежала Западной Римской империи, находилась под контролем варварских царей, и византийцы, хотя и отвоевывали много земель в Западном Средиземноморье, не слишком долго держались за эти завоевания. Все это стало основанием долгого процесса разъединения и разделения между Востоком и Западом внутри имперской Церкви. Западная латинская церковь теперь добавила к утверждению Дамасом ее традиции и к демонстрации Амвросием того, как она может бросать вызовы мирской власти, еще и богослова, который даст ей ее собственный голос и сформирует ее мышление вплоть до новейшего времени: Августина, епископа Гиппонского.
Августин: человек, придавший форму Западной церквиАвгустин был латиноязычным богословом, мало интересовавшимся греческой литературой; он выучил греческий язык только в конце жизни, практически ничего не читал из Платона или Аристотеля и мало повлиял на Греческую церковь, которая, по правде говоря, впоследствии с глубоким неодобрением относилась к одному аспекту его богословского наследия – к одной модификации Никейского символа веры (см. с 335–336).[601]601
Лаконичное и очень минималистическое заключение о знании Августином греческого языка см. в: G.Bonner, Saint Augustine of Hippo: Life and Controversies (2nd edn, Norwich, 1963), 394–395.
[Закрыть] Напротив, его воздействие на западную христианскую мысль едва ли можно недооценивать; только Павел из Тарса, которого он так любил приводить в пример, имел большее влияние, и на Западе обычно Павла видели глазами Августина. Это один из немногих раннецерковных авторов, чьи некоторые труды до сих пор можно читать для удовольствия, особенно замечательный и, наверное, слишком откровенный самоанализ в его Исповеди – грандиозном молитвенном повествовании, являющемся прямой беседой «Я – Ты» с Богом. События жизни Августина разворачивались на фоне подъема, последнего всплеска и падения христианской Западной Римской империи, но вне зависимости от этих великих политических потрясений его жизнь можно рассматривать как серию ответов на конфликты – как внутренние, так и внешние.
Сначала борьба была с самим собой. Кем он хочет быть и как ему найти истину, которая его удовлетворит? Он был воспитан в 350–360-е годы в захолустье Северной Африки. Его отец Патриций (о котором Августин говорит мало) не был христианином. Его мать Моника – пусть не очень образованная, но глубоко набожная женщина, принадлежала к Католической церкви. Взаимоотношения матери и сына были напряженными и зачастую конфликтными. У Августина вызывала протест ее незамысловатая религия, и когда родители сэкономили достаточно денег, чтобы послать его в Карфагенскую школу, волнения университетской жизни постепенно повлекли его к римской литературе и философии. Весь мир был у его ног. Он жил с наложницей, и та родила ему сына, чье имя Адеодат («От Бога данный») могло быть плодом размышления о том, что появление ребенка было очевидно незапланированным.[602]602
R.S.Pine-Coffin (ed.), Saint Augustine: Confessions (London, 1961), 72 [IV.2].
[Закрыть] Но даже когда Августин начал исключительно многообещающую карьеру как учитель риторики (изучение языка, лежащее в средоточии латинской культуры, – пропуск к успеху и, возможно, к политической карьере), его стали обуревать тревоги, которые оставались предметом его богословской озабоченности на протяжении всей его жизни.
Что явилось источником зла и страданий в этом мире? Это был древний религиозный вопрос, на который гностики пытались ответить, изображая бытие как некую вечную дуалистическую борьбу, и именно гностическая религия времен Августина – манихейство – первая сделала его своим приверженцем, каковым он оставался девять лет. Потом он постепенно разочаровался в манихейской вере и, по мере того как он добивался академических успехов в Риме и Милане, его охватили тревоги и сомнения в природе истины, реальности и мудрости. Перестав находить пользу в манихействе, Августин обратился к вере неоплатоников, но в Милане он был также очарован епископом Амвросием. Здесь впервые он встретил христианина, чье чувство собственного достоинства вызывало у него уважение и чьи проповеди с их звучным и богатым языком восполняли ту грубость и вульгарность Библии, которая была так мучительна для Августина в юности. И хотя его смущало показное благочестие матери (она сопровождала его в Милан), теперь он созерцал веру, которая объединяла имперского аристократа на кафедре и пожилую женщину из провинциальной глуши. Его стали раздирать противоречивые порывы – к карьере и к христианскому отречению, и в конце концов собственные амбиции стали вызывать у него омерзение. В дополнение к своим страданиям, по настоянию матери в 385 году он разорвал отношения со своей наложницей, чтобы вступить в настоящий брак. Та вернулась в Африку, поклявшись оставаться ему верной (в середине повествования о своем отречении от мира в Исповеди Августин, по крайней мере, имел милость запечатлеть ее решение, хотя у него так и не хватило решимости назвать ее по имени). Мы можем вообразить, что́ она чувствовала, уходя из жизни человека, который был ее спутником на протяжении пятнадцати лет, и оставляя очаровательного и талантливого сына-подростка на попечение своего любовника.[603]603
Там же, 131 [VII.15]; см. комментарий в: P.Brown, Augustine of Hippo: A Biography (London, 1969), 62–63, 88–90.
[Закрыть]
В состоянии, граничащем с нервным срывом, и нездоровый физически, Августин дошел в 386 году до кризиса, которому суждено было снова принести ему спокойствие и определенность. Согласно его собственному рассказу, ключевой подсказкой был детский голос, прозвучавший над его головой в саду (похоже, у детей в Милане было хорошее чувство времени). Августин услышал повторяющиеся нараспев голосом ребенка слова «tolle lege» – «возьми, читай». Книгой, которая оказалась у Августина поблизости, были Послания Павла, которые он открыл наугад на словах из главы 13 Послания к Римлянам, которые сейчас составляют стихи 13–14: «Облекитесь в Господа Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти».[604]604
Pine-Coffin (ed.), Saint Augustine: Confessions, 177–178 [VIII.12]. (Здесь и далее «Исповедь» цитируется в рус. пер. М. Е. Сергеенко по изд.: Аврелий Августин, Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонского. Изд. подготовил А. А. Столяров. М.: Renaissance, 1991, с. 211. – Прим. пер.).
[Закрыть] Этого было достаточно, чтобы полностью вернуть его к вере его матери, и это значило, что его планы жениться были оставлены в пользу безбрачной жизни. Вот и другая женщина оказалась отвергнута с презрением: невеста Августина удостоилась не большего, чем его наложница, внимания со стороны историков вплоть до новейшего времени. Когда Августин возвещает о своем разрешении от терзаний, Моника «ликует, торжествует и благословляет Тебя… Ты обратил печаль ее в радость, (…) более ценную и чистую, чем та, которую она ждала от внуков, детей моих по плоти». Толковать это материнское торжество можно по-разному.[605]605
Там же, 178–179 [VIII.12]. [Рус. пер.: Августин Исповедь, с. 211].
[Закрыть] Когда в более поздние годы Августин стал обсуждать концепцию первородного греха – той роковой трещины, унаследованной согласно его богословию всеми людьми через грех Адама и Евы, он рассматривал первородный грех как неотделимый от полового акта, который передает грех от поколения к поколению. Этот взгляд имел решающее по своим последствиям значение для отношения Западной церкви к сексуальности.
В своем обращении Августин нашел освобождение от терзаний. Одним из элементов его кризиса был импульс, полученный им при встрече с неким знакомым, жителем Северной Африки, который повергся в состояние глубоких сомнений в себе и беспокойства об успехе своей административной карьеры, когда познакомился с Житием Антония, написанным Афанасием.[606]606
Там же, 167–168 [VIII.6].
[Закрыть] Теперь же Августин и сам решил расстаться с собственными амбициями и, оставив преподавательскую карьеру, последовать примеру Антония – до известной степени, ибо ему предстояла жизнь пустынника (минус пустыня, плюс хорошая библиотека). Его замыслом было создать вместе с образованными друзьями в своем родном городе общину холостяков – монастырь, который введет лучшее из культуры Древнего Рима в христианский контекст. Этот желанный план вскоре сорвался из-за неспокойной церковно-политической жизни в Северной Африке. Католическая христианская церковь, к которой принадлежал Августин, была связана со всей остальной церковью Средиземноморья и с имперской администрацией, но она составляла в Африке меньшинство перед лицом глубоко укорененного местничества донатистов, лелеющих обиды времен великого Диоклетианова гонения (см. с. 234–235) и теперь, через сто лет; среди них были некоторые наиболее способные богословы Африканской церкви.
С 387 года донатисты неожиданно обрели преимущества благодаря поддержке местного правителя Гильдона – мятежника, установившего свой частично независимый от императора режим. В 391 году Августину довелось посетить борющуюся католическую общину Гиппона Регия (ныне г. Аннаба в Алжире), самый значительный порт провинции после Карфагена. Тамошний епископ – своеобразный, практичный старый грек по имени Валерий – подбил свою паству на то, чтобы она заставила этого блистательного пришельца сделаться священником, и вскоре Августин уже стал епископом-коадъютором (помощником) в этом городе. После смерти Валерия и вплоть до своей собственной кончины в 430 году он был епископом Гиппона. Все его богословские труды создавались теперь на фоне напряженной пастырской деятельности и проповедования для церкви, которая находилась в мире, переживавшем коллапс. Многие из них были написаны в форме проповедей.[607]607
Достойно размышления мнение Боннера (Bonner, Saint Augustine of Hippo, 3), рассматривающего Августина, раскрывшегося в Исповеди, как эгоистичного интеллектуала: «Можно уверенно утверждать, что все то в характере Августина, что может называться святостью, было результатом его принудительного рукоположения».
[Закрыть] В последующий период в его жизни доминировала проблема, поставленная донатистами, – в русле не только политики, но и тех вызовов, которые их богословие предъявляло католикам. С гордостью вспоминая свою безупречную репутацию во времена гонений, они провозглашали, что церковь – это собранная воедино чистая община. Августин же считал, что «Единая, Святая и Кафолическая» означает вовсе не это. Кафолическая церковь – это та, которая не столько чистая, сколько стремящаяся или желающая быть чистой. В отличие от донатистов, она находилась в общении с огромным числом христианских общин во всем ве́домом мире. Кафолическая церковь – это поистине то, что Августин не боялся называть «общением императора».[608]608
Августин, Толкование на Псалом [Enarratio in Psalmum] 57, 15; цит. по: Chadwick, 31.
[Закрыть]
В 398 году полоса успехов донатистов закончилась тем, что императорские войска уничтожили режим Гильдона; теперь католики оказались в положении, когда они снова могли диктовать условия. В предшествовавшее десятилетие Августин в сотрудничестве с Аврелием, епископом Карфагена, по сути напоминавшим государственного чиновника, много сделал, чтобы подготовить этот поворот. Он попытался вернуть донатистов в лоно Католической церкви путем переговоров. При неприязненном отношении правительства и приказах приспособиться донатисты оставались непокорными, и поведение обеих сторон начало вырождаться в порочный круг насилия.[609]609
Традиционная картина фанатизма и насилия донатистов-циркумцеллионов, похоже, является в значительной степени плодом литературного творчества победителей-католиков; см.: B.D.Shaw, “Who Were the Circumcellions?”, в книге: A.H.Merrills (ed.), Vandals, Romans and Berbers: New Perspectives on Late Antique North Africa (Aldershot, 2004), 227–257.
[Закрыть] К 412 году Августин потерял терпение и обратил враждебное новое правительство против донатистов. Он даже подвел под репрессии богословскую почву: одному своему другу-донатисту он указал на то, что в притче Иисуса хозяин заполнял места на своем пире, повелевая: «Заставь их прийти»[610]610
Лк 14:23; Августин епископу Винцентию, цит. по: Stevenson (ed., 1989), 220–222.
[Закрыть] (в Синодальном и других популярных переводах на русский язык – «убеди их прийти». В греческом тексте Лк 14:23 – «заставь». – Прим. ред.). Это означало, что долг христианского правительства – поддерживать Церковь, наказывая ересь и схизму, и та принудительная приверженность, к которой это приведет, может стать началом живой веры. Эта сторона учения Августина была очень привлекательна для христианских режимов в последующие века.
В то же время перед Августином встала проблема объяснить катастрофу, которую переживал римский мир. Как могло Божье провидение допустить крушение подлинно христианской Римской империи, особенно разграбление Рима полчищами варваров в 410 году? Естественно, религиозные традиционалисты склонялись к мысли, что корнем проблемы был флирт Рима с христианской церковью, но даже христиане не могли понять, как такому еретику-арианину, как гот Аларих, было позволено разграбить католический Рим. Частично христиане отвечали аргументом от истории. Протеже Августина испанец Павел Орозий написал «Историю против язычников», целью которой было кратко рассмотреть всемирную историю и показать, что в дохристианские времена бывали и худшие катастрофы и что главное значение пришествия Христа – это мир. Однако труд Орозия представляется поистине незначительным в сравнении с тем ответом, который дал в то же самое время Августин: «О Граде Божием» (De Civitate Dei). Это стало его самым монументальным трудом, к которому он приступил в 413 году и написание которого заняло 13 лет.
Августин начинает с рассмотрения римской истории и высмеивает древних богов, но вскоре его интерес становится шире отдельной катастрофы, затронувшей Рим или даже весь ход римской истории. Августин обращается к тому, что составляет средоточие его мысли: какова причина и природа зла и как они соотносятся с величием Бога и Его всемогущей благостью? Для Августина зло – это всего лишь не-существование, «отсутствие добра», поскольку Бог – и никто иной – наделил все сущее бытием. Всякий грех есть свободное отпадение от Бога к небытию, хотя уразуметь, почему это происходит, – это «подобно попыткам видеть тьму или слышать тишину».[611]611
H.Bettenson and D.Knowles (eds.), Augustine: Concerning the City of God against the Pagans (London, 1967), 440 [XI.9], and 479–480 [XII.7].
[Закрыть] Можно понять, почему бывший манихей так отдаляется от воззрения, которое прежде составляло центр его веры, – что зло является конкретной силой, постоянно борющейся за господство с силой света; тем не менее как определение зла его идея часто становилась предметом критики. Посещая Аушвиц-Биркенау или поля смерти в Кампучии, трудно не ощутить, что (по крайней мере, в рамках человеческого опыта) чистое зло – это нечто большее, чем чистое небытие. Кроме того, Августин не пытается объяснить, каким образом творение, созданное беспорочным, обратилось ко злу – то есть, создало зло из ничего.[612]612
Аккуратную христианскую критику Августина см. в книге: J.Hick, Evil and the God of Love (2nd edn, London, 1977), 38–89, особенно на с. 53–58.
[Закрыть]
Только к середине своего труда, в конце 14-й книги, Августин начинает открыто поднимать тему двух градов: «град земной славится в себе самом, Град Небесный славится в Господе».[613]613
Bettenson and Knowles (eds.), Augustine, 593 [XIV.28].
[Закрыть] Все известные нам институции составляют часть борьбы между этими двумя градами, борьбы, которая продолжается на протяжении всей мировой истории. А если это так, то идея христианской империи, какой представлял ее себе Евсевий Кесарийский, никогда не сможет стать совершенной реальностью на земле. Никакая структура в этом мире, включая даже Церковь, не может быть безоговорочно отождествлена с Градом Божьим, как показывает сама библейская история со времен первого убийцы: «Каин основал град, тогда как Авель, будучи странником, не основал града. Ибо Град святых – в вышних, хотя он и производит граждан здесь, внизу, и в их лице тот Град странствует, пока не придет время его Царствия». Иногда Августин бывает неаккуратен в выражениях, и, хотя он привержен принципу не отождествлять зримую Церковь в мире с Небесным Градом, на деле он все же отождествляет их.[614]614
Цит. там же, 596 [XV.1]. Об этих отождествлениях см. там же, 335, 524, 920 [VIII.24; XIII.16; XX.11].
[Закрыть] По иронии судьбы значительная доля влияния «Града Божия» в последующие тысячу лет обязана своим существованием способности средневековых церковников расширять это отождествление в стремлении сделать церковь главенствующей на земле, приравнивая земной град к противникам церковной власти, таким как некоторые из правителей Священной Римской империи.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?