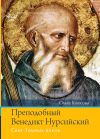Текст книги "Христианство. Три тысячи лет"

Автор книги: Диармайд Маккалох
Жанр: Религиоведение, Религия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 34 (всего у книги 126 страниц) [доступный отрывок для чтения: 41 страниц]
Вместе с тем другая часть энергии Августина была направлена в эти годы на участие в ожесточенном споре с учением британского монаха по имени Пелагий.[615]615
Было много споров о происхождении Пелагия, но Августин упоминает его как “Brittonem”: Frend, 694 n. 161.
[Закрыть] В конце IV века недавно принявшие христианство представители высшего класса в Риме были озабочены проблемой духовного руководства, и многие «святые мужи» спешили обеспечить им желаемое. После внезапного отъезда Иеронима в 384 году у Пелагия оставалось мало серьезных соперников. Центральной проблемой для него и для его духовного попечения было разобраться с установившимся теперь новым статусом христианства: присоединяются ли те богатые люди, которым помогает Пелагий, к Церкви, просто делая некий легкий выбор, без какого-то реального осознания, что они должны при этом преобразить свою жизнь?[616]616
Полезное обсуждение этого контекста см. в: Curran, “Jerome and the Sham Christians of Rome”.
[Закрыть] Пелагия особенно беспокоило то, о чем он читал в ранних трудах Августина: значение, которое придавал Августин величию Бога, казалось, оставляло людей беспомощными куклами, которые могли запросто забыть о том, что они несут ответственность за свое поведение. Августин и некоторые другие его современники, мыслившие подобным образом, следовали идеям Тертуллиана, утверждавшего двумя веками ранее, что все человечество поражено виной, унаследованной от Адама, которую они называли «первородным грехом». Пелагию казалось, что это снабжает христиан ложной простительностью, позволяя им пассивно избегать любых нравственных усилий. Это привело его к утверждению, что наша богоданная природа не настолько повреждена, чтобы мы оказались неспособны делать что-то для нашего спасения: «Что мы способны видеть нашими глазами, это вовсе не наша сила; но в наших силах использовать наши глаза во благо или во зло… То, что мы в силах совершать всякое благо делом, словом и мыслью, происходит от Того, Кто наделил нас этой возможностью, а также помогает ей».[617]617
Stevenson (ed., 1989), 232–233.
[Закрыть] Как следствие, Пелагий верил, что природа «Святой церкви» основывается на святости ее членов: в точности то же говорили о церкви и донатисты, и это особенно должно было разжечь ярость Августина.[618]618
S.Thier, Kirche bei Pelagius (Patristische Texte und Studien, 50, Berlin and New York, 1999), 322.
[Закрыть]
По мере развития споров последователи Пелагия, делая собственные выводы, начали настаивать на том, что, хотя Адам и согрешил, его грех не передавался через поколения как первородный грех, но просто послужил дурным примером, который мы по собственному выбору вольны проигнорировать. Нашим выбором может быть обращение к Богу. Мы обладаем свободой воли. Взгляды Пелагия зачастую представляли как довольно милые, в противоположность жесткому пессимизму взглядов Августина на наше падшее состояние. При этом упускается из виду, что Пелагий был строгим пуританином, чье учение налагало устрашающую ответственность на плечи каждого человека: вести себя соответственно высочайшим стандартам, требуемым Богом. Мир, который он создал бы, основываясь на этих взглядах, был бы одним большим монастырем.[619]619
Ср. идеи другого оппонента Августина в более позднее время – Дезидерия Эразма; см. с. 633–636.
[Закрыть] Было бы невозможно поддерживать смешанное человеческое общество порока и добродетели, какое представляет Августин в «Граде Божием», где ни один христианин не вправе избегать повседневных гражданских обязанностей этого падшего мира или даже того, чтобы быть судьей, ответственным за наказание других людей, – именно потому, что все они вовлечены в последствия падения Адама и Евы в саду Эдема. Пессимизм Августина начинался как реализм – реализм епископа, оберегающего свое стадо среди смятений этого мира. Следует заметить, что первые случаи осуждения им богословия Пелагия появляются не в трактатах, написанных для сотоварищей-интеллектуалов, а в проповедях для его собственной общины.[620]620
Отмечено Боннером (Bonner, Saint Augustine of Hippo, 4).
[Закрыть]
Разграбление Рима в 410 году обернулось тем, что множество беженцев рассеялось по всему Средиземноморью, и благодаря этому споры вышли далеко за рамки римского круга общения Пелагия. Один из его восторженных последователей – юрист по имени Целестий – прибыл в Северную Африку и в своих толкованиях взглядов Пелагия дошел до той крайней точки, когда не оставлялось уже никакой возможности признавать первородный грех. Так, он говорил, что нет никакого греха, который подлежит отпущению в крещении: «Грех не рожден вместе с человеком, а уже впоследствии совершается человеком; ибо он является виной не природы, а человеческой воли».[621]621
Stevenson (ed., 1989), 236.
[Закрыть] Невозможно представить себе выбор темы более болезненной для Северной Африки, где многие споры между католиками и донатистами основывались на претензии каждой из сторон, что именно она является истинной наследницей высказанного в III веке Киприаном учения о крещении как единственном пути к обретению спасения. Именно эти утверждения Целестия впервые вызвали у Августина ярость против совокупности положений, за которыми впоследствии закрепился ярлык «пелагианство». Его взаимоотношения с самим Пелагием не опустились до такой же озлобленности. В последующие несколько лет сложная цепочка политических действий и противодействий еще сильнее накалила атмосферу: «крестовый поход» Августина против пелагиан в конце концов завершился их поражением и отстранением от церковных должностей всех их высокопоставленных сторонников.
По ходу дела мысли Августина о природе благодати и спасении доходили до все больших крайностей, прослеживающихся как в «Граде Божием», так и в длинной серии трактатов, которые он писал, нападая на идеи Пелагия. В конечном счете Августин мог уже говорить, что не просто все человеческие порывы делать добро происходят в результате действия Божьей благодати, но и что вопрос о том, кто́ получает эту благодать, всецело зависит от произвольного решения Бога. Бог принял решение прежде всех времен, и в силу этого некоторые предопределены быть спасенными посредством благодати: предопределенная группа избранных. Эта произвольность полностью оправданна по причине чудовищности грехопадения Адама, которой мы все приобщены через первородный грех: Августин постоянно использует ужасное слово «масса» (massa), описывая погибшее человечество. Именно к этому слову он часто возвращается, в сочетании с латинскими словами, означающими «погибель», «грех», «скверна».[622]622
Там же, 238–239. Боннер (Bonner, Saint Augustine of Hippo, 378) указывает на каталог таких выражений, собранный в книге: O.Rottmanner, Der Augustinismus. Eine dogmengeschichtliche Studie (München, 1892), 8.
[Закрыть] В ту пору это богословие благодати много критиковалось, и вплоть до настоящего времени и католики, и протестанты то отвергают его, то поддаются его очарованию. Один из почитателей и биографов Августина в Новое время, который боролся с этим человеком на протяжении всей своей жизни, готов прямо сказать, что «августиновское предопределение – это не доктрина церкви, а только мнение выдающегося католического богослова».[623]623
Bonner, Saint Augustine of Hippo, 392.
[Закрыть] Было бы хорошо, если бы западные теологи – католики и протестанты – осмыслили это. Восточным богословам, испытавшим чрезвычайно сильное влияние восточной монашеской традиции духовного подвига, которая охватывает и халкидонитов, и нехалкидонитов, никогда не приходился близким по духу подход Августина к благодати. Современные ему оппоненты – в частности, умный и откровенный аристократпелагианец Юлиан, Епископ Экланский, – указывали на личную историю Августина и его увлечение манихеями с их дуалистической верой в вечную борьбу между равновесными силами добра и зла.[624]624
О Юлиане и Августине см.: Brown, Augustine of Hippo, 381–397.
[Закрыть] Такие критики говорили, что именно отсюда проистекал и пессимистический взгляд Августина на природу человека, и его упор на роль полового размножения в передаче грехопадения.
Возможно, справедливости ради следовало бы сказать, что Августин был наследником мироотрицающих импульсов платоников и стоиков. Его опора на неоплатонизм в ранние годы несомненно оставалась с ним; отсылки к наследию Платона (из собственных трудов которого он на самом деле мало что прочел) и платонический образ мысли во многом характерны для его сочинений. Посреди многих одобрительных ссылок на Платона в Граде Божием Августин смог в конечном счете прийти к утверждению, что платоники – почти христиане: «Вот почему мы ставим платоников выше остальных философов».[625]625
Bettenson and Knowles (eds.), Augustine, 304–315 [VIII.5–15]; цит. на с. 313 [VIII.10].
[Закрыть] Это помогает объяснить, почему Платон оставался сердечно близким к христианской мысли на протяжении всего средневекового периода, даже тогда, когда в XII–XIII веках христианских мыслителей взволновало новое открытие многих утраченных трудов Аристотеля (см. с. 432–433). Августин не сделал ничего, чтобы помешать христианам видеть Бога глазами неоплатоников. Бог, согласно платоникам, был трансцендентным, другим, отдаленным. Когда Его образ появлялся в мозаике или живописи, – особенно характерно, если это воскресший Христос, Судия Последних дней, – господствуя над храмом с потолка алтарной апсиды перед глазами собрания верующих и духовенства, Он был подобен монарху, чей суровый взор пронзал стоящего в трепете зрителя, подобно тому, как мог пронзать взгляд земного императора в моменты официальных мероприятий.
Это создавало всё бо́льшую потребность в признании мириады придворных, которые могут ходатайствовать перед их Императором-Спасителем за обычных людей, ищущих спасения или помощи в своей повседневной жизни. Такими придворными стали святые. Их ряды заметно разрослись в сравнении с рядами мучеников времен гонений, почитавшихся начиная со II века в паломнических центрах, подобно гробнице святого Петра в Риме. Теперь к мученикам были присоединены множащиеся воинства отшельников, монахов, даже епископов, хотя из числа ведущих обычную жизнь мирян немногие удостоились такой чести. Как мы уже отмечали, когда знакомились с культом христиан в их новых храмах-базиликах (см. с. 222–223), Небесный Двор с его иерархией ангелов и святых вполне напоминал императорский двор Константинополя или Равенны. В этом мире, чтобы добиться успеха или просто выжить, людям нужны были заступники, и для них было естественно предполагать, что в таких же заступниках возникнет нужда и в будущем мире. Более того, дружба – amicitia – представлялась для римлян важной аристократической добродетелью, и легко понять, сколь привлекательным было видеть в святом не только покровителя, но и друга на Небесах.[626]626
Salzman, The Making of a Christian Aristocracy, 211–213.
[Закрыть] Преимущество таких святых-покровителей состояло в том, что они, похоже, ничего не требовали для себя, тем временем как просить их о помощи можно было в любое время. Иногда рост веры в святых рассматривался как суеверие людей невежественных и обратившихся лишь наполовину, латентное возвращение прежних богов в обличиях святых: это было любимой темой некоторых гуманистов или протестантских реформаторов в XVI веке на Западе. На самом же деле это логическое продолжение платоновской составляющей в богословии Августина и отголосок тех иерархий, существование которых усматривали в окружающем Высшее Божество космосе Платон и его почитатели. И нет никакой забывчивости в том, что величественная литературная архитектура «О Граде Божием» оставляет в последней его книге пространство для серии рассказов о современных автору чудесах, связанных со святыми.[627]627
Bettenson and Knowles (eds.), Augustine, 1033–1048 [XXII.8–10]; прекрасное исследование этой темы см. в книге: P.Brown, The Cult of the Saints (Chicago, 1981), особенно с. 55–64.
[Закрыть]
Среди крупных трудов Августина меньше всего содержит явные противоречия по форме, но в конечном счете оказывается бо́льшим, чем что-либо иное написанное им, источником церковного конфликта его трактат о Троице – наиболее глубокое исследование этой главной загадки христианской веры из когда-либо осуществленных латинским Западом. Начатый около 400 года, труд был написан в сознании того, что споры о Троице на Востоке в некоторой мере разрешились. Августин не обладал полнотой информации о великих конфликтах по поводу Троицы, происходивших на Востоке в предшествовавшие десятилетия, ничего не зная, например (и, вероятно, к несчастью), о Константинопольском соборе 381 года или о созданном им Символе веры, – но он мог располагать латинскими переводами некоторых значимых греческих тринитарных дискуссий Григория Назианзина.[628]628
J.Lössl, “Augustine in Byzantium”, JEH, 51 (2000), 267–295, на с. 270–271; о незнании Августином Константинопольского собора см.: Chadwick, 27.
[Закрыть] Каков бы ни был источник, Августин вдохновился на то, чтобы развивать защиту учения о трех равных Лицах в едином существе, – учения, которое в своей утонченности и смелости наделило мышление Западной церкви формой и вместе с тем, способствовало отчуждению восточных христиан от Запада.
Несмотря на то что Августин с возрастающим усердием настаивал на падшей природе человечества, он разглядел в людях образ Троицы – или, по крайней мере, аналогий, посредством которых падшие люди могут Ее понять. Во-первых, Отец, Сын и Дух Святой могут быть представлены посредством трех аспектов человеческого сознания, соответственно:
…сам ум, его знание, которое есть его порождение и от него самого слово его, и третье – любовь; и эти три – одно и одна субстанция. Порождение не меньше, чем ум, поскольку тот знает себя таким, каков он есть; также не меньше и любовь, поскольку любит себя такою, какую знает и какова есть.
Августин продолжил представление аналогий в другой форме, когда Лица Отца, Сына и Святого Духа корреспондировали с тремя аспектами собственно человеческого ума: это, соответственно, память, понимание и воля – и точно так же они оказывались «не тремя субстанциями, но одной субстанцией».[629]629
J.Burnaby (ed.), Augustine: Later Works (Library of Christian Classics VIII, 1955), 71, 88 [De Trinitate IX.18; X.18].
[Закрыть]
Для греков этот «психологический» образ Троицы в конечном счете оказался неприемлем, во многом потому, что у Августина он сочетался с особым объяснением того, как Святой Дух как любовь или воля соотносится с другими Лицами Троицы. Следует обратить внимание на то, что он описывает память и понимание – и, таким образом, Отца и Сына – как «охваченные, тогда как для наслаждения ими и использования их присутствует воля».[630]630
Там же, 85 [De Trinitate X.13]. (Прим. пер.: Либо автор неточно цитирует источник, что существенно искажает его смысл, либо здесь произошел случайный технический пропуск части текста. В латинском оригинале этого фрагмента (его общий смысл полностью сохранен в английском переводе, на который дана ссылка) буквально следующее: «Итак, двумя из трех – памятью и пониманием – охватываются познавание и знание многих вещей, тогда как для наслаждения ими и использования их присутствует воля»).
[Закрыть] С появлением первой никейской формулировки в 325 году отношение Сына к Отцу описывается как физическое отношение сына к родителю: «рожденный» от Отца. Святой Дух не был «рожден» от Отца, и тем словом, которое было выбрано, чтобы определить отношение Духа к Отцу, стало слово «исходящий». Естественно, Августин не хотел оспаривать это, поскольку слово «исходящий» имело прочное библейское основание в речении Иисуса о Духе в Евангелии от Иоанна (15:26). Но как всякий, рассуждающий о Троице, он оказался на том пути, на котором терминология «исхождения» подчеркивала утрату слаженности между Лицами Троицы. Отец и Сын неизбежно определяются своими взаимоотношениями, но слово «Дух», похоже, предполагает, что Его индивидуальный характер проистекает из Его собственной природы, без какой-то связи. Отец и Сын соотносятся друг с другом иным образом, нежели они оба – с Духом.
Эта идея породила ту же проблему, с которой столкнулись многие другие богословы в конце IV века, оправдывая равный, а не подчиненный статус Святого Духа в Троице (см. с. 242). Августин счел разумным защитить равенство Духа посредством утверждения, что Сын участвует в «исхождении» Духа от Отца. Разве не воскресший Иисус Христос, сын Божий, сказал ученикам: «Примите Духа Святого» (Ин 20:22)? Посредством этого двойного исхождения от Отца и Сына Святой Дух представил человечеству «ту взаимную любовь, которою Отец и Сын любят друг друга».[631]631
Там же, 157 [De Trinitate XV.27].
[Закрыть] Те, кто позже будет читать Августина, подметят между тем, что Никео-Константинопольский символ веры 381 года говорит о Духе Святом только как об «исходящем от Отца». Не следует ли – по августиновой аналогии – расширить это и признать, что Дух Святой «исходит от Отца и Сына»? Хотя были уважаемые греческие богословы, которые, говоря о двойном исхождении, использовали терминологию, похожую на Августинову, этот вопрос обернулся расколом имперской Церкви: если Запад, как мы увидим, в конечном счете согласился внести в Символ веры такое изменение, то оно оказалось предметом сильнейшей обиды на Востоке (см. с. 379–380). Соответственно, пострадала и репутация Августина среди греков.
Современным западным читателям может быть трудно понять гнев греков по поводу взглядов Августина на Троицу, в то время как куда сложнее оказывается примириться с его взглядами на человеческую природу, особенно если читать возрастающие в своей жесткости его поздние творения против пелагиан. Надо помнить, что мрачный взгляд Августина на природу и способности человека сформировался на фоне разрушения того мира, который он любил. Одним из величайших разочарований среди всех, какие когда-либо переживала Церковь, было то, что Западная Римская империя 390-х годов, обещавшая стать образом Царства Божьего на земле, распалась в хаос и пустоту. Сам Августин умер в 430 году во время осады его любимого Гиппона арианами-вандалами, захватившими всю Северную Африку и жестоко там преследовавшими Католическую церковь в течение шестидесяти лет. Он стоит между классическим миром и совсем отличным от него средневековым обществом, остро ощущая, что мир стареет и дряхлеет: это чувство не покидало Западную Европу вплоть до XVII века.
Раннее монашество на Западе (400–500)Едва ли стоит удивляться, что внезапная смена всемогущества имперской Церкви на Западе великим разочарованием в ней вдохновила западных христиан на подражание монашеской жизни Восточной церкви. Среди первых оказался Мартин, ставший для западного латинского благочестия одним из наиболее значительных святых. Бывший воин, подобно египетскому пионеру монашества Пахомию, он оставил военную карьеру в Галлии (Франция), чтобы жить в удалении от мира. Вокруг него (вероятно, в 361 году) в болотистой долине, где, по-видимому, раньше находилось какое-то древнее культовое место, собралась первая известная на Западе монашеская община (сейчас там находится городок Лигуже). Это было неподалеку от Пиктавии (нынешний Пуатье), которая уже была кафедрой важной епархии. В Лигуже по сей день сохраняются археологические следы построек первой общины Мартина, которые как сокровище оберегают монахи, вернувшиеся после многих испытаний в столь славное для истории монашеской жизни место.[632]632
Л.-Ж. Бор [L.-J.Bord, Histoire de l’abbaye Saint-Martin de Ligugé 361–2001 (Paris, 2005), глава 2], настаивает на том, что Лигуже с самого начала имел характер монастыря, а не был просто местом отшельничества Мартина.
[Закрыть] Прошло немного времени, и в 372 году Мартин стал одним из первых во всей церкви аскетов, избранных в епископы, – в галльском городе на север от Пуатье, называвшийся Цивитас Туронум (сейчас это Тур). Будучи епископом, он продолжал вести монашескую жизнь, и второму основанному им монастырю рядом с Туром суждена была в последующей истории намного лучшая жизнь, чем обителям в Лигуже: известный под названием Мармутье, он оставался одним из самых знаменитых древних аббатств во Франции вплоть до того, как подвергся почти полному разрушению во время Французской революции.
В своей общественной карьере Мартин сохранял немало воинственности, выступив как заметно агрессивный инициатор кампании по искоренению традиционной религии, по-прежнему сильной в таком сельском регионе Западной Европы, как этот. Деятельность, которую он развернул против внушительной оппозиции, была откровенно драматичной. Ее основная канва, к сожалению, скрыта от нас биографией, созданной его пылким почитателем Сульпицием Севером, который не особенно хорошо знал Мартина, но основывался на теплых воспоминаниях о встречах с ним, создавая образ человека, обладающего сенсационной мощью. Например, в одном случае Мартин подкопал какое-то священное дерево, служившее для почитания древних богов, затем встал на том месте, куда оно должно было упасть, но, совершив крестное знамение, заставил его упасть в другом направлении. Публике нравилось это, и в итоге «можно быть уверенным, что спасение пришло в те места», – с удовлетворением написал Сульпиций.[633]633
F.R.Hoare (ed.), The Western Fathers: Being the Lives of SS. Martin of Tours, Ambrose, Augustine of Hippo, Honoratus of Arles and Germanus of Auxerre (London, 1954), 27 [Sulpicius Severus, Vita Martini, 13]. Подробнее о современных спорах вокруг Сульпиция см.: “Vir maxime Catholicus”, 191–193. Первое монашеское поселение Мартина в Лигуже могло сопровождаться первым предпринятым им разрушением языческого культового сооружения на этом месте; см.: Bord, Histoire de l’abbaye Saint-Martin de Ligugé, 23–29, 38–39.
[Закрыть] Вероятно, менее чудесное объяснение подобных триумфов в этом конфликте следует искать в очевидной способности Мартина очаровывать молодых аристократов из известных галлоримских семей, в результате чего он во-влекал их в монашескую жизнь. В других ситуациях нам известны жалобы на то, что монашество лишало общество тех проявлений общественных обязанностей, которые представители знати призваны были выполнять, но ввиду прибавления числа могущественных друзей кампании Мартина не несли никакого ущерба. Сульпиций с гордостью отметил, что многие из этих друзей продолжали исполнять общественные обязанности, но уже по-новому: как епископы.[634]634
Там же, 44, 49–51.
[Закрыть]
Людей, знавших епископа Мартина значительно лучше, чем Сульпиций Север, написанные последним цветистые рассказы приводили в ярость, но их мнения с течением времени были заглушены невероятной популярностью книги Сульпиция, которую рассчитывали распространить на тот же духовный рынок, что и Афанасиеву «Жизнь Антония». История, рассказанная Сульпицием, дала западному христианству один из наиболее часто используемых технических терминов: «капелла». Известно, что Мартин разорвал пополам свою воинскую одежду, чтобы одеть бедняка, который позже во сне явился ему как сам Христос. Этот разорванный «плащик» – по-латыни capella – позже стал одной из самых драгоценных реликвий у варварских франкских правителей, ставших наследниками римских правителей в Галлии (см. с. 351–354), и те церквушки или временные здания, в которых размещалась столь чтимая реликвия, назывались в ее честь «капеллами» (capellae). Так на Западе это слово было усвоено в значении любой частной церкви монарха, а со временем и вообще любой небольшой церкви. Чего действительно добился Сульпиций, так это оглушительного признания того, что латинский Запад способен произвести святого, который был бы равен любому чудотворцу или духовному исполину на Востоке, – еще одна строительная глыба в растущем здании самоуверенности Запада. Более чем через тысячу лет, в 1483 году, на севере Германии родился мальчик; это произошло в день Святого Мартина, и потому он был назван в честь столь любимого святого. Его фамилия была Лютер, и он тоже оказал заметное влияние на западное христианство.[635]635
I.Backus, Life Writing in Reformation Europe: Lives of Reformers by Friends, Disciples and Foes (Aldershot, 2008), 17–18.
[Закрыть]
Возможно, не будь примера сельских миссий, предпринятых святым-покровителем Мартина Лютера, Северная Германия не стала бы христианской. Дело епископа Мартина вдохновило тех, кто жаждал проповедовать в подобных регионах, где городская жизнь либо приходила в упадок, либо вовсе никогда не существовала, и не может быть совпадением, что многие тогда начали предпринимать миссионерские инициативы за пределами Галлии и даже за пределами империи. Общим у них было то, что они провели какое-то время в Галлии или даже в Риме. К северу от самой отдаленной границы империи, в Британии, аскет по имени Ниниан основал около 400 года миссию на территории нынешней Юго-Западной Шотландии; считается, что он построил каменный храм – зрелище, настолько редкое в том регионе, что место получило название «Белый дом» (Candida Casa). Ниниан или кто-то из его ранних преемников посвятил этот храм памяти галльского епископа Мартина, который умер незадолго до этого. По сей день это место в Уитхорне можно узнать по безмолвным руинам средневекового собора, и это был, вероятно, первый христианский аванпост к северу от Вала Адриана.[636]636
Рассказ Беды о Ниниане, к которому нужно относиться осторожно, поскольку он был написан примерно через три столетия и, возможно, отражает некоторые религиозные замыслы Беды, см. в книге: L.Sherley-Price and R.E.Latham (eds.), Bede: A History of the English Church and People (rev. edn, London, 1968), 146 [III.4]. Другие источники, тоже поздние и неисторичные, представлены в большой дискуссии в книге: J. and W.MacQueen (eds.), St Nynia: With a Translation of the Miracula Nynie episcopi and the Vita Niniani (Edinburgh, 1990).
[Закрыть] Многое затем будет развиваться в Ирландии и Шотландии, откуда христианство было запущено обратно – через Северное море в Северную Европу (см. с. 362–364).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?