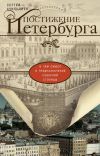Текст книги "Северная столица. Метафизика Петербурга"

Автор книги: Дмитрий Спивак
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 36 страниц)
Много путей, ведших к «Петербургу» Андрея Белого, там и закончились. Дальше начиналось несказанное, и ослепленному читателю оставалось промолвить, закрыв глаза рукой, «sic itur ad astra» – «так идут к звездам»… Такой эндшпиль был почтительно, но твердо переигран в постсимволизме. «Никакой философии Петербурга она не знает,» – заметил об Ахматовой Н.П.Анциферов (1990:132). С точки зрения правоверного символиста, все выглядело именно так. На деле здесь была глубокая философия, но совсем иного типа. «Путь на север» со своим сплетением тем смерти и преображения принадлежит Ахматовой, как alter ego (Раудар 1981:213). Впрочем, вступающей на этот путь еще видятся тени его первопроходцев:
«И его поведано словом,
Как вы были в пространстве новом
Как вне времени были вы, —
И в каких хрусталях полярных
И в каких сияньях янтарных
Там, у устья Леты-Невы.»
Здесь на ограниченном пространстве хромающих дольников «Поэмы без героя» перед нами предстают и тень Блока, и «река забвенья» в береговых гранитах, и полюс, и отклики других северных тем, уже знакомых нам. Действие большей части поэмы связано с зачарованным пространством «Фонтанного дома». «Автор прожил в этом доме 35 лет и все про него знает. Он думает, что самое главное еще впереди. Посмотрим». Ход времени в поэме все время сдвигается и рвется. Каков полный смысл этой ремарки, сохранившейся в черновике авторских пояснений к поэме – пока неясно. Но чуть выше по тексту Ахматова помечает, что сад «Фонтанного дома» старше Петербурга, и что «при шведах здесь была мыза» (1977:522). Очевидно, для замысла было важным и это обстоятельство.
Как известно, при переходе к акмеизму акценты в изображении Петербурга были переставлены. В частности, оформился интерес к старому – допушкинскому, а то и первоначальному Петербургу, – «маленькому, чистому и белому», как говаривали, кажется, прерафаэлиты о своем Лондоне; у нас оглядка была, конечно, на мирискусников. Здесь можно было бы ожидать и возобновления некоторых многообещающих северных тем. К примеру, в седьмой главе «Арапа Петра Великого» Пушкин вводит нас в каморку пленного шведа, коротающего век в доме богатого русского барина. На гвоздике висит выцветший синий, «каролинский» мундир, прочно ассоциирующийся у нас со временами Полтавской баталии (такие мундиры бросаются в глаза на известной батальной мозаике Ломоносова, украсившей парадную лестницу Академии наук на Университетской набережной).
На другом гвоздике – лубочная картинка с изображением Карла ХII. У Пушкина добродушный старичок знай себе наигрывает на флейте, да учит недорослей маршировать по шведскому артикулу (в позднейшей русской литературе сюда примыкает тема пленного француза после войны 1812 года). В реальности шведы не только играли на флейте, но и делали много других интересных вещей (вспомним «сибирский анабазис» Страленберга и его товарищей, которого мы коснулись выше, в связи с темой «Сведенборг и Шамбала»). Нам осталось неизвестным, как развернул бы тему Пушкин: «Арап Петра Великого» оборван как раз на реплике пленного шведа; но возможности развития остались (1984:221–222).
Другой пример – «Петр и Алексей» Д.С.Мережковского. Роман сохранил свое значение и для акмеистов как переходное звено «петербургского текста» от ХIХ века – к символизму. Здесь тоже пробуется тема пленных шведов, метущих каждую неделю едва намеченную Невскую першпективу, но после некоторого колебания оставляется; есть и другие возможности. Трудно сказать, что мог бы с ними сделать акмеизм; как известно, его «петербургский текст» остался незавершенным (Минц, Безродный, Данилевский 1984:92).
«Путь на север» был основным, но не единственным способом раскрытия нордической темы в «петербургском тексте». Ее неяркую, но необходимую нить возможно различить в партиях «мозговых игр» совсем иного свойства. Возьмем хотя бы такого экстравагантного, но оригинального мыслителя, как Велимир Хлебников. В 1912 году он написал интересный текст, озаглавленный «Учитель и ученик. О словах, городах и народах», в котором обратился к месту Санкт-Петербурга среди мировых столиц – под неявным, но чувствующимся впечатлением первой русской революции, и в предвидении второй. Хлебников заметил, что важнейшие столицы возникают на лице земли не случайно, но на определенном расстоянии друг от друга, образуя строгий геометрический узор типа сот (приводятся даже формулы). «Верховные силы вызвали к жизни эти города, расходясь многоугольником сил», – пишет он, говоря в другом месте также и о «силах земли» (1993:27–28).
Нанеся построение Хлебникова на карту, можно заметить, что Петербург и Христиания (теперь Осло) попадают в соседние ячейки, и притом занимают в них симметричные места. Как и во всякой системе, строящейся на основании чертежа, more geometrico, это значит, что судьбы обеих северных столиц метафизически связаны. По-видимому, для Хлебникова наиболее существенным было то, что по его схеме Петербург относится к Киеву так же, как Христиания – к Праге (предполагается, конечно, что читатель помнит титулы и Киева – «мать городов русских», и Праги – «мать городов», matka mest).
Мы же отметим то, что судьбы Христиании и Ниеншанца (предшествовавшего Петербургу) действительно кое в чем сопоставимы. Оба города были основаны почти в одно время, и оба принадлежали в течение примерно столетия шведскому королю (точнее говоря, Христиания была заложена в 1624 на новом месте после пожара предшествовавшего ей менее значительного города, а в 1814–1905 она входила в состав шведско-норвежского королевства). В общем, «нордический текст» футуристов отнюдь не так косноязычен, как может показаться. Его реконструкция требует более распространенного введения, почему мы и ограничимся сказанным.
Другой пример почерпнем из очерка М.Волошина «Пророки и мстители. Предвестия великой революции», писавшегося в 1905–1906. Как видно из даты, очерк из ранних. Однако к этому времени Волошин уже видел расстрелы «кровавого воскресенья» 1905 года, бывал на прениях Религиозно-философского общества, и уловил в воздухе Петербурга нечто новое, существенное и очень тревожное. Как многие званые, он слышал стоны «униженных и оскорбленных»; и как немногие избранные, различил за ними странный нарастающий гул уже тронувшейся de profundis волны страха. Настороженный услышанным, писатель торопливо набросал метафизику этого страха, составлявшую канву очерка.
В некоторых частях, это – очень сильная работа. Вглядываясь в собственное подсознание, Волошин заметил, что его предчувствие лишено ощущения близости во времени, и в цепи причинно-следственных связей; но его можно обострить, вызывая у себя смешанное чувство желания и страха (Волошин 1989). Здесь уже читатель чувствует, что настал век психоанализа. Другие части очерка менее удачны. Автор возводит русскую революцию к Великой французской, и объявляет обе кознями тамплиеров. Нужно прямо сказать, что уже в волошинские времена этот ход мысли был достоянием бульварной литературы; большинство цитат и литературных ссылок очерка это подтверждают.
Вместе с тем, и здесь есть любопытный тезис. Прослеживая «месть тамплиеров» к ее истокам, Волошин приходит к ХIV веку и казни последнего гроссмейстера ордена, Я.Молэ. Перед смертью он основал четыре великих ложи – западную, восточную, южную и северную, – соответственно, в Эдинбурге, Неаполе, Париже и Стокгольме, и поставил им цель отомстить. Не вдаваясь в обсуждение подлинности этой легенды, мы заметим, что здесь снова историософия и доказательство «геометрическим способом». На карте Европы располагается крестообразный чертеж, Петербург помещается в его северном квадранте, и следовательно, подпадает под метафизическое влияние Стокгольма. Прошло не так много времени – и самым ненаблюдательным людям стало ясно, что Петербург вступил в эпоху революций и войн, а с ним и наш рассказ.
Основной задачей России в обеих великих войнах ХХ века стала борьба с германской агрессией, в основе которой лежал план «натиска на Восток» – «Drang nach Osten». Согласно плану, миссия германской нации состояла в том, чтобы защитить европейскую цивилизацию от «угрозы с Востока», а по возможности и перейти в наступление, расширив свое жизненное пространство за счет России. Первоочередными задачами предполагалось овладение украинским зерном, донецким углем, и кавказской нефтью. Соответственно, главное острие удара направлялось на юго-восток. В общих чертах этот план был разработан уже к началу века в кабинетах генштабистов генерала Шлиффена, и университетских геополитиков вроде П.Рорбаха, и дальше проводился в обеих войнах, в зависимости от неизбежных различий между стратегами кайзеровской армии и гитлеровского вермахта.
Необходимой предпосылкой «натиска на Восток» считалось достижение господства на Балтике, а для этого нужно было захватить или ликвидировать Петербург. Поэтому в обеих войнах были предприняты исключительные усилия, чтобы взять город. В феврале 1918 года, 15 из тридцати немецких дивизий, брошенных на восток, шло на Петроград. Их удалось остановить с большим трудом, город не был захвачен. Условной датой этого успеха было принято 23 февраля, ставшее в советской России государственным праздником – днем Вооруженных сил. Но по сути, его можно было бы назвать и днем Петрограда.
Окончательно формулируя план «Барбаросса», Гитлер поставил на первое место взятие Ленинграда. Как записал присутствовавший на совещании 14 июня 1941 года фельдмаршал Э. фон Манштейн, задача ставилась так: «а). захват Ленинграда (колыбели большевизма), а затем соединение с финнами и господство на Балтике; б). овладение сырьевыми ресурсами Украины, промышленными центрами Донецкого бассейна» и так далее (Солсбери 1993:106–107). Поэтому на Ленинград была брошена колоссальная мощь группы армий «Север», нашедшая здесь бесславный конец. Ну, а целом план «натиска на восток» был направлен на то, чтобы перечеркнуть все достижения «петербургского периода» российской истории, включая и сам город на Неве.
Отсюда у германских геополитиков должны были возникнуть естественные ассоциации со шведской военно-политической экспансией допетровского времени, и они действительно возникали. Шведы рассматривались как часть своего, германского мира, решавшая в общем похожие, или те же самые задачи. Реальные настроения шведского общества ХХ века в расчет особенно не принимались. Впрочем, и здесь было крыло германофильской интеллигенции, выдвинувшее такого классика нордической геополитики, как писатель-путешественник с оккультными наклонностями, знаменитый Свен Гедин. В среде шведской элиты Финляндии также сформировался миф о «новых варягах» и предстоящих им новых подвигах на востоке (его приверженцы называли себя именно варягами, «varjager», то есть использовали скандинавское слово в непривычной для шведского уха форме, повторявшей русское произношение).
Некоторую общность в «натиске на восток» обоих германских народов находят и объективные аналитики. Так, в известной книге о блокаде Ленинграда американский журналист и писатель Г.Солсбери вспоминает о плане ярла Биргера взять северную столицу Руси – Новгород – броском через Балтику, Неву и Волхов: «Стратегически его план был схож с гитлеровским» (1993:231). Стратегически здесь, пожалуй, не так много общего: все-таки основные силы вермахта наступали не с моря, а с суши. С точки зрения геополитики, уместнее выглядела бы ссылка на кого-либо из классиков «Великой Восточной программы», вроде короля Густава II Адольфа. Но общее направление ассоциации не вызывает возражений. Если защитников Ленинграда осеняла тень Александра Невского, то над рядами немецких солдат реяли тени шведских военачальников прошлых столетий.
При этом нельзя забывать и о том, как много помог защитникам осажденного города шведский нейтралитет. Вспомним также, что знаменитая «Ленинградская симфония» была исполнена впервые на европейском континенте вне пределов России именно в Швеции, в Доме Концертов города Гетеборг. Это произошло в самом начале апреля 1943 года, то есть до битвы на Курской дуге, тем более до прорыва блокады Ленинграда. Исход войны был тогда еще совсем неочевиден, а проявление симпатий к советскому городу могло поставить под удар самих шведов. Тем не менее концерт был назначен и проведен, а в програмке его говорилось: «Сегодняшнее, первое в Скандинавии исполнение Седьмой симфонии Шостаковича – это дань восхищения перед русским народом и его героической борьбой, героической защитой своей Родины». Заключившая концерт овация, которую публика устроила нашему послу А.Коллонтай, наглядно показала, на чьей стороне были сердца большинства шведов (Фиш 1977:591–592).
Так обстояло дело с войнами; обратимся к революциям. Непосредственым следствием Октябрьской революции 1917 года стало отпадение Финляндии и прибалтийских земель. По сути дела, в районе Петрограда установилась старая новгородская граница, уже почти изгладившаяся в народной памяти. Вскоре (1918) столица была перенесена обратно в Москву, а «окно в Европу» было сначала прикрыто, а потом и заколочено накрепко. Течение «петербургской эпохи» было остановлено и переведено в новое русло. Переименование города (1924) лишь закрепило тот факт, что дело Петра было прекращено, уступив место делу Ленина.
Противоположность обоих «гениев Города» подчеркнута даже их маршрутом. Петр вторгся в сакральное пространство будущего Петербурга с востока, и установил его старейший центр на будущей Троицкой площади. Ленин прибыл в Петроград с запада, проездом через Швецию, и проследовал сразу на ту же Троицкую площадь, где произнес ночную речь, прозвучавшую приговором делу Петра. Кстати, Финляндский вокзал, куда Ленин приехал, расположен на правом берегу Невы, традиционно связанном со шведами (через Охту и Поклонную гору). Позже, в 1926 году ему был поставлен на площади перед вокзалом памятник, указующий на юг, то есть в направлении, противоположном тому, куда скачет Медный всадник. Особая связь Ленина со Швецией подчеркнута и тем, что один из его предков был швед родом из Упсалы (Кан 1981:100).
Было бы нетрудно продолжить эффектные аналогии в этом роде, а потом подвести итог, сказав, что програмы обоих деятелей прямо противоположны. Такой вывод был бы ошибочным: дело Ленина не противоположно делу Петра, а безразлично к нему. Идея-фикс вождя мирового пролетариата состояла в том, чтобы перевести буржуазную революцию в социалистическую, а далее – во всемирную. Тогда предыстория общества закончилась бы, и началась его настоящая история. Примерно с этими мыслями Ленин и приехал на Троицкую площадь. Действуя в этом духе, он добился на прошедшем в Петрограде VII съезде российской социал-демократической партии ее переименования в коммунистическую (1918), и созыва в Петрограде же II конгресса Коминтерна (1920), где он сам выступил с пламенными речами. Это был последний приезд Ленина в наш город.
Где будет столица (или одна из столиц) мировой коммуны после победы Коминтерна – было для Ленина делом второстепенным. Скорее всего, это будет Берлин, при другом раскладе – Москва, а может быть, и колыбель революции – Петроград. Повторим, что эта линия не враждебна «духу Петербурга», она развивается в другой плоскости, безразличной к нему. Иное дело – развитый сталинизм. Идея мировой революции была здесь похоронена, уступив место «второй империи», или скорее, новому «затворенному царству».
С середины 1930-х годов в учебной программе школ и институтов восстанавливается изучение отечественной истории – в изрядно отредактированном виде, но все-таки взамен рептильного «обществоведения». Оно было находкой «школы М.Н.Покровского» и пробным камнем «Московской методической школы». В соответствии с их принципами и установками, при преподавании этой дисциплины гражданская история нечувствительно растворялась в смене формаций, а история мятежей и бунтов прошлого составляла своего рода «ветхий завет», предвозвещавший зарю «обновления времен», зажженную Октябрьской революцией (ср.: Королев, Корнейчик, Равкин 1961:90-105,167–174).
Черту под этими инновациями подвело опубликованное в 1934 году постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О преподавании гражданской истории в школах СССР». В свой черед последовали и другие шаги – учреждение орденов Александра Невского и Суворова, дарование офицерам погон, роспуск Коминтерна, сближение с Патриархом, тост за русский народ, и другие приметы нового времени, хорошо памятные читателю. Здесь линия российской истории возвращается из прорыва – «бессмысленного и беспощадного», но мессианского – в наезженную колею.
В столице новой империи хорошо чувствовали, что преемственность отечественной истории восстановлена. Но чем более искажались ее основы – тем острее становилось недоверие и ревность к Ленинграду, с его ностальгией по подлинным императорскому блеску и революционой вольнице. Дело Сталина развивается в той же плоскости, что и дело Петра, поэтому всегда подозрительно, и часто враждебно к нему. Здесь корни известной симпатии «кремлевского горца» к Ивану Грозному и предпринятому им примерному разгрому Новгорода. Контуры этой расправы проступают в канве «ленинградского дела», а в известной мере – и блокады (как выясняется сейчас, Сталин ничего не сделал, чтобы сократить ее срок, а это было в принципе возможно).
Понадобилось несколько десятков лет, чтобы контуры нового «московского царства» обрели плоть и кровь. Однако проницательным наблюдателям стало ясно, к чему идет дело, уже через 3–4 года после Октябрьской революции. Мы имеем в виду, конечно, евразийское учение, выдвинутое уже в эмиграции группой российских обществоведов и гуманитариев во главе с князем Н.Трубецким. «Евразийцы» были реалистами: они признали, что «петербургский период» решительно окончился, уступив место идейному вакууму. Оставалось либо разбрестись кто куда, дав дорогу более жизнеспособным цивилизациям – либо собраться с силами, переосмыслить всю историю своей державы, и заложить основу ее нового подъема.
«В советской современности, из-под интернационалистической декорации, евразийцы впервые увидели „стихийное национальное своеобразие и неевропейское, полуазиатское лицо России-Евразии“, увидели и „Россию подлинную, историческую, древнюю, не выдуманную „славянскую“ или „варяжско-славянскую“, а настоящую русско-туранскую Россию-Евразию, преемницу великого наследия Чингисхана“. В этих словах Г.В.Флоровского, написанных в конце двадцатых годов, в самой сжатой форме перечислены доминанты нового учения (1993:257). Обильные кавычки указывают как на то, что он цитирует или обыгрывает „общие места“ евразийства, так и на плохо скрытую иронию: Флоровский всегда не более чем примыкал к „евразийцам“, исповедуя на деле строгое православие византийского стиля.
Душевная склонность к империи Чингисхана раз и навсегда поразила воспитанного в других традициях великорусского читателя, и стала чем-то вроде „визитной карточки“ евразийства. Тезис о „варяго-славянстве“ всегда оставался в тени, и напрасно. В хорошей геополитике выбор объектов отталкивания не менее важен, чем объектов притяжения. Если „евразийцы“, даже считая вопрос о „варяго-славянской державе“ надуманным и раздутым, упорно возвращались к нему – значит, здесь проходит один из нервов отечественной истории.
В пользу нашего предположения говорит то, что структурно аналогичный комплекс сформировался и в советской историографии. Естественно, это произошло в замедленной и нечеткой форме, поскольку требование подводить все под учение об общественно-экономических формациях никто не отменял. С присущей им прозорливостью, товарищи Сталин, Жданов и Киров поставили в „Замечаниях по поводу конспекта учебника по истории СССР“ задачу, чтобы „история Великороссии не отрывалась от истории других народов СССР“ (цит. по Н.Рубинштейну 1947:285). Фактически, это подразумевало евразийскую ориентацию. Здесь опять встал вопрос, „от какого наследства мы отказываемся“. Ответ снова гласил: от варяжского.
Как следствие этого, подверглось решительной переоценке летописное предание о призвании варягов, равно как и „норманнская теория“ петербургско-немецких академиков ХVIII века. Кстати, в дальнейшем ее нередко рассматривали как „духовный реванш за Полтаву“. Как резюмировал уже в 1985 году М.А.Алпатов, „тени двух соотечественников – Рюрика и Карла ХII витали над теми, на чьих глазах рождался этот вопрос“ (Джаксон 1993:82). Так выяснилось, что пересмотр варяжского вопроса с неизбежностью приводит к переоценке всей магистральной линии шведско-русских связей, не исключая и „петербургского периода“.
С этим выводом согласуются и результаты „независимых наблюдателей“ – одиноких визионеров, вызывавших духов истории в потемках сталинской эпохи. Одним из самых талантливых был Даниил Андреев, давший сумму своих взглядов в известном и местами очень нетривиальном трактате „Роза мира“. Книге дан подзаголовок „метафилософия истории“, и „петербургская эпоха“ занимает в ней видное место. Собственно, одно из решающих видений, легших в основу книги, было дано автору в блокадном Ленинграде, когда он, падая от голода и усталости после долгого перехода по льду Ладоги и снегу Карельского перешейка, в составе армейской колонны входил в ночной Город.
Духовному взору Анреева представилось огромное „полое пространство“ севера Евразии, пронизанное полярными ветрами с Ледовитого океана. Цель российской империи была в том, чтобы заполнить и одухотворить его. Здесь Андреев описывает ряд демонических существ, ведущих в астральных пространствах битвы за эту цель или против нее. Россиянам (и помогающим им гениям) суждено строить свою духовную цивилизацию самостоятельно, но не без оглядки на соседние культуры. Главные из них располагались на северо-западе (германско-скандинавская цивилизация: в „тонком мире“ Андреев увидел ее как белый готический храм на скале, с алой чашей у входа), и на юго-востоке („Индия духа“: она смотрелась как ряд золотых городов на вершинах тройной цепи гор, за которыми виднелись чертоги других восточных цивилизаций).
Задача Петра I была в заложении духовной сверхдержавы, которой предстояло возглавить светлые силы на следующем витке метаистории. На то ему была дана духовная (или, как еще говорит „Роза мира“, провиденциальная) санкция. Здесь Д.Андреев, кстати, весьма оригинален. По-видимому, ему не было знакомо древнекитайское учение о „небесном мандате“. В наши дни оно привлекает большое внимание обществоведов. Как полагали китайские мудрецы, чтобы основать династию, нужно было иметь метафизическую сверхзадачу, и получить на нее своего рода благословение высших сил. До тех пор пока династия по крайней мере не отклонялась от своей задачи слишком сильно, „небесный мандат“ без осложнений переходил от отца к сыну. В противном случае династия его теряла.
Утратили свой „небесный мандат“ и петербургские императоры. Причин на то было несколько: Д.Андреев здесь не вполне четок (основным текстом для толкований остается первая глава девятой книги трактата). Как бы то ни было, одна из главных причин – в том, что Россия забыла свою евразийскую миссию ради сомнительных ценностей западноевропейской цивилизации. Как формулировал на своем символическом языке Андреев, второй уицраор (то есть гений петербургской империи) был зачарован „темноэфирными духами“ Запада, забыв о просвещенном синклите Востока. Мы вряд ли ошибемся, рассмотрев здесь черты „оккультного евразийства“.
Это предположение укрепляется тем, что Д.Андреев был решительно безразличен к варяжскому наследию. Варяги, да и вообще шведы упоминаются в „Розе мира“ лишь мимоходом и мельком. А ведь это – объемистая книга, заполненная именами и событиями русской истории, а также и разного рода „мысленными экспериментами“. Чего стоит хотя бы обсуждение таких нереализованных возможностей, как образование на Аляске „второй России“ с особой, независимой исторической миссией, или российско-индонезийский культурный синтез. Кроме того, Д.Андрееву в общем была близка интуиция „пути на север“. Мы не случайно употребили здесь термин, относящийся к „серебряному веку“. Ведь автор „Розы мира“ был сыном одного из классиков этого века – изобретательного и мрачного Леонида Андреева, и продолжил многие темы „петербургского текста“ – пусть в форме примечаний и заметок на полях. Так, Д.Андреев рассмотрел метафизическое стремление на север в известном интересе Петра I к Северному морскому пути.
В другом видении, Петербург предстал ему как евразийская столица будущего. В центре Города по-прежнему стоял его дух-хранитель – Медный всадник, в верхнем мире над ним скакал сияющий всадник на белом коне, а в нижнем – мрачном „Дуггуро-Петербурге“ – двойник Петра сидел на исполинском змее, держа в руке дымный факел, озарявщий залитую багровым светом площадь. „И каждая душа человеческая, побывавшая в этом темнолунном городе, не может не помнить этого, хотя бы и совсем смутно“ (Андреев 1991:94). „Оккультные двойники“ – характерный признак мировоззрения Э.Сведенборга», – заметит внимательный читатель, и будет совершенно прав. Сведенборг – едва ли не единственное шведское имя, упомянутое в «Розе мира» с почтением и к месту. Оно названо в четвертой главе книги Х, в списке предшественников Андрева в метаисторическом познании. Список завершается Вл. Соловьёвым, к которому Д.Андреев чувствовал наибольшую близость, и не без основания. Помимо Соловьёва, посредником в знакомстве с идеями Сведенборга была объемистая теософская литература на русском языке, которую Андреев, по-видимому, внимательно изучал. Здесь Сведенборг был в большой чести, цитировался и изучался теософами, начиная с Е.П.Блаватской.
Заметим тут же, что теософия, в особенности в варианте «Тайной доктрины», вполне может рассматриваться как побочное дитя «петербургской духовности». Обратное влияние не было значительным, поэтому мы о нем и не писали. Но были и примеры контакта, к ним относится творчество поэтессы Эдит Сёдергран. Она жила в конце XIX – начале ХХ века преимущественно в пригороде Петербурга – в поселке Райвола на Карельском перешейке, и писала по-шведски (к тому же немного по-немецки и по-русски). Шведы лишь недавно начали ао-настоящему открывать для себя ее творчество, увидев в нем едва ли не высшее достижение своей словесности начала века (Брюннер 1993). Нам это еще предстоит сделать.
Мировоззрение Седергран окрашено теософией, и взгляд ее нередко обращался к Петербургу. Здесь она соприкасается с «петербургским мифом», и в некоторых случаях дает интересные интуиции «пути на север». «Петербург, Петербург, / С твоих вершин – завороженное знамя моего детства», – писала Сёдергран (1991:103)… Впрочем, не будем слишком далеко уклоняться от основной линии расказа. Ведь в нашу задачу входило лишь еще раз проследить на примере мысли Д.Андреева, каким образом евразийская ориентация входила в противоречие с нордическим мифом (или составляла ему контрапункт).
Дискуссию по этой проблеме отнюдь нельзя считать завершенной. Евразийская идея обрела в наши дни своего рода «вторую молодость», отразившись в концепциях таких разных политических или общественных деятелей, как Л.Н.Гумилев, А.Д.Сахаров, Н.А.Назарбаев. Обновлена аргументация и приверженцев противоположной линии. Она определяется как «скандовизантийская», или «скандославянская» в двух недавних статьях Д.С.Лихачева (1993:8; 1994:113–114), посвященных наиболее актуальным проблемам российской истории. Таким образом, тема «варяжского наследия», так же как и некоторые другие из затронутых выше тем, отнюдь не исчерпана, а это уже немало.
… На Елагином острове есть одно уютное место. Это – Западная стрелка, откуда закат солнца выглядит особенно живописно. Жители города всегда любили гулять здесь вечером, чтобы полюбоваться закатом, в старину это был настоящий и общеизвестный ритуал. Приходят сюда и нынешние петербуржцы. Вглядываясь в лучи заходящего на западе солнца, стоит припомнить, что там же, за нешироким морем, и в сущности, совсем недалеко лежит, как и прежде, шведское королевство. Такое близкое соседство не раз оказывалось небезразличным для метафизики Петербурга, а может, еще и отразится в ней на новый лад. Кто знает – история продолжается.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.