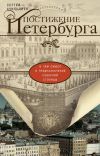Текст книги "Северная столица. Метафизика Петербурга"

Автор книги: Дмитрий Спивак
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 36 страниц)
Последнее лето своей жизни поэт провел на даче там же, на Островах. Там была переложена стихами православная великопостная молитва Ефрема Сирина, и созданы другие стихотворения «каменностровского цикла», отмеченные исключительным напряжением религиозного чувства. Наконец, не следует забывать и того, что едва ли не последний импульс к написанию «Медного Всадника» был дан очередным наводнением, начавшимся в Петербурге августовским днем 1833 года. Пушкин как раз выезжал из города. Доехав до Троицкой площади, он сделал попытку переправиться через Неву, не смог этого сделать, засмотрелся на прибывавшую воду, и подумал, не повторяется ли наводнение 1824 года (мы знаем об этом из его собственного письма). Вероятно, подумал он и об опасности, грозившей в таком случае семье, оставленной на даче у Черной речки. Ехал же он с дачи, пересекая Каменный остров, и минуя другие Острова…
Дальнейшее развитие метафизики города приводит нас к Ф.М.Достоевскому и его «петербургским романам». Вот для кого вера стояла во главе угла, определяя и курс жизни, и направление творчества. Стоит отметить, что писатель был осведомлен и о мистическом учении исихазма. Для того времени это обстоятельство отнюдь не было само собой разумеющимся. Так, Л.Н.Толстой не нашел нужным ознакомился с содержанием «Добротолюбия», хотя эта книга была в его яснополянской библиотеке, а сам он к концу жизни работал над новым вероучением (на это обстоятельство уже в наши дни обратил внимание священник А.В.Мень).
Между тем в романе «Подросток» один из героев, светский лев и «цивилизатор петербургского периода русской истории», в трудную минуту жизни вспоминает о древнем аскетическом учении. Заметим, что речь идет не только о практике, но именно об учении: «Он прибавил, что у монахов это – дело сериозное, потому что тысячелетним опытом возведено в науку» (Достоевский 1885:275). Возможность такого решения писатель не исключал в принципе и для себя самого. Известно, что незадолго до решительного объяснения с А.Г.Сниткиной он признался ей, что стоит на распутье – уехать ли ему в Константинополь или Иерусалим, чтобы остаться там навсегда, предавшись умерщвлению плоти; или поехать в Европу играть в рулетку, и там погибнуть; либо попробовать жениться во второй раз. Как известно, Анна Григорьевна советовала Достоевскому во всяком случае остановиться на последнем, а вскоре сама приняла предложение его руки и сердца (Гроссман 1965:383). Найдя новую спутницу жизни, писатель обрел долгожданный творческий покой, позволивший ему завершить «Преступление и наказание», и приступить к таким магистральным вещам 1860-1870-х годов, как «Идиот» и уже упоминавшийся «Подросток». Обратимся к ним и мы, выделяя пунктиром существенное для нашей темы.
Развернув «Преступление и наказание», мы сразу погружаемся в мир «чрева Петербурга» и странных умственных экспериментов, ставимых на себе его обитателями. Герою романа предстоит решиться на убийство; в тоске бродит он по пышущему жаром летнему городу. Ноги несут его на Васильевский, через Тучков мост на Петербургскую сторону, и далее на Острова. Там силы ему изменяют; поворотив уже обратно, студент доходит до Петровского острова, ложится там под кустом и засыпает. Следует описание знаменитого «сна Раскольникова», с бедной лошадкой, забитой безжалостными мужиками.
Герой просыпается весь в страхе и в поту, и решает, что на убийство не пойдет. Но на обратном пути он неизвестно зачем делает крюк, заходит на Сенную, и случайно слышит некий разговор, из которого выясняется то немаловажное обстоятельство, что на следующий день, в седьмом часу вечера старуха процентщица останется дома одна. Это известие и решает все дело, о чем автор тут же говорит несколько раз, и с немалой настойчивостью.
Финал разбираемой нами шестой главы романа пестрит указаниями на то, что потом герой не раз припоминал этот день «минуту за минутой, пункт за пунктом, черту за чертой», что происшедшее оказало «самое окончательное действие на судьбу его», и стало «все вдруг решено окончательно» (Достоевский 1983:31–32). Таким образом, смысл прогулки на Острова и кошмара под кустом – не в том, что Раскольников вник в задуманное и отшатнулся, но в том, что он принял свою судьбу, и пошел ей навстречу.
При таком повороте дела особое значение приобретают самые мелкие на первый взгляд детали. Так, не все ли равно куда идти герою. Но направление очевидно представлялось автору немаловажным. Когда герой уже ограбил старушку, и надо было куда-то спрятать взятые у нее драгоценности, первая мысль была о тех же местах: «Не лучше ли уйти куда-нибудь очень далеко, опять хоть на Острова, и там где-нибудь, в одиноком месте, в лесу, под кустом, – зарыть все это и дерево, пожалуй, заметить?» Но второго хождения на Острова ему не доводится совершить: подвернулся двор дома по Вознесенскому проспекту.
Зато подумывает об этом пути другой персонаж романа, Свидригайлов. В ночь перед тем как застрелиться, около полуночи, ноги сами несут его на Тучков мост. Постояв там и посмотрев «с особенным любопытством» в черную воду Малой Невы, он поворачивает на Большой проспект Петербургской стороны, и берет комнату в грязной гостинице. Но и тут покой не приходит. Герою чудится некий куст на Петровском острове, «весь облитый дождем, так что чуть-чуть плечом задеть, и миллионы брызг обдадут всю голову…» Составив на рассвете последнюю записку, он проверяет капсюль револьвера, снова кладет его в карман, и выходит обратно, к Тучкову мосту. «Ему мерещились высоко поднявшаяся за ночь вода Малой Невы, Петровский остров, мокрые дорожки, мокрая трава, мокрые деревья и кусты, и наконец, тот самый куст…» (Достоевский 1983:54,251–252).
Дальнейшая судьба Свидригайлова памятна читателю. С нею клонится к концу и вся книга. Но особенное внимание к кусту на Петровском острове остается непонятным. Нигде выше по тексту о нем не говорится, за исключением куста, под которым спал Раскольников в начале романа. Остается сделать вывод, что куст тот же самый, и что автор передает здесь некое важное, никак иначе не объяснимое обстоятельство. К такому выводу пришел в свое время В.Шкловский, принят он и современным литературоведением (Белов 1985:92).
Само упоминание принадлежит, очевидно, к «тексту Островов», о котором мы уже говорили. Что же касается его более точного толкования, то оно разъясняется из «сна Раскольникова». Избиение лошади – лишь центральный его эпизод. Весь же сон представляет собой хождение от дома – к церкви, изображенной очень тепло, со стареньким батюшкой, потемневшими образами, с кутьей из риса с изюмом. Путь в этот симпатичный сельский храм ведет мимо кабака, где и происходит убийство. Свидригайлов видит совсем другое – сначала ему чудится мышь, а затем девочка в гробу.
Возможность духовного возрождения, открытая несмотря на преступление для одного героя, закрыта для другого. Но для того, чтобы получить свой приговор, каждому из них приходится отправиться по направлению к Островам, и там заснуть, точнее – открыться некому видению. Последнее представляется существенным. Не случайно же Достоевский непосредственно перед описанием «сна Раскольникова» поместил целый абзац, где объяснил, какие бывают сны в болезненном состоянии, и как сильно они потрясают весь организм человека. Такой сон может сравниться по силе с творением Пушкина, – замечает автор, и эта оговорка тоже показательна.
Известно, как обостренно воспринимал писатель элементы фантастики в творчестве Пушкина. Перечитав незадолго до смерти «Пиковую даму», Достоевский писал: «И вы верите, что Герман действительно имел видение, и именно сообразное с его мировоззрением, а между тем в конце повести, то есть прочтя ее, вы не знаете, как решить: вышло ли это видение из природы Германа, или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром, злых и враждебных человечеству духов… Вот это искусство!» (Гроссман 1965:488).
Мотив «хождения за знанием» мы находим и в опубликованном через два года романе «Идиот». Герой романа, молодой князь Мышкин возвращается из-за границы, чтобы попасть в сеть сложных отношений его петербургских родственников и знакомых. Постепенно его положение проясняется: князь влюбляется в Настасью Филипповну, и братается со своим соперником Рогожиным, обмениваясь с ним крестами. Следует описание жаркого дня перед грозою, и почти бесцельного брожения по городу. Ноги несут князя на Царскосельский вокзал, в Летний сад, и наконец, на Петербургскую сторону.
Там его настигает припадок эпилепсии, описанный автором с необыкновенным мастерством. «Раздумывая об этом мгновении впоследствии, уже в здоровом состоянии, он часто говорил сам себе: что ведь все эти молнии и проблески высшего самоощущения и самоосознания, а стало быть, и „высшего бытия“, не что иное, как болезнь» (Достоевский 1987:234). Может быть; но сам писатель так не склонен был думать. В поисках сравнения его герой обращается к опыту религиозных деятелей и пророков. Прозревает и сам князь. Бродя по городу, он видит в витрине одного магазина нож с оленьим черенком, угадывая участь Настасьи Филипповны и собственный печальный конец.
Как видим, и здесь простая прогулка за Неву приводит героя к нисхождению в глубину собственного подсознания. Попутно Достоевский решает и более общую проблему духовного будущего России. У князя все вертится в голове разговор, только что случившийся с половым в одном трактире. Говорили об убийстве, недавно наделавшем шуму в городе. Характер преступления, равно как и отношение к нему полового, парня неглупого, остались князю не вполне ясны. «Трудно в новой земле новых людей разгадывать», – бормочет он себе под нос. Выражение это очень показательно. Кто из читателей Достоевского не помнил слова о новом небе и новой земле, которыми начинается последняя глава Апокалипсиса.
С другой стороны, в контексте романа новая земля, или «Новый Свет» – это также и чаемая русская духовность, идущая на смену цивилизации «петербургского периода». В таком значении их употребляет сам князь в знаменитой сцене, где он заканчивает свою «дикую тираду» о католицизме, атеизме и православии, разбивая по оплошности стоящую тут же редкую китайскую вазу (это глава VII последней части «Идиота»). Получается так, что у «новых людей» есть два пути: или к преображению, или к падению.
Свое место в череде «петербургских романов» Достоевского занимает «Подросток», вышедший из печати в середине 1870-х годов. Композиция книги исключительно запутана. Как известно, прочитав ее, Тургенев в смущении говорил о «подлинном хаосе», а Щедрин с неодобрением – о «сумасшедшем романе». Распутывая нити ее прихотливого повествования, мы снова находим мотив «хождения за Неву», и в довольно любопытном контексте. Глава восьмая начинается с описания утра одного дня, очень важного для героя. «Я опять направлялся на Петербургскую», – бросает Аркадий Долгорукий. Впрочем, не сразу: сначала идет одно из самых знаменитых отступлений Достоевского, посвященных Петербургу.
«А что как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй для красы, бронзовый всадник…» Кто же не помнит этих прославленных строк. Они цитировались и обсуждались несчетное число раз. В них было выговорено нечто обладающее непреходящей важностью для судьбы «северной столицы». Тут же говорится о «дикой мечте» пушкинского Германна, о других снах и видениях, а немного позже – и об излюбленных, «счастливых» местах героя в Петербурге.
Так создается экспозиция, подготовляющая героя к событиям дня. Сходив на Петербургскую, он возвращается обратно, сначала на Фонтанку к Семеновскому мосту, а после к Технологическому институту. На первой из расположенных там квартир он узнает некую тайну из жизни своего отца, барина и салонного проповедника Версилова, а также ведет странный разговор с неизвестно откуда взявшимся собеседником, большим оригиналом. «С Петербургской? – То есть вы пришли с Петербургской? переспросил я его. – Нет, это я вас спрашиваю. – Я… я пришел с Петербургской, только почему вы узнали? – Почему? Гм… Он подмигнул, но не удостоил разъяснить» (Достоевский 1885:84).
Что же касается второй квартиры, то там герой наконец сталкивается лицом к лицу с Ахмаковой – очередной из ряда «инфернальных» героинь Достоевского, и делает это при довольно нервных обстоятельствах. Знакомство имеет свои последствия для жизни героя, ищущего свою веру, ведь перед нами типичный «роман воспитания». Остается утверждать, что и здесь бесцельное на первый взгляд блуждание по городу обнаруживает действие скрытых пружин фабулы.
Как известно, с течением лет Достоевский сблизился с обер-прокурором Синода, был принят в царской семье, и вел нравоучительные беседы с юными великими князьями. Он чувствовал себя вполне вошедшим в курс «официальной народности», и посвятил тому немало строк в своих «Дневниках писателя». Их искренность не вызывает сомнения. Но в лучших вещах интуиция писателя брала верх, и все тянула паутину странного мифа, отдаленного от указов правительства и проповедей духовенства, наброшенного на жесткие, прозаичные, но никогда не терявшие загадочности очертания Санкт-Петербурга.
Теперь мы можем вернуться от литературы к идеологии. На царствование Николая II пришелся целый ряд юбилеев, отмечавшихся с немалой пышностью. Особенно выделялись трехсотлетие дома Романовых и двухсотлетие основания Петербурга. К ним присоединялись двухсотлетние годовщины взятия Шлиссельбурга и Выборга, основания Царского села и Александро-Невской лавры, а с ними и прочие. Духовенство служило благодарственные молебны, государственные деятели произносили речи, а толпы народа любовались торжественными церемониями и убранством города. Как всякий ритуал, празднества должны были свидетельствовать, что возведение величественного здания, начатое столетия назад его основателями, продолжается, и сообщить потомкам частицу их силы.
Нельзя сказать, чтобы празднества были вполне безуспешны. В отечественной культуре тогда утверждался символизм, основанный на том положении, что прочность нашего мира обманчива, а сам он граничит с «иными мирами» и всяческими безднами. Воспринятые в этом ключе, николаевские торжества много способствовали окончательной выработке метафизики Петербурга, нашедшей свое отражение в целом ряде явлений – от балета до литературоведения «серебряного века». Но это – косвенные влияния. Что же касалось расчета властей на укрепление существовавшего строя, на то не было Божия соизволения, а значит, все было втуне. «Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущие его», – повторил бы в этой связи верующий человек знакомые слова Псалтыри, и был бы прав. Между тем правление Николая II можно упрекнуть во многом, но не в отступничестве от православной веры.
Религиозная реформа была необходима. Об этом царю говорили в один голос, но каждый советчик тянул в свою сторону. С.Ю.Витте полагал первоочередной задачей провозглашение свободы совести и религии. Она и была включена в известный Манифест об «умиротворении государственной жизни», подписанный царем 17 октября 1905 года. П.А.Столыпин полагал необходимым образование министерства вероисповедания, где ведомство православной религии было бы поставлено на равной ноге с лютеранством, магометанской верой, и другими исповеданиями. Такая идея слишком явно воскрешала образ «сугубого министерства» князя Голицына, и в конце концов была отклонена.
В самом Синоде преобладала та точка зрения, что пришла пора освободить церковь от опеки властей, и в первую очередь надобно избрать Патриарха. Такое решение могло быть принято только Поместным собором. Поэтому в 1906 году было учреждено Предсоборное присутствие, принявшее рекомендацию о церковной реформе (или точнее говоря, контр-реформе). Получив акты Присутствия, подписанные виднейшими епископами, Николай II внимательно изучил их и в общем не нашел что возразить. Митрополиту Санкт-Петербургскому Антонию было сообщено, что Собор имеет быть созван, однако не сразу, а «в подходящее время». До самого конца царствования нерешительного монарха, подходящее время так и не пришло.
Таким образом, при Николае II сохранился синодальный строй, в основе своей тот же, что был заложен Петром I. В его рамках был развит своеобразный стиль, завершавший религиозные поиски эпохи последних Романовых. В определении этого стиля среди исследователей нет полного единодушия. Одни ставят акцент на восстановлении «московского благочестия». Действительно, тяга к нему прослеживатся на всем протяжении николаевского царствования. Уже в 1900 году молодой царь приехал в Москву, чтобы праздновать там Пасху. Приезд был необычен: как вспоминали при дворе, ни один император за все предшествовавшее XIX столетие не проводил в Москве этого главного православного праздника. Кажется, единственное исключение составил Николай I, приехавший однажды на освящение нового кремлевского дворца (1849). Тем интереснее объяснение этого шага.
Как писали тогда, Николай II приехал в Москву, чтобы отпраздновать Пасху «в тесном единении с верноподданным народом православным и как бы в духовном общении с далеким прошлым, (…) с тем прошлым, когда Москва была „стольным градом“, когда в ней жили царь и патриарх московский, когда жизнь первопрестольной, особенно Великим постом, была непрерывным и неуклонным осуществлением церковных уставов и когда пример такой жизни являл сам царь московский» (Уэртман 1995:156–157). Речь шла таким образом о поиске нового единства с народом перед лицом надвигавшейся революции.
В пасхальную ночь царь в мундире Преображенского полка, с царицей в русском наряде, и всем двором проследовал из кремлевского дворца к храму Христа Спасителя. Участвуя в праздничном богослужении, Николай II на мгновение ощутил, что спасительная связь восстановилась. Позже он с неизменным умилением возвращался в воспоминаниях к религиозному воодушевлению того поста и пасхальной ночи. В большой мере под их впечатлением был устроен и знаменитый бал 1903 года в Зимнем дворце. Гостям было предписано прибыть в русских костюмах XVII века. Сама августейшая чета была в нарядах московских царя и царицы времен Алексея Михайловича.
Бал прошел с исключительным успехом и был повторен через неделю в шереметевском дворце. Воспоминания очевидцев сводят дело к милой причуде или сентиментальности царя. «Хоть на одну ночь Никки хотел вернуться к славному прошлому своего рода», – невесело писал уже в эмиграции великий князь Александр Михайлович (Романов 1994:333). Внимательный глаз различает в такого рода затеях черты мистерии, призванной изменить ход истории. Особенно ярко ее черты выступают в последнем и самом пышном из череды этих праздников – трехсотлетнем юбилее дома Романовых, (1913).
Как известно, празднование было разделено на две части. Сначала оно прошло в столице, и только затем в Москве (и волжских городах). По общему мнению, «питерская часть» прошла довольно пресно, «московская» же удалась на славу, и вызвала неподдельное воодушевление народа. Николай II въехал в Москву тем же путем, что и основатель династии, славный Михаил Феодорович. Символика очевидна: начавшись с волнений и смут, XVII столетие окончилось миром и согласием. Так должно быть и в XX веке. На известной серебряной монете, выбитой в честь юбилея, лица Николая II и Михаила Федоровича сближены в одном ракурсе, и очень похожи друг на друга. Того же ждали и от истории.
Духовный взор царя был направлен к допетровской Москве. Но не только к ней: уже в 1902 году у него возникает идея о канонизации Серафима Саровского. Обстоятельства ее возникновения заслуживают особого рассказа: здесь сошлись влияния таких разных людей, как почтенный отец Иоанн Кронштадский, и французский оккультный авантюрист Филипп. Для нас важнее то, что Николай II прямо связывал судьбу династии с небесным заступничеством «светлого учительного старца». Между тем годы жизни Серафима пришлись на «петербургский период» (он скончался в 1833 году), а религиозность его, проявлявшая иной раз весьма архаичные признаки, далеко уклонялась от старомосковской. Учитывая то, что за весь петербургский период было канонизировано всего пять человек, этот выбор представляется показательным.
Сама церемония 1903 года была обставлена на удивление торжественно. Гроб с останками старца трижды обнесли вокруг собора. Нес его и государь, не позволяя никому сменить себя на всем протяжении шествия. Императрица Александра Феодоровна искупалась ночью в местном источнике целительной воды. «Говорят, что были уверены, что саровский святой даст России после четырех великих княжен наследника. Это сбылось и окончательно и безусловно укрепило веру их величеств в святость действительно чистого старца Серафима», – заметил современник, – «В кабинете его величества появился большой портрет-образ Святого Серафима» (Витте 1994:263).
Мощи Серафима Саровского были утрачены после революции, и чудесно обретены только зимой 1991 года, в криптах Казанского собора. Так подтвердилась духовная связь саровского праведника с судьбами «петербургского периода»… Впрочем, внимательный наблюдатель заметит, что в вопросах веры взор царя обращался не столько к кряжам московского и петербургского периодов, сколько к мощной подпочве народной, мужицкой веры. Отсюда и появление Г.Е.Распутина, придавшее такой пряный характер мистицизму царской семьи и части двора предреволюционных лет.
Церковное зодчество Петербурга верно запечатлело особенности и этого времени. Направление мысли тогдашних архитекторов прекрасно отражено в ансамбле Феодоровского городка, возведенного на окраине Александровского парка Царского Села в начале 1910-х годов. Доминанта ансамбля составлена Феодоровским Государевым собором. Формально он воспроизводил облик Благовещенского собора в Кремле, служившего домовой церковью первых Романовых (Павлов 1995:230). Но зрительно его компактный удлиненный силуэт, со снежно-белыми стенами и одиноким сферическим куполом, говорил о дальнейшем сдвиге «неорусского стиля» ко все более ранним и строгим, одним словом, «северным», новгородско-псковским образцам. В соборе было два храма: верхний, освященный во имя Феодоровской иконы, которой в 1613 году Михаил Романов был благословлен на царствование, и нижний, устроенный во имя преподобного Серафима Саровского.
К застройке центра Петербурга такой стиль не вполне подходил. Куда уместнее был ретроспективизм, изумительным образцом которого стала Великокняжеская усыпальница, построенная при Петропавловском соборе в 1896–1908 годах. Легко представить себе, какой ответственной была задача возведения ее массивного объема в сакральном центре столицы, бок о бок с шедевром Трезини. Однако положив руку на сердце, сейчас трудно себе представить, что этого здания не видели ни Росси, ни Пушкин.
Белокаменный храм об одной главе был все же поставлен на Неве, замкнув с запада перспективу Английской набережной. Мы говорим о соборе «Спас на Водах», посвященном памяти моряков, павших в русско-японской войне. Недавно о нем сжато, но хорошо упомянули в своем известном энциклопедическом описании наших храмов В.В.Антонов и А.В.Кобак (1996:73–74). Постоянное обращение к этой книге, равно как и к содержательной монографии А.П.Павлова (1995) может составить полезный контекст настоящей работы. Что же касается белокаменного красавца-храма, то в тридцатые годы он был снесен.
Такое решение было непростительным не только с моральной, но и с градостроительной точки зрения. Дело в том, что с другого берега Невы этому собору отвечала Успенская церковь при подворье Киево-Печерской лавры, построенная в «русско-византийском» стиле. Таким образом, путешественик, прибывавший в Петербург морем, совершал как бы историческую экскурсию, видя сначала, при входе в Неву, храмы «в древнерусском вкусе», и только потом – стильный силуэт Петропавловского собора.
Наконец, нужно упомянуть и о буддийском храме, сооруженном в 1909–1915 годах на севере города, в Старой Деревне, в формах тибетской архитектуры. Нельзя отрицать ни его роли в духовном окормлении немногочисленного бурятского и калмыцкого населения столицы, ни дальнего расчета на дружбу с далай-ламой, желательную в связи с замыслами колонизации Тибета. Все это так; но решающую роль сыграли, пожалуй, мистические интересы двора и художественной интеллигенции, «тянувшихся усталыми душами» к загадкам Лхасы и тайнам Шамбалы. Фасад храма, увенчанный мистическим золотым колесом, смотрит прямо на Большую Невку и Елагин остров, входя таким образом в комплекс петербургских преданий об Островах. Свои излюбленные места были и у мистических деятелей вроде Распутина. Многим петербуржцам был памятен флигель во дворе дома по Гороховой, 64. Сохранились свидетельства, что после гибели «старца Григория», царица распорядилась устроить там нечто вроде его «мемориальной квартиры». Другим местом культа Распутина предполагалось сделать его мраморную гробницу в Александровском парке, неподалеку от царского дворца.
Одним словом, зодчество и градостроение и на этот раз отразили сдвиги в религиозном сознании правящих классов. Заметим, что говоря об этих сдвигах, нам не понадобилось прилагательное «византийский», и это не случайно. Вера, конечно, оставалась греко-российской. Но в этом традиционном определении первая часть, по верному наблюдению С.Н.Булгакова, печаталась все менее жирным, а иногда даже едва различимым шрифтом, в то время как последняя набиралась все более крупными буквами (Булгаков 1993:14).
Православие перастало из государственной религии в этническую. В среде самых респектабельных богословов раздавались голоса в пользу отказа от византийской традиции и конструирования некой национальной «религии сердца». «Святоотеческая литература была проводником в нашу культуру чужого, национально-греческого, упадочного, гностико-аскетического миросозерцания и жизнепонимания», – писал тогда такой маститый богослов, как М.М.Тареев, – «Византийский аскетизм отравил нашу волю и исказил всю нашу историю» (цит. по: Флоровский 1991:444). Влиятельность такого взгляда не следует преуменьшать: по сути дела, Тареев договаривал то, что начал продумывать Победоносцев.
Но церковь была не готова к такому резкому разрыву. Для подтверждения этого вывода достаточно обратиться к истории «афонской смуты», вызвавшей в свое время немалое волнение в православном мире. Сущность ее состояла в том, что в русском монастыре на Афоне возникло течение имяславия. Его адепты учили, что имя Божие – не простое слово, но что в нем таинственным образом присутствует сам Господь. Поэтому правильно употребляя его в молитве, верующий реально сливается с Богом.
Отсюда следовала весьма радикальная теория литургии и аскетики, по общему мнению исследователей, примыкавшая к классическому исихазму. Развивая и кодифицируя эту линию мысли, замечательный философ А.Ф.Лосев сводит ее к итоговой формуле, данной им по-гречески: «To onoma tou theou theos esti…» – «Имя Бога есть Бог», и так далее (1993:58–59). Для нашей темы важен не полный состав этой формулы, но то, что она изложена сразу на священном, на греческом языке. Так пишут, признавая свое полное слияние с древней традицией; похожее чувство испытывали и афонские имяславцы.
Священный Синод на первых порах отнесся к новому движению снисходительно, затем же ожесточился и осудил имяславие в известном определении 1913 года. Оно в принципе отрицало возможность присутствия Божественных энергий в слове и даже обличало распространителей такого учения как сторонников опасной ереси. В философском отношении определение Синода представляло собой чистой воды номинализм, то есть было предельной противоположностью учению исихастов. Но философские тонкости мало занимали столичное начальство: на Афон были брошены войска, восстановившие статус-кво. Монахи-имяславцы были возвращены в Россию и распределены по отдаленным монастырям.
Петербургское православие одержало тогда победу над афонским. С позиции сегодняшнего дня, она видится скорее пирровой, во всяком случае не окончательной. Напротив, богословы и религиозные философы продолжают обращаться к старому спору, уточняя и дополняя доводы обеих сторон (Хоружий 1994:118–119). Мы же отметим то обстоятельство, что вся дискуссия в основе своей прошла в византийских терминах, и если бы какой-нибудь средневековый греческий богослов неким чудесным образом воскрес, то он бы отнюдь не затруднился принять в ней участие (припомнив, в частности, и очень уместную здесь историю «иконоборческой смуты» VIII века). Следовательно, византийский дух у нас еще совсем не так выветрился к XX веку, как это представлялось иным профессорам теологии.
Очерк духовной жизни Петербурга начала XX века был бы неполон без упоминания Религиозно-философских собраний 1901–1903 годов. Их инициатором был Д.С.Мережковский с небольшой группой единомышленников, а целью – для начала просто свести представителей церкви и интеллигенции в одну аудиторию и приучить их к диалогу. Такая попытка воспринималась как смелое новаторство: каждая из сторон смотрела на другую с недоумением и опаской. Эти чувства находили свое продолжение и на карте города. З.Н.Гиппиус писала о подлинном «железном занавесе», незримо опущенном поблизости от Николаевского (теперь Московского) вокзала. Западнее его лежал «светский Петербург», восточнее – «церковная область», примыкавшая к Александро-Невской лавре (Гиппиус 1991:111). Сами собрания проходили в помещении Географического общества на набережной Фонтанки. Ассоциировался с ними и «наш вечный дом Мурузи», по сию пору стоящий на Литейном проспекте под нумером 24. Там была квартира Мережковских, очень любивших этот дом, и проживших в нем в общей сложности почти четверть века.
Заметим, что сама фамилия Мурузи принадлежала в свое время славному константинопольскому «фанариоту». Турецкий султан высоко ценил его таланты, и поручил участвовать в мирных переговорах с Россией. Тайно перейдя на нашу сторону, князь Дмитрий Мурузи передал царским дипломатам ряд ценных документов, немало облегчив тем заключение выгодного для России Бухарестского мира 1812 года (он был тем более важен, что позволял высвободить полки для войны с Наполеоном). Измена была раскрыта, Мурузи отправлен на эшафот, но его семье удалось выехать в Россию и добраться до Петербурга, где в ее судьбе принял участие сам Александр I. Со временем дети вышли в люди, и один из них, известный у нас как «византийский князь», выстроил на Литейном, 24 свой огромный дом (Иохвидова 1991:135–142). Историки архитектуры определяли его стиль как «мавританский», но петербуржцам в нем всегда виделось нечто византийское.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.