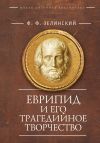Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц)
При всем этом получалось, однако, одно важное затруднение. Что было делать с любовью как естественным тяготением друг к другу обоих полов? При том минимальном применении, которое ей было разрешено в аполлоновском обществе, она, понятно, не находила себе удовлетворения. А коли так, то дилемма была ясна: или ей нужно было дать отдушину – или она грозила взорвать весь новый строй общества.
Аполлон решил дать ей отдушину. Его пророки, лирические поэты, в своих творениях освятили новую любовь. Мало того, чтобы усилить ее ореол, они проецировали ее в прошлое. И отношение Патрокла к Ахиллу, и отношение Зевса к Ганимеду получили теперь – но только теперь – новое освящение в духе аполлоновских принципов. Аполлон вообще любил выставлять свою религию продолжением старинной религии Зевса. Так возникла эта новая эра, надолго выбившая из колеи естественное развитие естественной любви, развернувшейся столь роскошным цветком в героическую эпоху.
И мы справедливее будем судить об этом столь смущающем нас явлении античной жизни, если будем видеть в нем социологический эксперимент. Греция не была бы Грецией, если бы она не сумела окружить также и это свое творение дымкой дивной красоты. Но это, разумеется, не помешает нам признать, что это творение было впоследствии осуждено историей так же, как оно с самого начала было осуждено природой. Эксперимент был сделан, и он не удался – повторению он более не подлежит.
* * *
Так судим мы – или, вернее, так можем и должны мы судить ныне во всеоружии трехтысячелетнего опыта. Но попробуем перенестись духом в ту смутную и тревожную эпоху, когда новая Греция под знаменем дельфийского бога развивалась и расцветала на развалинах старых ахейских держав, а певцы-гомериды берегли и распространяли старинное наследие героических времен. На фоне этой эпохи и киклическая «Эдиподея» получит столь же неожиданное, сколь и яркое освещение. Лаий, из любви похитивший Пелопова сына, был первым, введшим среди эллинов эту нечестивую любовь; за это он и погиб страшной смертью вследствие проклятия Пелопа по воле суровой блюстительницы чистоты брака киферонской Геры. Не ясно ли, что мы имеем здесь красноречивый протест – протест певцов-гомеридов, хранителей старинных традиций героических времен, против нечестивого новшества аполлоновской Греции?
Но что же в сущности сделал творец киклической «Эдиподеи»? Создал ли он от себя весь миф о Лаии и Эдипе? А если нет – это ведь само по себе невероятно – то каковой была докиклическая форма этого мифа?
На этот вопрос мы никакого ответа дать не можем. Вышеприведенное свидетельство «Одиссеи», с которого мы начали наше рассуждение, всецело объясняется на почве «Эдиподеи». Древнее его только один намек – в «Илиаде»:
Сын Мекистея-героя,
Некогда в Фивы ходившего к тризне надгробной Эдипа.
Перевод не удержал, да и не мог удержать выражения, употребленного в подлиннике о смерти Эдипа, – δεδουπότoς, обозначающего падение убитого витязя, причем его латы глухо шумят, ударяясь о землю. Вот, значит, как погиб сын Лаия в «Илиаде» – для нас это непонятный намек.
Итак, о докиклической форме нашего мифа мы ничего не знаем. Всё же, если бы кто, основываясь на аналогии мифа об Оресте, стал утверждать, что и здесь певец Аполлона не столько ввел новую мифологему, сколько воскресил старую, затемненную гомеридами; что, стало быть, в своей докиклической форме наш миф ничего не знал о Пелопе и Хрисиппе и прославлял величие самодовлеющей Миры так же, как позднее он стал прославлять величие Аполлона, – то я бы ничего возразить не мог. Действительно, сплетение фиванского цикла в лице Лаия с аргосским в лице Пелопа – само по себе указывает на сознательную ученую работу и никоим образом не могло быть исконным.
Но оставим эти домыслы. Мы убедились в антиаполлоновском характере киклической «Эдиподеи»; теперь нам предстоит увидеть, как Аполлон вырвал у своих врагов это их оружие и заставил его служить своей собственной славе.
* * *
Для этого надлежало ввести в миф два крупных изменения: во-первых, устранить похищение Хрисиппа и его последствие, Пелопово проклятие, и, во-вторых, устранить киферонскую Геру, которой действительно в мифе делать было нечего, раз Пелопово проклятие в нем не признавалось. В образовавшийся пробел можно было вдвинуть в качестве руководящей божественной силы Аполлона и его дельфийский оракул. Это были самые крупные, органические изменения; остальные были отчасти их последствиями, отчасти же носили случайный характер.
Получившаяся таким образом аполлоновская «Эдиподея» гласила вкратце так.
Фиванский царь Лаий, вопросив дельфийского бога – здесь впервые, повторяю, вступает в действие его оракул – о желанном сыне, получил от него совет не стремиться к рождению такового, так как, раз родившись, этот сын со временем станет убийцей своего отца.
За что такая суровость? – могут тут спросить. Чем провинился Лаий, что ему одному нельзя стремиться к тому, что для каждого эллина было условием его счастья? Уже здесь ясно, что с устранением Пелопова проклятия миф потерял именно тот элемент, в котором заключалось его этическое оправдание. Аполлон же на поставленный ему вопрос ответил бы: ничем не заслужил; так решил Зевс в своей неисповедимой воле. Если же его сын Аполлон вещает смертным эту волю и ее условия и этим дает им возможность уберечься от несчастий, то это – милость, за которую эти смертные могут его только благодарить.
И Лаий смирился перед возвещенной ему неисповедимой волей и отказался от надежд на сына.
Для восстановления дальнейшего в его доэсхиловской форме у нас имеется только одно надежное свидетельство – краткий намек Пиндара в его оде на победу Ферона Акрагантского, считавшего себя потомком Эдипа; так как тут важно каждое слово, то я привожу этот намек в дословном прозаическом переводе: «Так-то Мира, вершающая их (т. е. Ферона и его рода) унаследованный от отцов благосклонный удел, вместе с богозданным счастьем приносит и некоторое горе, периодически возвращающееся то в одно то в другое время – с тех пор как убил Лаия его роковой сын, повстречавшись с ним, и этим исполнил древнее слово, возвещенное в Дельфах. Увидевшая это зоркая Эриния погубила взаимоубийством его воинственный род»…
Не забудем, что поэт прославляет здесь потомка Эдипова сына Полиника; этим объясняется, во-первых, смягчение несчастий его рода – в общем Мира была к нему благосклонна, но, естественно, к благим дарам примешивала и злые, каковыми были отцеубийство Эдипа и взаимоубийство его сыновей Этеокла и Полиника; во-вторых, умолчание о браке Эдипа с матерью: будучи вообще певцом Аполлона, Пиндар в этом пункте все-таки должен был вернуться к киклической традиции – не мог же он Ферона производить от кровосмесительного брака. Эту черту мы, значит, должны учесть.
А затем обращаю внимание на следующее место: «исполнил древнее слово, возвещенное в Дельфах». Разумеется, значит, прорицание, данное Лаию, – только оно было древним, а не то, которое (по Софоклу) сам Эдип получил позднее в Дельфах. Итак, этого последнего наша традиция не признает. А если Эдип не был в Дельфах, то он не мог убить своего отца у дельфийского распутья (как это предполагается у Софокла): в этом отношении традиция киклической «Эдиподеи», по-видимому, не была изменена.
И, наконец, нас интересуют последние слова. Отцеубийство Эдипа призывает к деятельности Эринию, так же как и матереубийство Ореста; это ясно. Она мстит ему истреблением его рода: взаимоубийство Этеокла и Полиника рассматривается поэтому как прямое последствие убийства Лаия Эдипом, никакие промежуточные силы (вроде проклятий Эпикасты в киклической «Эдиподее» или проклятий самого Эдипа в киклической и в Эсхиловой «Фиваиде») здесь не нужны. Это – последствие Аполлоновой религии, восстановившей Эринию во всех ее правах. И, конечно, это взаимоубийство имело своим первоначальным смыслом именно истребление рода Эдипа, как мы это имеем и у Эсхила, и у Софокла; если же Пиндар (следуя, к слову сказать, киклической поэме «Эпигоны») предполагает выживающим сына Полиника Ферсандра, то он делает это опять-таки в силу посторонней необходимости: откуда же было взяться Ферону, если род Эдипа погиб?
Пользуясь этими вехами и приобщая к пиндаровской традиции те черты установившегося мифа об Эдипе, которые ей не противоречат, мы получаем следующее.
Пришел час – уступая чарам вина (Еврипид) или «неразумной страсти своей милой» (Эсхил), Лаий нарушил свой обет: «роковой сын» родился. Лаий, проколов ему ноги, передал его рабу, чтобы тот отнес его на Киферон и там оставил на произвол судьбы. Но раб сжалился над ним и передал его пастуху пограничной Коринфской области Евфорбу, как его называет вазописная традиция. Тот, со своей стороны, отдал его своему царю Полибу, который и воспитал его как собственного сына.
Спустя лет двадцать Лаию пришлось отправиться «феором» на праздник киферонской Геры. На пути к ней, на «потнийском распутье», он встретился с молодым человеком; возникла ссора, встречный путник убил его с его небольшой свитой. Этот путник был Эдип. Идя дальше в Фивы, он нашел их под гнетом Сфинкса; разгадав его загадку и заставив его этим броситься со скалы в пропасть, он получил руку царицы Иокасты (так она зовется в этой традиции) и царство. Около пятнадцати лет царствовал он благополучно, причем Иокаста родила ему четверых детей. Затем наступила развязка – как, мы не знаем.
Такова эта аполлоновская «Эдиподея», заменившая Пелопово проклятие и гнев Геры – роком и оракулом дельфийского бога. Эпикаста стала Иокастой («фиалками украшенная»); это мелочь. Равно и жена Полиба получила только здесь имя Меропы – в киклической «Эдиподее» ее звали Перибеей; это, разумеется, тоже мелочь. Важнее было то, что Сикион был заменен Коринфом; об этом тотчас. Но самым важным изменением после основного было то, что дети Эдипа стали по этой традиции его детьми от его супруги-матери Иокасты; эта новая или, быть может, воскрешенная черта – свидетельствует о той же аполлоновской резкости, как и воскрешенное матереубийство Ореста в противоположность смягчениям эпоса.
Но кто же дал этой аполлоновской «Эдиподее» первую поэтическую оболочку? В последнее время стали усердно распространять гипотезу, по которой этой первой оболочкой был киклический же эпос «Фиваида». С этим я никак согласиться не могу. «Фиваида» была таким же творением певцов-гомеридов, как и «Эдиподея»; нельзя от нее ожидать, чтобы она выступила в защиту Аполлона против негодующего протеста этой последней. Правда, эпический цикл создавался в то время, когда аполлоновская религия уже воссияла над Элладой, и во многих отношениях испытал на себе ее влияние. Но это влияние могло сказаться в нейтральных, так сказать, вопросах, а не в таких боевых, каким был центральный вопрос «Эдиподеи».
Только в одном пункте я был бы склонен признать почин «Фиваиды» и вообще киклической эпики; это – замена Сикиона Коринфом. Она явилась естественным последствием фикции, согласно которой младенец Эдип был не брошен в море (как в «Эдиподее»), а отнесен на киферонский луг; а эта фикция – прямое развитие центральной идеи, что вершительницей судьбы Лаия была киферонская Гера. Со стороны Лаия было естественно передать запретного младенца именно своей гонительнице Гере, чтоб смягчить ее гнев; раз Гера была заменена Аполлоном, этот вариант уже возникнуть не мог. А если младенец был отнесен на Киферон, то он уже не мог достаться сикионскому царю: от Сикиона киферонские горы были отделены всем Истмом. Это соображение и должно было повести к замене Сикиона Коринфом. Мы должны будем поэтому приписать этот вариант еще киклической эпике. Но не «Эдиподее»; а если так, то киклическая «Фиваида» напрашивается сама собой.
Но этим еще не дано ответа на поставленный выше вопрос: кто первый ввел в поэзию аполлоновскую концепцию судьбы Лаия и Эдипа? Так как певцами Аполлона и проводниками его религиозно-нравственных идей были лирические поэты от VII до V веков, то вероятнее всего, что и претворение в аполлоновском духе мифа об Эдипе было делом лирического поэта. Это все, что мы можем сказать. Лирическая поэзия указанного периода представляет для нас огромное поле развалин; что знаем мы о грандиозных лирических поэмах Стесихора? Почти ничего. О гимнах Ивика? Еще менее. О дифирамбах Ариона? Ровно ничего. Кстати, Арион: он ведь творил в Коринфе – и был родоначальником аттической трагедии… Но не будем вперять взора в пустоту; при желании всегда увидишь что-нибудь, но это будет чистой галлюцинацией. Будем просто говорить о безымянной лирической «Эдиподее» приблизительно VI века, противополагая ее – тоже ведь безымянной – киклической «Эдиподее» с ее резко антиаполлоновским характером. Киклическая «Эдиподея» была трагедией противоестественной любви; лирическая – трагедией рока.
* * *
В качестве таковой ее и обработал Софокл в своем «Царе Эдипе»; но еще раньше ее обработал Эсхил в своей «Фиваиде» – трилогии, состоявшей из трех трагедий: «Лаия», «Эдипа» и «Семи вождей» – за которыми следовала сатирическая драма из того же цикла мифов «Сфинкс». Поэма великого мифотворца, непосредственного предшественника Софокла, поставленная приблизительно сорока годами раньше его «Царя Эдипа» (в 467 г.), была бы для нас очень драгоценна; к сожалению, нам сохранена только последняя трагедия трилогии «Семь вождей»; содержание обеих предыдущих мы восстановляем отчасти по ретроспективным намекам этой последней, отчасти по отрывкам – очень скудным – их самих. Все же многое остается для нас неясным.
Первый и главный вопрос: какую версию воспроизвел Эсхил, киклическую или лирическую? На него отвечает самый подробный из указанных ретроспективных намеков – размышление хора, которое в точном прозаическом переводе гласит так: «Я говорю о древнем преступлении рода; оно принесло быструю кару, но оно же сохранило силу до третьего поколения. Это было, когда Лаий – вопреки Аполлону, который трижды сказал ему в срединном пифийском прорицалище, чтобы он, умирая без потомства, спас свой город, – побежденный неразумной страстью своей милой, родил рок самому себе, отцеубийцу Эдипа. Мало того: этот сын дерзнул оплодотворить священную ниву матери, где он был зачат, – кровавые то были всходы. Видно, безумие свело потерявших рассудок новобрачных».
Итак, ясно одно: движущей силой трилогии было непослушание Лаия, а не его любовь к Хрисиппу и Пелопово проклятие. Эсхил был сыном своего века и афинской аристократии; как таковой, он не мог усмотреть особой вины в том, на что с таким негодованием обрушился здоровый инстинкт гомеровской этики в «Эдиподее». С этим должно считаться. Гнев Геры устранен; Аполлон стоит в центре событий.
Трижды предупредил он Лаия; когда трижды? Естественнее всего будет допустить: 1) при воцарении, 2) перед браком и 3) после брака, но до рождения младенца. И о чем предупредил он его? «Чтобы он, умирая без потомства, спас свой город». Под этой сильнейшей опасностью можно разуметь только поход Семи вождей против Фив, вызванный сыном Эдипа и внуком Лаия Полиником. Итак, этот поход и взаимоубийство сыновей Эдипа – конечное последствие непослушания Лаия.
Теперь обратим внимание на слова: «Оно принесло быструю кару, но оно же сохранило силу до третьего поколения». Это значит: за свое непослушание Лаий был наказан дважды; во-первых, (сравнительно) быстро, в лице себя самого, приняв смерть от сына; во-вторых, в третьем поколении, истреблением своего потомства. Рассмотрим обе эти кары.
Относительно первой важно то, что Эсхил смотрел на нее именно как на кару. Не во исполнение рока был Лаий убит своим сыном, а в наказание за свое неповиновение. Другими словами: ему вовсе не было предсказано, что он будет убит своим сыном, а только дан совет «умереть без потомства, чтобы спасти город».
Что касается второй, истребления рода, то ослушание Лаия было только ее первопричиной. Ее непосредственной причиной было не раз упоминаемое в сохранившейся трагедии проклятие Эдипом своих сыновей. Причиной этого проклятия была их сыновняя непочтительность к нему. О нем повествовала еще киклическая «Фиваида». Однажды сыновья Эдипа послали своему отцу вместо плеча жертвенного животного – бедро.
Он же, заметив бедро, его бросил из рук и воскликнул:
«Горе! Родителю дар сыновья в поношенье прислали!»
К Зевсу взмолился Эдип, к остальным он взмолился бессмертным,
Чтоб от взаимной руки они в царство Аида спустились.
Это значит: сыновья, отказав отцу в «царском» куске жертвенного животного, признали его отрешенным от царской власти. Символ чести отождествляется в героические времена с самой честью – это мы должны твердо помнить. И с этим вполне согласовано само проклятие Эдипа: «Вы отняли у меня царскую власть – пусть же она станет причиной вашей гибели».
Так, повторяю, повествовала киклическая «Фиваида»; что и Эсхил ей следовал, видно из стиха «Семи вождей», где говорится, что Эдип «произнес против сыновей гневные проклятия за их угощение». Не следует забывать, что «Эдип» Эсхила нам не сохранен: там, по-видимому, об этом проклятии говорилось подробнее.
Теперь недостает еще только одного звена. Чем была вызвана – конечно, в мистическом смысле – враждебность сыновей Эдипа к отцу? Ответ может быть только один: тем, что он сам был убийцей своего отца Лаия. Теперь только цепь грехов завершена. И в этой «цепи грехов» и заключен смысл Эсхиловой концепции. «Точно море бедствий вздымает свои валы: один низвергается, но этим поднимает другой, затем третий, тянущийся вокруг кормы государства». За неповиновение Аполлону Лаий был наказан тем, что принял смерть от руки сына; за убийство – хотя и невольное – отца Эдип был наказан тем, что был лишен власти своими сыновьями; за присвоение власти отца Этеокл и Полиник были наказаны тем, что из-за нее сразились между собой и пали один от руки другого.
Это уже не Мира, а Аластор. Учение об Аласторе свойственно именно трагедии Эсхила: он верил в детородную, так сказать, силу греха. Грех прародителя призывает Аластора в дом; а раз войдя туда, этот страшный дух успокаивается не раньше, чем истребит род до последних его отпрысков. Это учение проповедовал Эсхил в своей последней трилогии, в «Орестее»; его же мы имеем и в отчасти только сохранившейся «Фиваиде».
Как в частностях развивалось действие в потерянных частях трилогии – об этом нам известно очень мало. В «Лаии» встречалось о новорожденном младенце выражение «вложить в горшок»; а так как в «Лягушках» Аристофана сам Эсхил, рассказывая вкратце судьбу Эдипа, говорит, что он «был брошен в черепке во время бури», то вероятно, что Эсхил следовал «Эдиподее», согласно которой младенец Эдип был брошен в море и занесен бурей к побережью Сикиона. Дальше мы знаем – благодаря случайно сохранившемуся отрывку, – что роковое столкновение между отцом и сыном произошло у потнийского (а не у дельфийского) распутья; отсюда следует, что по Эсхилу Эдип не отправлялся в Дельфы вопросить оракул. Знаем также из другого, недавно обнаруженного отрывка, что Эдип, чтобы охранить себя от мистических последствий убийства, прибег к старинному варварскому обряду: зачерпнул (трижды?) устами струящейся крови убитого и затем выплюнул ее. (На него же? Это значило бы: «На тебе твоя кровь!») Затем Сфинкс, женитьба на матери, дети, раскрытие ужасов, самоослепление; обо всем этом говорится в размышлениях хора «Семи вождей». Это – все, что мы можем сказать.
«Фиваида» Эсхила была поставлена в 467 г., годом позднее первой победы, одержанной над ним Софоклом. Сам Софокл этой темы долго не касался; он затронул ее впервые, насколько нам известно, в своей «Антигоне», поставленной четверть века спустя. В этой трагедии он в своем воззрении на несчастья Лабдакидов всецело следует своему великому учителю. И ему чередование грехов представляется непрерывной вереницей волн в разъяренном море:
Мятежится за валом вал,
Точно лютых вьюг разгул
Подводный ад на гладь лазурных волн извлек:
На свет ил дна всплывает черный,
Страждет скал прибрежных кряж,
Протяжным стоном вою бури вторя.
Нам грех вспоминается древний Лабдакидов,
Как он рос, плодясь в череде поколений.
Не искупит жертва сыновняя отчих бедствий,
Сам бог в погибель дом ведет.
Но Эдип для «Антигоны» лишь отдаленное лицо, судьба которого представлялась давно завершившейся, когда события потребовали подвига и смерти его самоотверженной дочери. Когда поэт приступил к нему самому – это случилось в первые годы пелопоннесской войны, – обстоятельства круто изменились. Город только что вздохнул свободнее после великой чумы, унесшей среди других жертв и гениального руководителя его судьбы Перикла; Аполлон, наславший эту чуму, считался врагом афинского народа; к его оракулам перестали питать доверие. Для Софокла это были три одинаково болезненных удара: он был другом Перикла, другом своего народа и смиренным поклонником Аполлона. Из этих трех образов: Перикла, чумы, Аполлона – он соткал свою новую трагедию; как увидит читатель, он в ней одинаково отрешился и от концепции «Эдиподеи», и от эсхиловского Аластора и дал афинянам чистую и свободную от всех посторонних примесей греха и возмездия – трагедию рока.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.