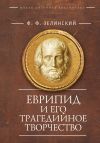Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 33 страниц)
А ты, чьи кони по крутому склону
Небес ристают, Гелий лучезарный,
Когда увидишь родину мою,
Вспять потяни поводья золотые
И весть подай об участи Аянта
Старцу отцу и матери несчастной.
Прости, родная! Плачем неумолчным
Ответишь ты на роковую весть…
Но нет. Не время жалостью напрасной
Дух изнурять: пора за дело взяться.
Да, но простившись сначала – не с властителями судьбы: их благодарить не за что, – а с окружающей богиней-природой, ласковой и прекрасной:
Тебе привет, златая колесница,
Тебе, сверкающий полудня луч, —
Привет последний и неповторимый.
О ясный свет! О ты, святая почва
Родного Саламина! О очаг
И отчий дом! О славные Афины,
Кровь братская! О родники и реки!
Привет вам всем! Привет тебе, равнина
Троянская, кормилица моя!
В последний раз вы слышите Аянта —
Отныне мрак Аида – мой удел.
Жертва свершается.
* * *
Кончена ли здесь трагедия?
Она не была бы кончена, даже если бы была только трагедией Аянта: по старинным верованиям греков, не смерть была концом земного существования человека, а его погребение, так как от него зависела его участь на том свете. Для нас это необязательно, и будь все дело только в этом – следующие за смертью Аянта сцены могли бы рассчитывать только на исторический интерес с нашей стороны. Но нет: наша трагедия прежде всего – трагедия чести. Поставленная проблема не разрешена добровольной смертью героя: она только вступила в новый фазис. Воистину ли смыл Аянт пятно со своей чести, принося свою жизнь искупительной жертвой за нее? Вот вопрос, господствующий над последними сценами трагедии. Мы жаждем услышать из авторитетных уст, что мертвые подлинно сраму не имут, что после принесенной Аянтом жертвы его вина перед его народом заглажена, что его переживут одни только его добрые деяния и венец его славы с неуменьшенным блеском будет сиять над его могилой.
Мало-помалу друзья Аянта сходятся вновь, извещая друг друга о бесплодности своих поисков. Нежность души нашего поэта сказалась в том, что по его представлению не ратники, как они ни преданы своему вождю, а его тихая и безответная подруга, ведомая своим верным чутьем, находит его бездыханное тело. Она призывает товарищей к себе; здесь первым делом, по священному обычаю и античной трагедии, и античной жизни, над трупом павшего раздается плач друзей; это – и естественное облегчение гнетущей боли, и дань почтения умершему:
Знать, судьба тебе, знать, судьба была
Душу сильную об утес разбить
Горя-горького, необъятного…
К плачущим присоединяется Тевкр; но прежде чем самому излить свое горе в слезах, он вспоминает о сыне умершего брата. Узнав, что он в палатке, он поспешно посылает Текмессу за ним:
Скорей сюда
Его веди. Из логовища львица
Ушла одна – нетрудно супостату
Детеныша похитить.
Затем только он отдается своей скорби; но не успевает он кончить свой братский плач, как уже является от царского совета представитель непримиримой вражды – Менелай.
Проблема чести вступает в свой последний фазис: ее символ отныне – лежащее тут же на наших глазах тело умершего витязя. Будет ли оно с честью предано земле? В этом вопрос, движущий действием в последних сценах. Не в одной только этой трагедии встречается он. В «Антигоне» он занимает центральное положение, также и в «Просительницах» Еврипида; да в сущности и последняя песнь «Илиады» находится под его давлением. Но только в нашей трагедии этот вопрос поставлен в органическую связь с проблемой чести, и в этом заключается, при всем внешнем сходстве особенно с «Антигоной», оригинальность его постановки здесь.
Это – первое, что следует помнить; второе же заключается вот в чем. Мы знаем Менелая из «Илиады» как человека не только рыцарски безукоризненного, но и кроткого и с доброй душой; казалось бы, от него всего менее можно ожидать такой жестокости, как запрета хоронить его несчастного соратника. Такого же рода возражение могли бы мы сделать по поводу столь же незавидной роли его брата Агамемнона. Возможно ли допустить, чтобы тот самый Агамемнон, который в «Илиаде» после славного поединка Аянта с Гектором почтил его за своей трапезой, по наивному обычаю героических времен, «хребтом бесконечным», – чтобы он же здесь был виновником этой бесчеловечной меры против его трупа? Или чтоб тот самый Агамемнон, который в «Илиаде» прославлял Тевкра как побочного сына Теламона, – здесь ставил ему в укоризну его незаконное происхождение? Несомненно, здесь еще больше, чем относительно Аянтова меча, приходится жалеть о перемене к худшему, происшедшей со светлыми гомеровскими образами.
Как это объяснить?
Вопрос придется поставить отдельно для Менелая и для Агамемнона. Собственно говоря, настоящая перемена произошла только с первым, и притом независимо от Софокла. Менелай встречается не в одном только «Аянте»: мы имеем его нередко у Еврипида (особенно в «Андромахе» и «Оресте»), и он и там приблизительно тот же что и здесь. Это потому, что он по мифологии – царь Спарты. Когда к середине V века отношения Афин к их сопернице окончательно испортились, национальная нелюбовь была перенесена и на прошлое и мифологический царь ахейской Спарты был наделен теми же качествами, которые афиняне под влиянием политической вражды приписывали современной им дорической наследнице ее имени. С этим следует считаться.
Другое дело – Агамемнон. Как царь всегда дружественного Афинам Аргоса (или, что одно и то же, Микен), он имел право рассчитывать на благосклонное к нему отношение афинской трагедии. И в сущности он его и встретил: достаточно указать на «Электру» Софокла, где он живет в благоговейной памяти своих детей и своего народа как образец нравственного величия. Если же здесь он играет невыгодную роль, то исключительно в силу условий именно этой трагедии. Запрет хоронить труп Аянта не имел бы никакой силы, если бы он не исходил от военачальника; а запрет этот был нужен для того, чтобы трагедия чести нашла свое завершение.
Первым является Менелай; царский приказ он мотивирует преступлением Аянта против своих и необходимостью подчиняться законной власти. Главный свой ответ Тевкр приберегает для главного врага, Менелаю же отвечает насмешливо и вызывающе. Пока последний, взбешенный, уходит, возвращается Текмесса, ведя с собой маленького Еврисака. Тевкру приходит мысль воспользоваться их присутствием для настоящего «просительского обряда» (так называемой гикесии): он ставит мальчика у головы мертвого, Текмессу у его ног, дает первому по пряди волос – своих, его собственных и его матери – и велит им ни под каким видом не уходить с места. Для нас это – прекрасная и трогательная живая картина, для греков же она имела и религиозный смысл: описанным обрядом умерший ставился под покровительство Зевса – заступника просителей, и гнев бога поразил бы того, кто осмелился бы его тронуть.
Опасность не заставляет себя долго ждать: на смену брату является сам Агамемнон. Его гневная речь обращена против Тевкра; обвинений против Аянта он не повторяет – они достаточно развиты Менелаем. И тут-то мы слышим главный ответ Тевкра.
Не удостаивая своего противника даже взгляда, он обращается непосредственно к лежащему брату:
Как быстро к мертвым благодарность тает,
Как им охотно изменяют все!
Вот – муж! Его так часто от врагов ты
Спасал, Аянт, своею за него
Душою жертвуя – и хоть бы словом
Он помянул тебя! Исчезло всё.
Красиво и величаво из благодарных и благоговейных слов брата сплетается для Аянта венок чести – тот венок, который должен пережить его и вечным блеском сиять над его могилой. Дадут ли ему только эту могилу?
Тут, наконец, появляется человек, которого мы не видали после первых сцен трагедии, – Одиссей. В силу того авторитета, который ему дают его характер и его заслуги, он в учтивых, но твердых выражениях требует для себя права решить спор. И вот его решение:
Признать я должен, что из всех ахейцев,
Что против Трои двинулись в поход,
Он уступал Ахиллу одному.
Агамемнон, – правда, нехотя, – снимает свое запрещение и уходит. Но это еще не всё:
Тевкру предлагаю,
Чтоб равносильной дружбе уступила
Недавняя вражда. Аянта тело
С тобою я похоронить хочу,
Весь труд твой разделить, всю чести меру
Ему воздать, какую лучшим людям,
Вкусившим смерть, установил закон.
Непосредственную помощь Тевкр учтиво отклоняет: он не уверен в том, что она будет приятна умершему. Видно, перед очами поэта носилась вышеупомянутая сцена из «Одиссеи»: ласковое обращение героя к непримиренной душе Аянта. И Одиссей проявляет свое благородство до конца, не настаивая на своем предложении и не обижаясь за его отклонение.
После его ухода начинается под звуки траурной музыки простой и трогательный вынос тела героя его семьей и товарищами. Тевкр им распоряжается:
Ты, малютка, руками к отцу своему
Прикоснися любовно и вместе со мной
Изо всех твоих сил его грудь поддержи.
Ах, тепла эта грудь, и из стынущих жил
Еще к горлу сочится багровая кровь.
Поспешите, идите, усердствуйте все,
Кто когда-либо другом усопшего звал!
Он был добрым из добрых; из смертных никто
С ним сравниться не мог.
Об Аянте, что был, мое слово.
Здесь только конец трагедии чести. Искупительная жертва принята: брызнувшая из-под Гекторова меча кровь смыла пятно позора, лежавшее на имени Аянта, и вечным блеском сияет венец его славы над его пустынным курганом у синих вод Геллеспонта.
IV
А все же… что вынесет современный читатель из чтения этой драмы? Надобно сознаться, что «Аянт-биченосец» Софокла не принадлежит к числу тех античных трагедий, которые нашли себе место в кругозоре даже просвещенной части нашего общества. Многим известны титанические страдания Прометея, великодушный протест Антигоны, борьба с роком Эдипа, любовь Федры и ревность Медеи. Но Аянт? Кто такой Аянт? Ах да, это один из двух Аяксов «Прекрасной Елены»!
Откровенно говоря, нежелательность этой последней ассоциации главным образом заставила меня возвратить Аянту правильную греческую форму его имени и устранить латинизированную, хотя эта последняя и принята Гнедичем и Жуковским. Но, разумеется, незнакомство современного читателя с нашей трагедией должно иметь свои внутренние, неслучайные причины. Думаю, что эти причины заключаются в том обилии условных и в силу своей условности непонятных элементов, которые приходится преодолевать неспециалисту при ее чтении. Не всякий способен уловить и оценить трагическое значение произведенной Аянтом среди мирных стад резни: отгородив от себя сумасшедших крепкими стенами убежищ, мы перестали испытывать перед ними тот таинственный ужас, который внушал здоровому уму античного человека факт возможного землетрясения нашего сознания. Еще более чуждой представлялась нам роль Афины и ее гнева. Еще хорошо, если бы Софокл использовал этот гнев в антитеистическом направлении, подобно Еврипиду: тогда он этим стал бы выразителем вековой неудовлетворенности человечества. Но хотя элементы антитеизма и не отсутствуют совсем, все же дело сводится не к нему, а, как мы видели, к «закону двойного зрения», очень трудно доступного пониманию современного человека. Неприятно действует также уклонение от гомеровской ясности, ласковости и рыцарского благородства, особенно в характеристиках Агамемнона и Менелая, но также и самого Аянта, – и этот изъян любители античности почувствуют даже сильнее, чем те, кто к ней равнодушен. Мотив запрета похорон в нашу эпоху тоже может показаться достаточно чуждым, хотя нельзя сказать, чтобы аналогичные случаи вполне отсутствовали и «сыск на кладбище» был бы у нас уже совершенно неслыханным делом. Длинные и повторные споры (Аянта с Текмессой, Менелая с Тевкром, Агамемнона с Тевкром) у нас тоже не считаются выигрышными с точки зрения трагического пафоса. Правда, этот «агонистический» элемент характерен для античной трагедии вообще, но все же в нашей он особенно преобладает: видно, он был еще нов, и поэт и его публика особенно им увлекались. Наконец, боюсь, что кое-кому и самоубийство Аянта покажется слишком театральным. Что делать: вместе с уважением к божественной природе мы потеряли и уважение к самим себе, к нашей божественной жизни.
Долг современного толкователя античной трагедии перед его публикой – двойной: он должен, во-первых, указать ей на неизбежные условности толкуемого произведения, объяснить ей, как при соблюдении исторической перспективы они теряют свою чуждость и непонятность; во-вторых, он должен указать на тот общий и вечный элемент, который присущ ей, помимо ее условностей, и даже подчас облекается в эти самые условности как в свой исторический и преходящий луаш. В нашей трагедии этот элемент имеет в своем ядре понятие чести; я назвал ее поэтому «трагедией чести».
Мы видели, что это понятие постепенно освобождалось у древних греков, как душа от плоти, от того внешнего символа, с которым оно вначале отождествляется. В «Илиаде» мы имеем еще полное отождествление; «Эфиопида» идет по ее следам; «Малая Илиада», скорее бессознательно, делает попытку перехода к более духовному пониманию; сознательно и беспощадно последовательно проводит новую идею Софокл.
Не лишение доспехов ведет Аянта на стезю смерти: причина его самоубийства – его собственный безумный поступок, которым он сам себя опозорил.
И не диво: сильнее та рана горит,
Что своей же рукою себе ты нанес,
А не принял от вражьей десницы, —
поясняет Текмесса, устраняя этим ненужный для земной причинности «закон двойного зрения».
Итак, честь утеряна; спрашивается, может ли она быть восстановлена иначе, чем путем смерти? Гёте сказал в подобном случае:
Честь ты утратил?
Много утратил;
Славу добудь!
Быть может, он прав. Но его правда – для натур гуманных; Аянт же – натура героическая. Его всего наполняет идея чести, он только ею и живет; Текмесса его не понимает, но Лукреция бы поняла. Для него возможен только один ответ: только смертью может быть смыто бесчестие.
А затем третий вопрос: обязательно ли смывается бесчестие добровольной смертью? Атриды это оспаривают, полагая, что позор и мертвого переживает: но в конце концов они должны уступить и гуманное толкование берет верх.
Понятно ли это нам? Полагаю, что да – по крайней мере всем тем, в ком жива идея чести. Не скажу, чтобы таковыми были все честные люди. Если трагедию чести создал Софокл, то ее комедию написал Зудерман. Комедия Зудермана обошла все сцены, трагедия Софокла осталась достоянием филологов. Зудерман много ласковее Гёте; мораль его комедии: «Честь ты утратил? Пустяк утратил: не обращай внимания!» Рецепт для доказательства простой: изобразите представителями чести людей, соединяющих внешнюю корректность с внутреннею пустотой, – и дело будет сделано.
Откуда взялась честь? По мнению многих, это – понятие рыцарское, средневековое, столь же устаревшее, как и панцири и шлемы, которые украшают наши музеи. Не говорим уже о тех, которые по своей исторической невменяемости объявили понятие чести «буржуазным». От таких-то заблуждений и их практических последствий и спасет внимательное изучение античности. Нет: чувство чести не связано с той или другой преходящей эпохой жизни европейского человечества: как бы ни были преходящи его внешние проявления – само оно принадлежит к гранитному кряжу нашего нравственного естества и будет жить, пока человек останется человеком. Вот о какой науке гневно рокочут воды Геллеспонта, поныне еще разбивающиеся о курган Аянта на пустынном сигейском берегу.
VI. Трагедия правды. «Филоктет»
I
Первое слово, с которым к нам обращается зарождающаяся греческая литература, – героический эпос – было в свое время последним словом гибнущей ахейской цивилизации торжествующему и переживающему доро-ионийскому миру; и в этом последнем слове, в этом завещании звучит основной нотой скрытая, но тем более действительная для вдумчивого слушателя антитеза: правдивость и хитроумие, Ахилл и Одиссей. Была ли эта антитеза задумана? И если да, то было ли задумано и то донельзя неутешительное нравоучение, которое заключается в знаменательном противопоставлении гибнущего Ахилла с побеждающим Одиссеем? Будет благоразумнее воздержаться от ответа на этот вопрос: не с этой ведь точки зрения привыкли мы смотреть на «Илиаду» и «Одиссею» – притом не только те из нас, которые не ищут в поэтических произведениях чего-либо кроме эстетических переживаний, но и те, которые в согласии с античною точкою зрения требуют от них также и этических норм и откровений.
Но факт остается фактом: в обоих героях Гомера воплощены оба полюса нравственного поведения человека в отношении правдивости; это заметил еще Платон в своем раннем диалоге «Гиппий меньший». Крайний положительный полюс – это Ахилл, тот Ахилл, который сам сказал про себя («Илиада»):
Тот ненавистен мне, как врата ненавистного ада,
Кто на душе сокрывает одно, а вещает другое.
В его речах нет ничего рассчитанного – они все без остатка вытекают из данного его настроения; думая о них, мы везде можем только спросить «зачем?» и никогда «для чего?». Он резок или ласков в зависимости от того, внушает ли ему его собеседник ненависть или любовь, а не от того, желает ли он его настроить так или иначе. И даже в разговоре с одним и тем же лицом – вспомним о Приаме в XXIV песни – он переходит через все оттенки, отделяющие угрозу от ласки, исключительно под влиянием клокочущего в его бурливой груди аффекта.
Нужно ли доказывать, что Одиссей в этом отношении его прямой антипод? О нем можно сказать наоборот, что в отношении его речей всегда следует спрашивать «для чего?» и никогда «зачем?». Это не значит, чтобы он был неспособен чувствовать и выражать искренно непосредственный аффект; это значит только, что, чувствуя его, он будет его выражать лишь в пределах, дозволенных той целью, к которой он стремится. Все его поведение как неузнанного странника в собственном его доме – не что иное как длительное сдерживание аффектов, гневных ли в общении с женихами, или нежных в беседе с любимой супругой в той незабвенной сцене, где он («Одиссея»):
Глубоко проникнутый горьким ее сокрушеньем,
Очи свои, как железо иль рог неподвижные, крепко
В темных ресницах сковав и в нее их вперив, не мигая,
Воли слезам не давал.
Это касается выражения чувств; это и подавно касается изображения действительности в рассказе – того, что мы обыкновенно разумеем под словами: говорить правду. Можно сказать напрямик: нравственная оценка лжи и правды для Одиссея не существует; выбор между той или другой определяются исключительно расчетом целесообразности. Порицает ли его за это поэт? Никогда. Когда хитроумный скиталец, возвратясь на родину, встречается с Афиной, он и ей – правда, не узнав ее, – преподносит вымышленный рассказ. И что же?
…С улыбкой ему Афина светлоокая щеки
Нежной рукой потрепала…
«Должен быть скрытен и хитр несказанно тот, кто спорить с тобою
В вымыслах разных захочет; то было бы трудно и богу.
Ты, кознодей, на коварные выдумки дерзкий, не можешь,
Даже и в землю свою воротясь, оторваться от темной
Лжи и от слов двоемысленных, смолоду к ним приучившись!
Но об этом теперь говорить бесполезно: мы оба
Любим хитрить…»
Снисхождение богини, разумеется, приговор непреложный; но и независимо от него мы убеждены, что они оба, Ахилл и Одиссей, одинаково дороги и поэту и его слушателям, одинаково ими оправданы.
А если так, то ясно: заповеди «говори правду!» в гомеровскую эпоху не существует. Характеры правдивый и хитроумный (т. е. целесообразно-лживый) представляются одинаково допустимыми разновидностями человеческой природы, так же как и характеры строгий и мягкий, трезвый и мечтательный. Это не значит, конечно, что всякая ложь, всякий обман без разбора стоит в сознании поэта на одной ступени с правдой; это значит только, что ложь сама по себе представляется нравственно безразличной и получающей свою оценку от цели, ради которой она допускается. Если эта цель заключается в спасении собственной жизни или жизни дорогих особ, в помощи своим или в обмане злых людей, если притом избегается формальное клятвопреступление, то прибегающий ко лжи человек оправдан и слушатель с любовью следит за замысловатым сплетением его воздушной ткани, заранее радуясь его успеху.
Тем не менее настало время, когда и ложь как таковая, безотносительно к ее цели, была объявлена недостойной «свободного» человека. Не в смысле нравственного пуританизма: как ни высоко была поставлена правдивость в новом мировоззрении грека, он не скрывал от себя, что могут быть высшие блага, ради которых она в известных случаях может и должна быть принесена в жертву. Но человек должен это чувствовать именно как жертву, как тяжелую гирю на другой чашке весов; была объявлена война тому беззаботному настроению, в силу которого ложь и правда представлялись нравственно равноценными и безразличными, получающими свою окраску лишь от цели, которой они служат.
Тогда, при резком свете нового миросозерцания, беспечная и изобретательная муза, вдохновлявшая певцов-гомеридов, в пестром наряде своих вымыслов показалась лживой и безнравственной, подобно своему герою Одиссею. Как знаменательно в этом отношении сближение одного стиха Гомера об этом его герое («Одиссея»):
Много неправды умно говорил он, похожей на правду, —
с теми стихами, в которых геликонские музы, явившиеся своему избраннику Гесиоду, кратко и метко определяют свои умения и деяния («Теогония»):
Много неправды умеем мы молвить, похожей на правду;
Можем и чистую правду вещать, коль того захотим мы.
Это значит: выбирай! Хочешь быть лживым певцом-гомеридом или вещателем правды? Само собою разумеется, что Гесиод избрал последнее: в этом – смысл всего видения. Тогда героический эпос был осужден: он уступил место дидактическому, преследовавшему одну только правду. Эра сказителей канула в прошлое; настала эра пророков.
Как же это случилось?
Справедливо, думается мне, полагает Л. Шмидт в своей «Ethik der alten Griechen», что правдивость получила божественную санкцию впервые в религии дельфийского Аполлона. На это указывает славное в древности изречение пифийского пророка Пифагора, который на вопрос, когда человек более всего бывает похож на бога, ответил: «Когда он говорит правду», причем полезно помнить, что это – тот самый Пифагор, который видел Гомера в преисподней среди окаянных за те лживые рассказы, которые он при жизни сплетал о богах. Итак, бог всегда говорит правду – и прежде всего, конечно, тот бог, который вещает людям «отца непреложную волю» в своем дельфийском храме. Его «естество несовместимо с неправдой», – говорит о нем другой его великий пророк – Пиндар. А при таком воззрении на бога и от человека должно требовать строгого отношения к правде. Еще Солон – один из той плеяды мудрецов, которыми греческая традиция окружила треножник дельфийского бога, – в число своих правил житейской мудрости включил и совет «воздерживаться от лжи»; что же касается названного только что поклонника Аполлона Пиндара, то правдивость стоит у него на первом месте среди добродетелей, в духе которых он наставляет своих победителей, любимцев богов. Иерона он приглашает «ковать язык на наковальне правдивости»; Псавмида уверяет, что он «не запятнает своей речи неправдой»; устами Пелия требует от Ясона, чтобы он, рассказывая о своем происхождении, «не осквернял себя ненавистной ложью». С этим новым и чистым взглядом на облагораживающую силу правды он требует под свой суд любимцев героического эпоса и негодует на почесть, которая воздается «лоснящейся лжи» в лице Одиссея; если он ему противопоставляет не Ахилла, а «бессловесного и храброго» Аянта, то это объясняется тем мифом, которого он в данном случае касается. На самом же деле с усилением аполлоновского мировоззрения назревала все настоятельнее и настоятельнее необходимость разобраться в антитезе гомеровского эпоса, сопоставить обоих его героев и провозгласить устами высшей инстанции – бога – торжество Ахилла и поражение Одиссея.
Такова была задача, которую себе поставил Софокл на старости своей жизни – ему было тогда 87 лет – в своей почти предсмертной трагедии «Филоктет». Свой долгий век он прожил как верный слуга Аполлона, не отступая от него и в те тяжелые минуты, когда у его сограждан померкла вера в светлый ореол Парнаса. Свою любовь к правдивости он засвидетельствовал не раз, особенно же красноречиво устами своей Деяниры в «Трахинянках», трагедии полного расцвета его поэтического творчества:
А ты запомни:
Если Геракл ко лжи тебя наставил,
То школу ты постыдную прошел.
А если сам себя в науке этой
Ты воспитал, то вместо благородства
Бесчестье и позор ты обретешь.
Скажи ж мне правду. Ведь прослыть лжецом —
Свободному тяжелая обида.
Интересна эта оговорка: свободному. Мало-помалу усилилось убеждение, что ложь – нечто эстетически безобразное, роняющее человеческое достоинство и приличествующее поэтому рабу, но не свободному человеку. В новой комедии ложь и обман – необходимое условие комической интриги, но именно поэтому ею там занимаются преимущественно рабы и родственные им по мировоззрению параситы и гетеры; что же касается свободных, то о них сам корифей этого направления – Менандр – отчеканил меткое слово:
Свободного достойна лишь правдивость.
Вернемся, однако, к Софоклу.
Избрав Филоктета героем своей «трагедии правды», он этим самым лишил себя возможности вывести в ней самого Ахилла как антагониста Одиссея – его уже не было в живых в то время, когда разыгрался важный для трагедии конфликт в душе Филоктета. Принцип от этого не пострадал: вместо Ахилла он вывел его сына Неоптолема, а так как участие этого последнего в действии, как мы увидим, – нововведение самого Софокла, то мы вправе признать его смысл именно в желании противопоставить в лице сына самого отца, правдивого Ахилла, хитроумному Одиссею. Этим желанием всецело и без остатка объясняется участие в действии этой неравной, хоть и объединенной общею целью четы. Но это относится только к ней; что же касается главного героя, Филоктета, то он имел длинную и захватывающую историю, прежде чем стать героем – хотя и пассивным – трагедии правды.
Этой историей мы и займемся теперь.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.