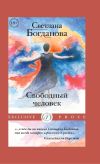Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 33 страниц)
IV
Оценивая нашу трагедию в ее целом, мы может усмотреть ее главный элемент в преодолении интриги. Эта последняя считается не без основания излюбленным детищем Еврипида; он немало потрудился для того, чтобы в своих трагедиях доставить торжество умному плану изворотливой человеческой души над слепотой противодействующих сил: так Медея мстит Ясону и Федра Ипполиту, так Елена и Ифигения Таврическая спасаются от своих варваров-женихов. Но под конец и у Еврипида наблюдается известное пресыщение этим мало трагическим элементом, которым он увлекался раньше: и в «Ифигении Авлидской» и в новонайденной «Ипсипиле» героини, умно обеспечив себе спасение, в решающую минуту сами добровольно от него отказываются и великодушно отдают себя в руки своих палачей.
Протест против интриги слышен, повторяю, и в нашей трагедии, по ставленной приблизительно в одно время с «Ипсипилой». Олицетворенной в Одиссее интриге противопоставляется в лице Неоптолема прямодушие, и последнее побеждает, и притом с помощью божьей воли. Конечно, в жизни много лгали и хитрили и после этого; но, по крайней мере, в высотах чистой этики торжество правды было обеспечено. Около того же времени и философия устами Сократа провозгласила всякую добродетель, а с нею и правдивость здоровым состоянием души, к которому следует стремиться, как и ко всякому здоровью, независимо от всяких посторонних расчетов. Наша трагедия могла служить прекрасной иллюстрацией этого положения. Вспомним о Неоптолеме; не кажется ли нам, что он болен душою все время, пока его заставляют быть носителем ненавистной ему интриги, и что он выздоравливает лишь там, где он, жертвуя своей мечтой, раскрывает Филоктету все, что против него было так хитро задумано?
И, разумеется, в психологически тонкой разработке этого мотива состоит главный интерес нашей трагедии. В остальных отношениях она отличается крайней простотой. Из всех сохранившихся античных трагедий это – единственная без женских ролей; но и мужской персонал доведен до несложности ранних эсхиловских времен. Все постороннее удалено; ничто не отвлекает зрителя от главной темы трагедии – борьбы интриги с прямодушием. Вначале интрига побеждает (первая сцена Неоптолема с Филоктетом); затем руководитель интриги чрезмерным изощрением ее портит собственную игру (сцена с «купцом»); затем, тронутый беспомощностью своей жертвы (сцена припадка), невольный носитель интриги испытывает перелом в собственной душе и открывается жертве, но руководитель интриги спасает остатки своего плана, завладевая луком; наконец, когда и эта вторая интрига терпит крушение, раскаявшийся Неоптолем возвращает Филоктету его лук и этим приводит в движение божию силу, совершающую благой перелом также и в душе Филоктета.
Но именно для того чтобы развиться на воле, идея правды должна была совершенно вытеснить другую аполлоновскую идею трагедии Филоктета – идею целомудрия. Филоктет Софокла был царем-грешником, мы это знаем; но он более нигде не представлен таковым. Соблазн Хрисы отодвинут в загадочное прошлое; мы узнаем о нем только из темных намеков. Тема этого греха – нарушение целомудрия как такового – была чужда афинской сцене. Еврипид дважды представил нам девственника в сохранившихся трагедиях – в лице Ипполита и Пенфея; и оба раза это стремление к чрезмерному целомудрию, эта нравственная суровость представлена своего рода трагической виной, за которую ее носитель гибнет. Грех же Филоктета хор склонен извинить. Ведь он «ничьих прав святых не оскорбил»; за что же его карать?
Все же намеченный аполлоновской концепцией идеал целомудрия не погиб: он перешел в интересную аполлоновско-дионисическую секту, в так называемый орфизм. Только что названный девственник Ипполит у Еврипида представлен именно орфиком. Пророком этой секты был в шестом веке Пифагор; на крыльях его тайного учения и тот идеал нравственной чистоты был перенесен через всю древность, но так как учение было тайным, то мы не можем проследить его путей. В средние века, когда святая гора гиперборейцев возродилась в Монсальвате, аполлоновский идеал целомудрия воссиял вновь. Времена были к этому как нельзя лучше подготовлены – половой аскез и помимо священства считался подвигом. И вот он становится первым требованием св. Грааля. Осуществляется он с одной стороны в лице чистых рыцарей, ищущих обитель святой чаши, особенно Парсиваля. С другой стороны – в лице грешного царя Монсальвата, пожертвовавшего целомудрием ради службы любви и за это наказанного незаживной раной, – Амфортаса, как его называет возобладавшая традиция.
Но предание о святом Граале донельзя затемнено непроходимой чащей всевозможных нагроможденных друг на друга «авантюр», через которую пробраться так же трудно, как и через окружающие святыню лесные дебри. Филологи-романисты и германисты и не мечтали о том, чтобы доискаться самого сердца предания: они более занимались определением взаимной филиации многочисленных и крайне запутанных эпосов и романов о Граале. Взялся за эту задачу вооруженный, кроме солидных филологических познаний, еще поразительною поэтическою интуицией гениальный поэт-композитор Рихард Вагнер; Его «Парсифаль», несмотря на неправильное заглавие, – самое полное претворение царя-грешника и вместе с тем наиболее близкое к античному истоку, которого он, к слову сказать, даже не знал. Скажу напрямик: нигде аполлоновский Филоктет не возродился так полно, как в Амфортасе Вагнера.
Окруженный непроходимыми лесами, высится святой замок и храм Монсальвата, обитель чистых рыцарей, вкушающих вечное блаженство при созерцании его главной святыни – чаши Грааля. Поодаль волшебник Клингзор, полный порочного желания завладеть Граалем, воздвиг свой соблазнительный Замок Чудес. Желая стереть с земли обитель греха, Амфортас со святым копьем в руке пошел против Клингзора. Но в его саду его встретила самая прекрасная из его прелестниц чародейка Кундрия. Не в силах оказался пылкий царь устоять против ее красоты; он забыл о своем призвании, опустился к ней на ее цветистое ложе. Этого и ждал коварный волшебник: он выхватил из его руки копье и пронзил ему бедро. Еще минута – и все видение исчезло, в бедре же Амфортаса зияла рана – die Wunde ist’s, die nie sich schließen will.
И лишь много позднее, после долгих мучений грешного царя, «чистому простецу» Парсифалю удается исполнить то, что оказалось не по силам ему. Он победоносно отражает соблазн прелестницы, добывает святое копье, разрушает им Замок Чудес и, излечив Амфортаса от его мучений прикосновением святого копья, вместо него делается царем Монсальвата. Личность античного царя-грешника здесь раздвоена; зато оба родственных античных мотива: мотив Телефа и мотив Филоктета – сплетены воедино.
Все же это богатое развитие мифа исходит из его дософокловской, даже доэсхиловской формы; аттическая драма, мы это уже знаем, пошла по другому пути. Отвергнув аполлоновский, но антидионисический мотив целомудрия, она старалась его заменить другим. И вот мы видим различные ее попытки. У Эсхила – идея религиозная; у Еврипида – идея политическая, антагонизм эллинского и варварского начал, национальное чувство героя, просыпающееся от долгого сна под влиянием этого антагонизма. Нет спора, что это были интересные попытки; будь они нам сохранены, очень вероятно, что и мы, подобно читавшему их Диону Хрисостому, недоумевали бы, какому из трех поэтов отдать предпочтение. Но все же по самому замыслу нам ближе трагедия Софокла, поставившего в центр событий не религиозную, не политическую, а нравственную идею – ту, о которой много раз уже была речь.
В этой идее – одно достоинство нашей трагедии; другое заключается в характеристике ее трех героев – Филоктета, Неоптолема и Одиссея. О них было сказано в предыдущей главе, по мере того как вступали в действие составляющие их черты; все же кое-что осталось недосказанным.
Сам Филоктет нас не задержит. Детски-доверчивый, детски-нежный к своим друзьям, он в то же время до крайности непримирим в своих отношениях к обидчикам-врагам; обеими этими чертами он напоминает другого героя Софокла, тоже творение его глубокой старости, – Эдипа Колонского. Разделяет он с ним и еще одну черту – у обоих этот характер выработался под влиянием тяжких страданий, превзошедших своими размерами размеры их вины, поскольку о таковой могла быть речь.
О Неоптолеме как носителе идеи правды сказано достаточно; как таковой, он прямой продолжатель своего отца, но ему недостает его силы. Почему недостает? Интересна у Софокла эта концепция героя-сына; наш Неоптолем, сын Геракла Гилл в «Трахинянках», сын Аянта Еврисак в трагедии того же имени – они все честны и прямодушны, но все несколько надломлены, если их сравнить с их отцами. В намеренности этой характеристики не может быть сомнений, раз она так исправно повторена; но как ее объяснить? Тем ли, что сама природа, достигши вершины силы в лице их отцов, должна была допустить этот отлив в сыновьях? Или тем, что нежность матерей: Деидамии, Деяниры, Текмессы – смягчила унаследованную от отцов крутость? Какова бы ни была причина – факт налицо, и этот факт свидетельствует о той же поразительной вдумчивости и поэта и античности вообще в вопросах наследственности и «филономизма», в которой нам не раз приходится убеждаться.
Третий, Одиссей, по размерам своей роли уступает тем двум; но для историка морали он едва ли не самый интересный из всех. Для поэта это одна из самых обычных и излюбленных фигур. Его в общей сложности светлый образ, написанный Гомером, уже в эпическом цикле успел померкнуть; что же касается Софокла, то, пробегая потерянные драмы троянского цикла – они все, надо полагать, предшествовали почти предсмертному «Филоктету», – мы поражаемся теми злодеяниями, которые он не усомнился ему приписать. Коварный похититель Ифигении в трагедии того же имени, виновник неправого суда над соратником в черных трагедиях, посвященных Паламеду, безжалостный палач малолетнего Астианакта в «Поликсене» – и он же красноречивый оратор правды в «Посольстве о Елене», он же благородный противник Аянта в знакомой нам драме его смерти! Как примирить эти противоречия? Он сам их примиряет в словах, в которых он, отвечая на упреки Филоктета, дает и нам ключи к пониманию его души. Ты называешь меня злодеем? Да, пожалуй:
Где в таковых нужда,
Там я таков; где правда мощь дарует,
Там не найдешь ты праведней меня.
Всегда и всюду мне мила – победа.
Он весь подчинил себя своей цели и в преследовании этой цели будет, смотря по обстоятельствам, либо сознательно добродетельным, либо сознательно порочным; а это – не есть ли это именно добродетель в высшем смысле слова для тех, кто выводит добродетель из сознательности? Можно легко себе представить весь соблазн, который эта мысль в себе таила не только для софистов, но и для Сократа, и для Платона в раннюю эпоху его сократических исканий. Сошлюсь вторично на любопытный памятник этих исканий, на «Гиппия меньшего», с его сравнительной характеристикой Одиссея и Ахилла. Разве хороший бегун перестает быть хорошим бегуном оттого, что он добровольно и сознательно, ради высших целей, замедляет свой бег? И разве добродетельный человек теряет свою добродетельность, если он по таким же соображениям добровольно и сознательно поступает порочно? «Не могу с тобой в этом согласиться», – отвечает Гиппий. «И я не могу, – говорит ему Сократ, – но пока что Логос так велит. И вот я скитаюсь, мысля об этом, и не могу прийти к окончательному решению. И что я скитаюсь и другие такие же неучи, в этом ничего удивительного нет. Но если и вы, мудрецы, будете скитаться – в этом горе также и для нас; ведь это значит, что даже обратившись к вам мы не найдем отдыха в своих скитаниях». Обыкновенно здесь видят образчик «сократовской иронии»; но не естественнее ли будет рассматривать эти слова как честное признание истомленной тщетными поисками души? Во всяком случае мне кажется, что «Филоктет» и «Гиппий» взаимно освещают друг друга; а это, конечно, еще более должно усилить наш интерес к этой трагедии.
* * *
Всё же условности имеются и в ней, и их мы, разумеется, должны учесть. Из них первая – оракул об условиях взятия Трои. С нею примириться нетрудно: значение оракула не метафизическое, а психологическое. Другими словами: даже не веря в правдивость этого оракула, мы тем не менее понимаем всю трагедию, и ее действие развивается вполне естественно из вполне естественного факта, что в эту правдивость верили и Одиссей и Неоптолем. Вера, что без Филоктета и его лука Трои не взять, заставляет их прийти за ним; это вполне естественно, совершенно независимо от вопроса, было ли его участие действительно необходимо. Вера, что его приход должен быть добровольным, заставляет Одиссея придумывать одну интригу за другой; и это столь же естественно по той же причине.
Вторая условность – вмешательство Геракла. Это уже не тот «закон двойного зрения», действие которого мы усмотрели в «Аянте»: небесная причинность стоит не параллельно с земной, она вторгается в нее. Но зато она – не более как материализованный психологический двигатель. Так, у Гомера Афина спускается к разгневанному Ахиллу и схватывает его за русые кудри в ту минуту, когда он с мечом в руке хочет устремиться против Агамемнона («Илиада»). Поэту так легко было сказать: «Благоразумие удержало Ахилла от исполнения его безрассудной мысли…»; будем ли мы его винить за то, что он отвлеченное благоразумие Ахилла заменил прекрасной живой фигурой девы Афины?
А впрочем, нужны ли все эти рассуждения для того, чтобы понять трагедию? Нужно ли оправдывать ее на почве рационализма? Лучше, думается мне, оправдать ее на почве красоты и для этого уверовать на минуту в суровый рок, нависший над обреченной Троей, и в трагический образ страдальца-героя, обретшего бессмертие своими многотрудными подвигами и указавшего также и своим последователям ту же стезю восходящей жизни.
VII. Трагедия возмездия. «Электра»
I
«Любить друзей и ненавидеть врагов» – таков, по мнению многих, девиз практической морали древних; и вот причина, почему античной нравственности как нравственности возмездия охотно противопоставляется христианская как нравственность прощения.
Действительно, нельзя отрицать, что античная литература, благодаря своей глубокой естественности и искренности, во многих случаях подтверждает правильность этой антитезы. «Любить друзей и ненавидеть врагов» – или, по крайней мере, вредить им – не эту ли мораль проповедует пророк Аполлона, недавно воскресший в своих пеанах Пиндар? «…Если же кто, довлея друзьям, круто выступает против врагов, тому успокоение приносит труд, соразмеренный с Добрым Часом» – так гласит в буквальном прозаическом переводе его нравоучение в новонайденном абдерском пеане. И не тот ли самый завет звучит нам из самой глубины народной души в том мимоходном и нечаянном, но тем более характерном вопросе, с которым Аристофановы птицы обращаются к своему посреднику, узнав о намерении героя переселиться к ним: «Усмотрел ли он выгоду, достойную его пребывания здесь, в надежде на которую он рассчитывает, общаясь с нами, восторжествовать над врагом или принести пользу друзьям?» Не тот ли самый идеал блестящей жизни выставляет и трагедия устами суровой Медеи?
Да не почтут смиренною меня
И кроткою и слабой; нет, ужасна
Я для врагов, зато верна друзьям:
Удел таких людей велик и славен.
А философия? Далеко ли она ушла от народной морали, когда она учит в лице стоика Цицерона: «Честный человек (vir bonus) – тот, который приносит пользу всем кому может и никому не вредит, исключая тех случаев, когда ему причинена несправедливая обида» (nisi lacessitus injuria)?
И это именно та область, в которой с античной моралью столкнулась христианская, опирающаяся на авторитет Евангелия. Уже Лактанций, один из ее древнейших учителей, приводит в своем главном сочинении только что выписанное определение честного человека у Цицерона и затем, возмущенный, продолжает: «О сколь простое и истинное изречение исказил он прибавлением этих двух слов!.. А впрочем, могло ли быть иначе? Он ведь сам был представителем этого собачьего адвокатского искусства; оттого он и хочет, чтобы человек жил по-собачьи и, раздраженный, кусался». Так же отрицательно относится к этому определению и св. Амвросий Медиоланский; только он много спокойнее, как и приличествовало современнику Феодосия Великого и полного торжества христианства: «Согласно философам, первое требование справедливости – чтобы мы никому не причиняли вреда, кроме тех случаев, когда нам причинена несправедливая обида. Это исключение, однако, упраздняется авторитетом Евангелия».
Правда, с другой стороны, что именно эта искренность, это отсутствие всякой необходимости считаться со свыше тяготеющей заповедью нравственности придает особое значение тем свидетельствам, которые удостоверяют существование более великодушного и близкого христианским идеалам течения. Если говорить об обыденной морали и ее отражении в бытовой комедии, то приятно сослаться на следующее место из новонайденного Менандра, где отец говорит своей оскорбленной мужем дочери («Отрезанная Коса», пер. Церетели):
Люба мне речь твоя: «Отец, я с ним мирюсь».
Прощать, когда тебе вновь улыбнулось счастье,
Вот это – подлинно по-эллински, дитя.
Если обратиться к трагедии как учительнице жизни, то гневной речи Медеи можно противопоставить трогательные слова Полиника в «Эдипе Колонском» Софокла:
Я сам за грех казню себя, отец;
Но правду ведь людская мудрость молвит:
Во всяком деле у престола Зевса
В его совете Милость восседает.
Если прислушаться к голосу религии, то против вышеназванного пророка Аполлона, как он ни велик, можно выставить другого, еще более великого, – того, которого изобразил Еврипид в своих «Вакханках» в лице слепого старца Тиресия. Будучи кровно оскорблен молодым и вспыльчивым царем Пенфеем, этот достойный представитель светлого бога берет за руку деда обидчика Кадма и говорит ему:
Пойдем, мой Кадм; умолим Диониса
И за него, хоть злобою он дышит,
И за отчизну нашу, чтоб от кары
Ее спасти.
Если, наконец, спросить философию, то во главе ее греки ставили свою аполлоновскую седмицу мудрецов, и одному из них, Питтаку Лесбосскому, традиция приписывает гуманное изречение, которое он как правитель проводил и в жизнь: «Прощение сильнее возмездия».
Взвешивая все эти данные, мы должны будем прийти к заключению, что правило «любить друзей и ненавидеть врагов» именно только допускалось античной моралью как естественное проявление человеческого чувства, но что более возвышенным считалось такое настроение, при котором рефлекс возмездия, остановленный разумом, уступал поле завету любви и прощения.
* * *
Но это возвышенное настроение вступало в силу лишь тогда, когда дело касалось причиненных нам лично обид; голос примирения умолкал во всех тех случаях, когда обиженными были священные для нас лица: жена, братья, дети, родители – и когда обида была непоправима, когда отнята была жизнь. Тогда право возмездия превращалось в долг возмездия, и чем непримиримее человек исполнял этот долг, тем более его одобряла общественная мораль. Как красноречивы в этом отношении и как не согласны с нашими воззрениями слова, произнесенные некогда Цицероном в сенатской речи и, стало быть, в полном единомыслии с его избранной аудиторией, с лучшими людьми Рима: «Позвольте вас спросить: если бы отец семейства, видя, что какой-нибудь из его рабов умертвил его детей, зарезал его жену, истребил огнем его дом, не захотел бы предать этого раба жестокой смерти, – сочли бы вы его кротким и милосердным или, наоборот, бесчувственным и бесчеловечным? По-моему – жестокое и каменное сердце у того, кто в таком положении отказался бы смягчить собственное горе и страдание горем и страданием преступника». Мы так привыкли прощать обиды – особенно чужие, – что нам, наоборот, эти слова римского оратора кажутся жестокими и бесчеловечными.
Впрочем, в них есть одна черта, за которой мы можем признать только производное значение: это – исключительно субъективное отношение к долгу мести. Наказывая преступника за убийство жены и детей, оратор хочет этим актом «смягчить собственное горе и страдание» – и только. В древнейшей греческой этике, которая для нас достижима, это побуждение если и действовало, то в скрытом виде; непосредственно сознаваемым было другое, коренящееся в самой сути первобытного анимизма. Душа человека, насильственно отторгнутого от чаши жизни, представлялась омраченной, опечаленной; ее печаль прекращалась только с наказанием виновника. Долг мести – непосредственное последствие этого воззрения. Не для того мстил сын убийце отца, чтобы этой местью смягчить собственное страдание, – он мстил ему для того, чтобы его кровью утолить горе отца, чтобы утешить его омраченную душу в обители Аида. Таков смысл слов Электры в нашей трагедии:
Знаю, сразил мститель ее:
Горе отца сын утолил, —
и Креонта в «Царе Эдипе»:
Но помочь в печали
Убитому царю никто не мог.
Конечно, можно возразить, что это представление все-таки вызвано субъективным чувством горя, причиненного утратой. Подобно тому как анимистическая идея объективного переживания души умершего была в значительной степени проекцией субъективной памяти о нем – почему мы справедливо на ступени анимизма говорим лишь о переживании, а не о бессмертии души, – точно так же и представление о горе безвременно удаленной души могло быть проекцией того естественного субъективного горя, которое сопровождало память об убитом у живущих. Это, думается мне, будет вполне справедливым объяснением. Но все же это объективное представление существовало в ту древнейшую эпоху, о которой идет речь, и считаться с ним необходимо, когда говоришь о ней. К эпохе Цицерона оно уже утеряло свое значение для людей образованных – осталось одно только чувство субъективной печали, которое и продиктовало оратору его страстное заявление.
Со всем тем развитие идеи возмездия от древнейших времен до Цицерона было далеко не прямолинейным; постараемся его проследить в отдельных его стадиях.
* * *
Предполагая душу убитого опечаленной и, следовательно, разгневанной на убийцу, первобытный анимизм признает за ней и силу самой отомстить за себя. «Мой сын, – говорит в «Хоэфорах» Эсхила хор впавшему в уныние Оресту, – не укрощает рвения убитого свирепая челюсть огня; он и в дальнейшем являет свой гнев. Стонет убиваемый – возникает мститель; праведный предсмертный вопль отцов повсюду разливается, волнуясь, – и ищет». Кто этот мститель? Сомнения невозможны: это он сам, предсмертный стон убиваемого. Ведь если по первобытным представлениям душа – это дух, последнее дыхание умирающего, то вполне последовательно было представлять себе предсмертный стон или вопль убиваемого превращенным в переживающую его огорченную и разгневанную душу. Итак, это он сам отныне, этот предсмертный вопль, всюду разливаясь, ищет и преследует своего убийцу; на почве этих представлений развивается учение об Эринии. Действительно, вначале Эриния – не что иное как гневная душа убитого, его воплощенный предсмертный стон.
И вот почему приносимой в жертву Ифигении, согласно тому же Эсхилу («Агамемнон»), связали ремнями ее миловидные уста: это – для того, чтобы она в минуту смерти «не могла испустить стона, который стал бы проклятием для ее дома».
В дальнейшем развитии, однако, уклонения были неизбежны. Прежде всего Эриния, как вечно рыщущий и преследующий убийцу дух проклятия, отделяется от души убитого, следующей общей участи душ; но при этом личные отношения не нарушены и Эриния, хотя уже не отождествляемая с душою убитого, сознается еще как его Эриния, лично ему принадлежащая. Затем и это упраздняется и Эриния (или Эринии – число безразлично) превращается в объективно существующую богиню, блюдущую права убитого и карающую его убийц. И далее, и далее разрастается ее значение как восстановительницы нарушенной справедливости; под конец она – всесильное божество равновесия, охраняющее великий договор, которым живет мир. Уже у Гомера Эринии задерживают голос Ахиллова коня, заговорившего по-человечески («Илиада»); а по Гераклиту: «Если бы солнце пожелало покинуть свои пути, Эринии заставили бы его вернуться».
В ту эпоху развития греческой жизни, от которой нам сохранены литературные памятники, все эти представления сосуществуют, точно лежащие рядом потоки лавы различных, веками друг от друга отделенных извержений.
* * *
А впрочем, логическая последовательность только отчасти бывает присуща народным представлениям религиозного характера; полное их растворение в воде интеллекта никогда не удается. Особенно это касается представлений анимистических, возникающих под влиянием двух противоречащих друг другу, но одинаково прочных основных воззрений. С одной стороны, душа убитого обладает вредоносной силой, а поэтому в состоянии сама мстить за себя; но с другой стороны, она беспомощна, и потому месть за нее ради утоления ее печали – долг ближайшего родственника, и прежде всего, конечно, сына. Поскольку эта душа вредоносна, убийцы стараются принять меры против ее мести: завязывают рот убиваемому, отрубают руки убитому. Поскольку эта душа беспомощна, долг кровавой мести освящается всей святостью религии; но если тем не менее родственник от нее уклоняется, на него обрушивается месть все той же разгневанной души, которая, таким образом, в одно и то же время представляется и беспомощной, и вредоносной, – распутать этот узел невозможно.
Оно, впрочем, и не особенно нужно, так как этический вывод ясен и не затронут противоположностью основных представлений. Он гласит для убийцы: бойся мести и со стороны мертвого и со стороны живого. Он гласит для ближайшего родственника: ни под каким видом не уклоняйся от лежащего на тебе долга мести.
Мести, да; но какой? И это не подлежало сомнению: древнейшее право требовало крови за кровь. Итак, одно убийство порождало необходимость другого. Но если так, то получалась новая Эриния – Эриния убитого первоубийцы – и новый долг мести, лежащий на ближайшем родственнике последней жертвы. Против этого нельзя возразить, что второе убийство было лишь искуплением первого, что оно лишь восстановило равновесие, нарушенное первым, и что поэтому Эриния не имела права требовать новой крови. Понятие «справедливого убийства» было так же чуждо первобытному праву, как и понятие убийства невольного. Все дело было в факте: раз кровь была пролита, она требовала новой крови; против этого ничего нельзя было возразить. И действительно, у тех народов, у которых существует обычай кровавой мести: у корсиканцев еще недавно, у албанцев и поныне, – долг таковой прекращается не раньше, чем по истреблении одного рода другим. Так, надо полагать, было некогда и в древней Греции. Первое убийство было лишь первым звеном в целой цепи искупительных убийств; эта цепь в принципе никогда не прекращалась, фактически же обрывалась лишь тогда, когда последний убитый не оставлял после себя родственников по крови.
Тогда его Эриния навсегда склоняла на руку свое омраченное чело: не было того, кто мог бы вступиться за ее право.
* * *
Это, однако, лишь предполагаемое первоначальное состояние, на которое нас наводят историческая последовательность и аналогия; в древнейшем уловимом для нас социальном строе Греции, в гомеровском, мы находим уже важное изменение этого принципа кровавой мести. Его обязательность еще чувствуется по отношению к врагам: там, где так часто брат бьется в одном строю с братом, падение одного от руки супостата естественно возбуждает против последнего месть другого. Так, в той битве, где Одиссей поражает насмерть одного из двух сыновей Гиппаса («Илиада»):
В помощь ему устремившийся Сок, небожителю равный,
Быстро и близко предстал и к Лаэртову сыну воскликнул:
«Царь Одиссей, неистомный в трудах, неоскудный в коварствах!
Днесь или ты над двумя Гиппасидами будешь гордиться,
Свергнув мужей таковых и доспех их блестящий похитив,
Или, копьем ты моим ниспроверженный, душу погубишь».
Это разумеется само собою, и об этом много не говорят.
Но дело принимало новый вид, если убийца – член той же гражданской общины, как и убитый и его родственники. Не то чтобы тогда государство вмешивалось и, вырывая месть из рук этих последних, учреждало свой собственный, обязательный для обеих сторон суд над убийцей: это – последний фазис в истории развития кровавой мести, до которого мы дойдем еще нескоро. Нет; дело по-прежнему предоставлялось личным расчетам убийцы с ближайшими родственниками убитого. Но общественное мнение и обычай одобряли такой его исход, при котором убийца мог откупиться имущественной пеней от родственника и этим обеспечить себе безопасность: гомеровская община признает институт виры. Так, Аянт, недовольный непримиримостью Ахилла, говорит ему («Илиада»):
Смертный с душою бесчувственной! Брат за убитого брата,
Даже за сына убитого пеню отец принимает;
Самый убийца в народе живет, отплатившись богатством,
Пеню же взявший – и мстительный дух свой, и гордое сердце —
Всё, наконец, укрощает.
Из этих слов ясно, что симпатии говорящего всецело на стороне этого бескровного исхода, при котором убийца по-прежнему «в народе живет». Если же родственник оказывался несговорчивым, то убийце оставалось только одно – отправиться в изгнание. И действительно, у Гомера совершённое убийство – самая обычная причина изгнания; певец с интересом останавливается на внушительной сцене появления такого изгнанника в избранном им для убежища доме («Илиада»):
Так, если муж, преступлением тяжким покрытый в отчизне,
Мужа убивший, бежит и к другому народу приходит,
К сильному в дом, с изумлением все на пришельца взирают…
Так некогда и малолетний Патрокл был введен в дом Пелея («Илиада»):
Младого меня из Опунта Мелетий
В дом ваш привел, по причине печального смертоубийства,
В день злополучный, когда, маломысленный, я не нарочно
Амфидамантова сына убил.
Убийство это было совершено малолетним, и притом нечаянно, но это дела не изменяет; мы уже видели, древнейшее право не признает понятия нечаянного убийства, для него важен лишь факт пролитой крови.
Все же при этой постановке и решении вопроса нас озадачивает одно: где же Эриния и ее права? Почему она не преследует ни убийцы, «живущего в народе», ни родственника, продавшего за виру священный долг кровавой мести? Прямого ответа на этот вопрос Гомер не дает, но все же подсказывает нам таковой – и даже не один, а два.
Дело в том, что, во-первых, Гомер признает сжигание трупов вместо первоначального их погребения; этот новый обычай, каковы бы ни были его основания, несомненно, имел последствием новое представление об участи переживающей души, а именно представление о ее полной разобщенности с миром живых. Она пребывает где-то далеко, во всеприемлющей обители Аида, и на землю к своим более не возвращается. Это совершенно ясно нам говорит Гомер словами мертвого Патрокла («Илиада»):
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.