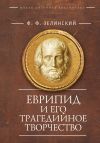Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 33 страниц)
Прочти и то, о бог непогрешимый,
Что я таю в молчанье осторожном:
Всё видят очи Зевсовых сынов, —
то мы понимаем значение этой сокровенной молитвы. Она хочет сказать: дай мне услышать весть о гибели моего сына.
И чудо, о котором она молила бога, сбывается. Талфибий – тот Талфибий, который находился все время вблизи и, следя за всем, выжидал удобного случая для вмешательства, подходит к ней и от имени Эгисфова друга Фанотея передает ей известие о гибели Ореста.
Вот образчик настоящей Софокловой перипетии. Миф сам по себе давал поэту только интригу: мстители (Талфибий или Орест, все равно) придут и расскажут о смерти Ореста, чтобы облегчить себе доступ в дом и исполнение мести; и эта интрига, как дело чисто человеческой хитрости, сама по себе не внушает нам трагического настроения. Таковое создается тем, что интрига вставляется как звено в цепь событий, которую кует уже не отдельный человек, а сам Рок. Что знал Талфибий о сне Клитемнестры? Ничего. Его появление с вымышленным известием было задумано заранее. Но именно то, что оно происходит теперь, в минуту крайнего напряжения страха и надежды, придает ему роковое значение; мы забываем об интриге; нам кажется, что сам Рок властной рукою отнимает у человека им задуманное дело и ведет его как свое собственное, пользуясь этим человеком лишь как орудием своих целей.
Крайний страх Клитемнестры, беззаветная надежда Электры – и вдруг этот удар. Понимаем мы теперь, почему поэт отказался от мысли допустить свидание брата с сестрой и, следовательно, посвящение Электры в его тайну?
Но удар был слишком оглушителен; чтобы дать обеим женщинам время оправиться, поэт влагает в уста Талфибия длинный рассказ о гибели Ореста в ристании колесниц на дельфийском ипподроме. Обстоятельность рассказа, несомненно, стоит в связи с известным пристрастием древних греков к агонистике, но она имеет и психологическое значение. Ведь Талфибий говорит от имени Фанотея, друга Эгисфова, не имевшего особого повода относиться дружелюбно к Оресту; и тем не менее его рассказ – сплошное восхваление молодого сына Агамемнона. «Твой сын пал как герой», – говорит он Клитемнестре; он делает все что может, чтобы усилить в этой матери сознание драгоценности этого сына. Если у нее сохранились под золой хоть искорки материнской любви, они должны вспыхнуть ярким пламенем после этого рассказа.
И действительно, они вспыхивают:
Я родила его, и в этом ужас.
Нет той обиды, чтобы мать решилась
Возненавидеть детище свое.
Но лишь на минуту. А затем – сознание обеспеченности, прекращение томительного страха берет верх. Присутствие Электры ускоряет этот переход: давно ли она победительницей стояла перед своей матерью? Этого больше не будет; тем лучше!
Она уходит с Талфибием во дворец; наше внимание сосредоточивается на Электре. Она только что на наших глазах победоносно отразила три последовательных натиска – преданных подруг, полупреданной сестры и враждебной матери; после этого у нее только один достойный противник – Рок. Его ударом она сражена; окончательно ли?
Мы можем себе представить – ведь сцена одна из самых трогательных – участливые взоры, которые старый пестун по временам украдкой бросал в сторону великодушной девы, тон его речей, по временам рассчитанный на ее любящее сердце; и во всяком случае также и на нее была рассчитана основная нота его рассказа: «Ты – сестра героя». Пусть она теперь на минуту обессилена: слабость пройдет, и тогда героиня даст знать о себе.
Это понимает и хор; и он своей песнью старается содействовать всходу семян героизма. Такие натуры как Электра оправляются от ударов только тогда, когда в них возникает сознание, что они нужны. Вот это-то сознание и желает он внушить повергнутой в прах подруге: так как природный мститель Орест погиб, то долг мести лежит отныне на тебе. Итак, живи для мести. С этой целью он рассказывает ей в качестве притчи про участь царя-пророка Амфиарая, тоже погибшего вследствие козней своей жены, но нашедшего успокоение под землей благодаря мести своего сына, благочестивого матереубийцы Алкмеона. Итак, месть нужна – она нужна во что бы то ни стало.
Электре не сразу представляются последствия этой мысли; но она запала ей в сердце, она работает в ней – и переходит в сознательное решение в разговоре с примчавшейся на радостях Хрисофемидой. Она была на могиле отца, она нашла там чужой локон и не сомневается в том, что его там оставил Орест, что Орест вернулся. Конечно, Электра быстро разрушает в ней эту уверенность; но эта добрая девушка обнаруживает столько неподдельной радости, сообщая ей благую весть о возвращении брата, и столько неподдельного горя, услышав от нее печальную весть о его гибели, что ей становится легче. Она перестает чувствовать себя одинокой; в атмосфере участья брошенные раньше семена героизма дают, наконец, всходы: она обращается к сестре с предложением вдвоем совершить дело мести… над Эгисфом. О матери ни слова; думала ли она ограничиться презренным злодеем? Или только не решалась говорить перед сестрой об этой второй, самой ужасной части задачи?
Конечно, сочувствия со стороны робкой Хрисофемиды она не встречает. Но это уже неважно: семена взошли, и эти всходы не погибнут:
Итак, своей рукою
Должна исполнить дело я, одна:
Порыв души моей не будет праздным.
И хор благословляет ее:
Стань же властью и силой
Врагов превыше всех, насколько ныне ты
Им в униженье служишь.
Нашла тебя в горе я, в жалостной судьбине;
Но из заветов божьей Правды лучший ты, всех святей,
Умеешь чтить – долг любви дочерней.
Здесь апогей ее мрачного величия как героини трагедии возмездия.
* * *
И здесь в то же время второй поворотный пункт в ее судьбе – тот, когда преследующий ее Рок признает себя побежденным.
Приходят Орест и Пилад, мнимые посланцы царя Строфия, с мнимым прахом Ореста; приходят они согласно уговору с Талфибием; но, конечно, в этом уговоре не было предусмотрено, что они, придя на площадку, что перед дворцом, застанут на ней Электру, и притом после ее победы над собой и своей слабостью. Здесь вторично интрига растворяется в перипетии – вторично Рок берет нить действия из рук смертного и ведет его сам.
Узнает ли Орест Электру сразу? Трудно предположить, чтобы он, узнавший ее по одному ее голосу в прологе, здесь мог заблуждаться относительно того, кого он имеет перед собою. Но он решил выдержать свою роль. Когда она просит передать ей для оплакания мнимую погребальную урну Ореста, он ей не отказывает: раз урна выдается за подлинную, то то, о чем просит Электра, – религиозный долг и никто ей отказать не вправе. И вот над мнимым прахом брата раздается искренний плач сестры – знаменитый на всю древность ϑρῆνoς Электры.
Этого умелый автор интриги не рассчитал: силы оставляют его, он чувствует, как Некто высший выхватывает у него из рук искусно сплетенную нить – и он не противится ему, доверчиво отдавая себя в его власть. Он открывается сестре, – правда, с осторожностью, с опаской. Но Электра ни того ни другого не знает; она чувствует, что поступила бы недостойно великой минуты, если бы послушалась голоса человеческой расчетливости и этим выразила бы сомнение и недоверие к благосклонности столь щедро одарившей ее руки. Беззаветно и смело уносится она на волнах своего счастья, увлекая за собою и своего осторожного брата; и мы охотно уносимся с ней.
Такова эта сцена признания, этот цветок между двух бездн. А теперь предстоит матереубийство.
Возвестителем наступившей минуты является к замечтавшейся чете Талфибий. Все готово; жертва стоит у алтаря и ждет своего удара. Да и жрецы готовы; вскоре они исчезли в сумерках сеней; на сцене один хор. В предчувствии надвигающегося ужаса поет он свою краткую и жуткую песнь:
Вот он идет, а перед ним…
Нам тут вспоминается одно из величайших музыкальных творений Бетховена – его Пятая симфония с ее знаменитым началом. Три кратких, быстрых удара в оркестре, за ними протяжный, и вслед за тем опять три кратких с одним протяжным. «Это – Судьба стучится в дверь», – пояснил композитор. Ту же тревожную повторенную фигуру имеем мы и здесь:
Вот он идет, а перед ним
Свежей крови жар – бог-ловец Арес.
Электра, проводившая друзей во дворец, вскоре опять выходит – ей там делать нечего, а здесь надо сторожить, как бы не застиг мстителей Эгисф. И вот она перед нами; нам кажется, мы слышим, как бьется ее сердце. Вот раздается зов Клитемнестры… она признала убийцу-сына. Теперь уже медлить нельзя: вскоре жалобный зов переходит в отчаянный крик – сын ударил мать. И дочь кричит ей в ответ, предчувствуя слабость брата:
Коль ты силен – еще раз!
Это уже не Электра: это – Эриния.
Раздается второй удар, за ним второй крик, потом третий удар… глухой звук падения тела… тишина.
Мстители выходят. Свершилось? Да:
Всё к добру в чертоге,
Коль доброе вещал нам Аполлон.
Что это? Успокоение совести, заранее данный ответ на возможный упрек? Или, наоборот, возникшее сомнение? Если да, то это место единственное. А впрочем, Рок, взявший в свои руки нить событий и деяний, не дает мстителям опомниться: показывается Эгисф. Так оно и лучше.
Последняя сцена – смерть Эгисфа – после ужаса предыдущей приносит даже некоторое облегчение: презренный трус и осквернитель, даже умирая, никакого сочувствия к себе не вызывает. Он быстро падает, народ приветствует Ореста, трагедии конец.
IV
А Эринии?
Их нет и быть не может. Орест исполнил только волю бога, а она тождественна с нравственным долгом. Софокл дал Аполлону даже больше, чем тот требовал от смертных через своих пророков, лирических поэтов. Там Эринии все-таки появлялись, преследовали Ореста, но бог его защищал своими чудесными стрелами. Здесь они даже не покидают своей подземной обители.
Лучше ли так? Об этом можно судить различно. Но все должны признать одно: стоя на этой точке зрения, поэт сделал все от него зависящее, чтобы нас убедить в своей и ее правоте.
Мы отчасти уже видели, в чем заключались его средства. Не Клитемнестра спасла Ореста, а Электра; мало того, нам не раз дается понять, что преступница и его обрекла бы участи его отца, если бы не это вмешательство смелой и великодушной дочери. Ее жизнь – сплошная неправда по отношению и к этой дочери, и к тени покойного, которого она убила без всякого с его стороны повода, уступая внушениям недостойного Эгисфа и лишь под предлогом мести за закланную Ифигению. И все-таки она окружена преданными ей людьми и Электра – единственная, поднимающая голос правды против нее. Да и от нее она теперь решила избавиться. Весть о смерти Ореста ей внушает радость и обидное торжество над убитой горем Электрой; нечестивый смех, с которым она покидает сцену, – вот последнее, что у нее остается.
Все это уменьшает до крайних пределов наше сочувствие к ней как к матери, имеющей принять смерть от своего сына; но это не всё. Мы видели, как у Софокла та интрига, которая у Эсхила решила всё, отступает перед властной волей Рока, пользующегося для достижения своих целей этой человеческой интригой как одним средством из многих. Вот почему, когда Талфибий, глашатай Рока, зовет Ореста на по двиг, мы видим в нем лишь послушное орудие этого гиганта и чувствуем его ответственность тоже уменьшенной до последних пределов. Содействует этому и то место, которое в нашей трагедии занимает сцена признания, проливающая столько ласкового света на характер брата и сестры. Дело матереубийства теряет значительную часть своего ужаса вследствие того, что оно вставлено между этой сценой и сценой расплаты с Эгисфом; изменяя традиционный порядок, согласно которому падает сначала Эгисф, а затем уже Клитемнестра, поэт несомненно хотел достигнуть того, чтобы заключительным аккордом была эта безукоризненная кара, свершающаяся над злым гением Клитемнестры и дома Атридов.
А затем – важно и то, что у Софокла не Орест, а Электра сделана героиней трагедии.
Мы можем в значительной степени проследить ее постепенное возрастание. В гомеровской редакции она еще отсутствует; по крайней мере, ничто не заставляет нас предполагать ее наличность. В дельфийском варианте она уже имеется: поэт воспользовался ею как соединительным звеном между Орестом и его домом при осуществлении мести, отправляя ее с возлияниями на могилу Агамемнона, где она должна встретиться с братом; но, конечно, за утратой Стесихоровой «Орестеи», мы не можем судить, насколько старательно был там обрисован ее характер. У Эсхила ее внешнее значение не усилилось – и у него она лишь звено между Орестом и домом Атридов, и, сослужив эту свою службу, она после первой части трагедии уходит к себе и более не появляется. Но характером она у него представлена несомненно, и притом таким, каким она только и могла выйти из суровой мастерской этого художника. Она не знает ни сомнений, ни колебаний; жажда мести за отца – основная ее черта, она наполняет все ее существо. Она рада прибытию брата, но лишь постольку, поскольку она видит в нем «восстановителя дома ее отца»; она не чуждается и девичьих мечтаний о замужестве, о собственном доме, но потому только, что надеется в день своей свадьбы принести на могилу отца обильные пожертвования из того отцовского наследия, которого теперь ей не выдают. Вообще можно сказать одно: в ней живет душа ее отца. Только в одном чувствует она себя дочерью своей матери: «Точно волк кровожадный, – говорит она, – неумолима моя душа: в этом мое материнское наследие». Она знает за собой эту черту – и боится ее. Трогательна ее молитва на могиле отца: «Родитель мой! Не дай мне сделаться такой, какова моя мать: сохрани в смирении мое сердце, в чистоте мои руки». Да, это трагическая фигура; читая ее слова, мы чувствуем, что она имеет все данные для того, чтобы со временем самой сделаться героиней трагедии. Эсхил уготовил путь Софоклу.
Софокл не осмеливается дать ей в руки меч – грани традиции незыблемы, исполнителем мести мог быть только Орест. Но во всем прочем он именно ее, а не Ореста поставил в центр событий. Прежде всего она спасает малолетнего брата и, передав его Талфибию, его устами наставляет его на кровавое дело. Она и за время его отсутствия поддерживает с ним тайные сношения и, как только он достиг зрелости, торопит его вернуться на родину и исполнить то, ради чего она его спасла. Тем временем она своим непрекращающимся плачем поддерживает в усопшем отце сознание его обиды и жажду мести. А затем – все, что происходит, отражается на ней. О сне Клитемнестры слышит она – Орест о нем так и не узнает, – и он наполняет ее бодростью и внушает ей силу для борьбы с матерью. Весть о смерти Ореста слышит опять-таки она, и эта весть, разрушая ее надежды на брата, подготовляет тот подъем ее духа, в силу которого она сама берет на себя дело мести. Неожиданное появление, почти воскресение брата освобождает ее от этой необходимости, но только физически – нравственно она остается душою дела, и ее ужасное:
Коль ты силен – еще раз! —
которым она поднимает для нового удара ослабевшую было руку своего брата, делает из нее настоящую нравственную виновницу происходящего за сценой.
И в этом непреклонном, неумолимом сердце – столько любви и нежности там, где суровый долг дает этим мягким чувствам возможность развернуться. Что может быть нежнее, преданнее, женственнее ее слов узнанному брату:
О брат мой, все, что важным ты считаешь,
Закон и мне: ведь от тебя я радость
В дар получила; вся она – твоя.
Она старше его, она его спасла, но он – сын, единственный сын ее убитого отца, и она преклоняется перед ним.
* * *
Потомки Софокла оценили его «Электру» – оно и понятно. Мы ведь видели: долг мести за убитого родственника, хотя и претворенный, никогда не исчезал из сознания греков. Нам сохранилась эпиграмма некоего Диоскорида на изображение посвященного на могиле Софокла сатира с той маской в руке, которая характерна именно для Электры – так называемой κoύριμoς, т. е. с обрезанными волосами; в ней говорится:
Счастливо место твое; но лик этой девы скорбящей —
В драме какой, расскажи, с ним подвизался Софокл?
Хочешь – узнай Антигону ты в ней, а хочешь – Электру:
В них он обеих достиг крайних искусства высот.
Но с падением античного мира и это настроение, на фоне которого «Электра» как трагедия возмездия была непосредственно понятна и обаятельна, уступило место другому. Страшный миф все-таки не был забыт – он только изменился. Вот как рассказывает датский летописец XII века Саксон-Грамматик одно предание якобы из древних судеб своего королевского дома.
У доблестного короля Горвендиля была жена по имени Герута. Его трусливый и коварный брат Фенго, заручившись сочувствием Геруты, убивает его и, завладев престолом, женится на ней. Он боится, однако, мести со стороны сына покойного, королевича Амлета; чтобы обезвредить его, он посылает его в подвластную ему Англию с двумя дворянами и письмом, содержащим приказание о его умерщвлении. Амлет подменивает письмо, так что его жертвами делаются оба дворянина, сам же возвращается в Данию. Там тем временем Фенго получает известие об исполнении своего приказа, т. е., как он убежден, о смерти своего племянника. Обрадованный, он справляет в честь его великолепные поминки. Амлет является неожиданным гостем, поджигает хоромы, в которых происходит пиршество, и убивает преступного короля.
Как известно всем, это якобы датское предание послужило косвенно источником Шекспиру для его наиболее знаменитой трагедии. Орест возродился в Гамлете.
Электра упразднена: героиня отраженной драмы вновь уступила место героям действительной. Этим Шекспир, – конечно, сам того не сознавая, – помимо Софокла возвратился к Эсхилу. Про Эсхила можно было сказать, что его Электра – носительница души своего отца. Шекспир ее самое выводит на сцену, эту омраченную душу; от нее Гамлет узнает о преступлении, жертвою которого пал его отец; она же связывает его обетом мести.
Само требование мести охристианено, по крайней мере отчасти; душа убитого омрачена потому, что он
во сне убит рукою брата,
Убит в весне грехов без покаянья,
Без исповеди и без тайн святых.
Это согласно с христианским воззрением; но, разумеется, ни один догмат христианской религии не дозволяет верить, чтобы местью за смерть отца Гамлет мог сократить хоть на один день тот срок, «пока его земные прегрешенья не выгорят среди его страданий». И все-таки он требует этой мести, и его сын видит в ней отныне свой самый священный долг. И мы – мы понимаем и отца, и сына, если не умом, то сердцем: так близко нам, после стольких веков христианства, это античное чувство.
Но зато в другом отношении поэт помимо Эсхила и Аполлона опять-таки бессознательно – вернулся к эпической мягкости предания. Упразднена также и Клитемнестра, и как убийца мужа, и как предмет мести своего сына. Она только сообщница в деле убийства своего мужа. Конечно, и как таковая она достаточно виновна; все же тень убитого настоятельно наказывает мстителю-сыну:
Но как бы ты ни вздумал отомстить,
Не запятнай души: да не коснется
Отмщенья мысль до матери твоей.
Оставь ее Творцу и острым тернам,
В ее груди уже пустившим корни.
А в той дальнейшей сцене, где этот сын наедине с матерью рисует ей всю омерзительность ее поступка и уже доходит до исступления, опять появляется та же тень благородного короля:
Взгляни: над матерью витает ужас.
Стань между ней и тяжкою борьбой
Ее души; воображенье в слабых
Всего сильней; заговори с ней, Гамлет!
Нет: единственный предмет мести сына – это король-осквернитель, перелицованный Эгисф. Но и перед ним – как робок Гамлет, как нерешителен! Он встречает его в первый раз наедине за молитвой – и оставляет невредимым. Он оправдывает свое колебание перед самим собою христианским, но вряд ли искренним соображением, что, убивая злодея за молитвой, он этим отправил бы его в рай и плохо отомстил бы за томящегося в чистилище отца. Он ждет; тем временем король венчает свои преступленья коварным замыслом против его жизни. «Ну что? – спрашивает спасенный: —
Теперь довольно ли меня задели?
Тому, кто отравил отца-монарха,
Кто матерь развратил, кто ловко втерся
Между избраньем и моей надеждой,
Кто так хитро свои забросил сети
На жизнь мою – ужель с ним рассчитаться
Моя рука не вправе?
Так он рассуждает – и ждет. И только тогда, когда отравленная рачением короля шпага влила смертельный яд в его тело, когда от заготовленного для него королем отравленного кубка умерла его мать, – только тогда он, в исступлении, наконец закалывает злодея.
И мы знаем: не от той шпаги погибает Гамлет. Его душа уже раньше была отравлена и поражена насмерть приказом мести, полученным от убитого отца. Это античность встала из могилы и внушила кроткой и нежной душе потомка завет античной силы и резкости; эта кроткая и нежная душа не вынесла этого завета и погибла.
А впрочем, должны ли мы здесь говорить об исключительной резкости и силе античности? Нет. Гамлет Шекспира тоже в своем роде античный герой: он представляет нам то развитие мифа, которое он получил бы в древности, если бы намеченное Гомером направление не было пресечено властной рукой Аполлона, и которое он действительно отчасти получил впоследствии, когда ореол Аполлона стал гаснуть, у Еврипида и его последователей вплоть до Горация, который в своем tristis Orestes уже предваряет Гамлета. Решительный Орест Софокла – лишь расцвет аполлоновской морали. Да, он мог исполнить во всей его страшной полноте долг кровавой мести и, как праведный слуга Аполлона, не чувствовать после этого никаких угрызений совести; а вот Гамлет не мог. Почему? Потому ли, что он потерял Аполлона, – или потому, что он нашел Христа?
* * *
Я воспользовался шекспировским Гамлетом только для того, чтобы с помощью этого христианского Ореста оттенить аполлоновскую силу и резкость софокловского; развитие мифа и его характеров в поэзии после Софокла не входит в мою задачу. Поэтому я, минуя всех Орестов новейших времен, находящихся в большей или меньшей зависимости от древней трагедии и не изменяющих ее основной концепции, остановлюсь только на одной поэме современности, примыкающей к «Электре» Софокла и являющейся в полном смысле ее модернизацией. Это – небезызвестная и нашей русской публике «Электра» современного немецкого поэта Г. ф. – Гофмансталя, несомненно, самое талантливое претворение античного сюжета в новейшей драматургии после Шекспира.
Когда самобытный новейший поэт обрабатывает сюжет древней эпохи, он приносит нам, помимо эстетического наслаждения, еще и чисто интеллектуальную пользу: сравнивая его с его первообразом, мы учимся распознавать разницу эпох. Гофмансталь примыкает именно к Софоклу. Что он пропустил пролог, об этом я уже упомянул. Зритель не посвящен в интригу; слыша о смерти Ореста, он не знает, что это известие лживо, и, видя брата перед сестрой, он не раньше убеждается в этом, чем слышит из уст Ореста его имя. Но не в этом суть. Страшный возглас Электры: «Ударь еще раз!» – он принял и в свою трагедию; этот возглас – кульминационный пункт здесь и там. Но разница в том, как они к этому кульминационному пункту идут – античная и современная трагедия.
Путь античной трагедии – путь религиозный. Религиозна прежде всего идея заупокойного плача: имея свои корни в первобытном анимизме, она, хотя и смягченная в жизни исторических Афин, жила тем не менее в легенде и была непосредственно понятна зрителям Софокла. Электра – воплощенный благочестивый плач. Подавно религиозна затем и идея кровавой мести. Имея также свои корни в первобытном анимизме, она, смягченная в ионийском эпосе, была призвана к новой жизни резким дуновением Аполлоновой религии и, претворенная согласно требованиям государственной жизни, была равным образом непосредственно понятна зрителям Софокла. Электра – воплощенная благочестивая месть. Она едина и гармонична в основном естестве своей души – для нее поэтому возможно благополучное решение. Она выживает; и тот поэт, который сделал ее впоследствии женой Пилада, внес этим нечто, для трагедии, конечно, лишнее, но ничуть ей не противоречащее: она была хорошей дочерью и сестрой – будет также хорошею женой и матерью, в этом никакого сомнения нет.
И вот именно то, чем обусловливается здоровье античной Электры, устранено ее современным поэтом: религиозный смысл ее жизни. Есть ли боги? Кто это знает! Скорее – нет; во всяком случае с ними не считаются. А где нет богов, там реют привидения. Привидения – продукт разложения религии; ими полна трагедия Гофмансталя, как полны ими и романы Достоевского. Герои и того и другого – одержимые. Враги Гофмансталя думали унизить его указанием на психопатический характер его Электры, Клитемнестры и других. Он может смело подписать этот приговор: им подчеркнут современный характер его трагедии.
Отчего совершает Орест свое деяние? Оттого что в нем – освобождение для его измученной души; оттого что «деяние – это ложе, на котором душа отдыхает, точно ложе бальзама, на котором может отдохнуть душа, вся ставшая язвой, жаром, пламенем». Но все же герой не он, героиня – Электра. Она когда-то была красавицей, как ныне Хрисофемида, и со сладостным упоением смотрела на белую наготу своего тела, в которой луч месяца купался, как в пруду. Но мертвые ревнивы; и мертвый отец послал ей женихом «Ненависть» (Haß), и этот жених, подобно змею, скользнул в ее бессонное ложе и научил ее всему, что происходит между мужем и женой. Тогда ее тело обледенело и в то же время обуглилось, и когда она узнала всё, ее взор стал таким страшным, что убийцы не могли его вынести. Таково было саморазрушение Электры. Жажда мести выжгла в ней все, что могло пережить ее исполнение; месть для нее – не средство, а цель, завершение, всё. Месть исполняется – она пляшет в исступлении радости, и в этой исступленной пляске догорает остаток ее жизни.
Вот – современность. Христа она потеряла, но заросшей тропы к Аполлону не нашла.
* * *
О да, мы слишком много забыли. И хорошо поэтому, что есть памятники, которые – на то они и «памятники» – могут напомнить нам то, что мы забыли, и этим хоть отчасти вернуть нам наше потерянное здоровье. Хорошо, что за умирающей в пляске современной Электрой – мы видим поникшую голову омраченного юноши и рядом с ним Того, кто тихо опускает его поднятый меч, обрекая этим его самого на медленное увядание. Но еще лучше то, что за ними обоими мы видим в голубой дали легкую колоннаду Дельфийского храма; и ниже, в пещере, ждущую душу убитого царя и у его ног дремлющую Эринию с памятливой секирой в руке; и ближе – бодрую чету Атреевых внуков, милостью бога преодолевшую ужасы и стремящуюся навстречу и жизни, и радости, и обетованной земле собственных детей и внуков.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.