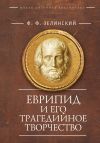Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 33 страниц)
Но нет: причина их интердикта сложнее. Перед нами выступает мотив самодовлеющей скверны: растерзанная плоть несчастного Полиника сама по себе действует тлетворно и на вещих птиц, и на алтари богов, независимо от злой воли Креонта. Это – пережиток старины. Уже в нашу эпоху на западе орден пифагорейцев учил о другом, более внутреннем и духовном отношении к греху и божьему гневу. Софокл, вероятно, слышал об этом учении, но оно здесь подсказало ему только великолепную отповедь Креонта:
Его же скрыть в могиле
Не дам. Хотя бы Зевсовы орлы
К престолу бога самого примчали
Его растерзанную плоть – и этой
Не испугаюсь скверны я, Тиресий:
Не властен смертный бога осквернить.
Это чудное и смелое слово, минутно отдающее Креонту наши симпатии, наверное, тогда казалось поэту кощунственным; позднее он и в этом отношении изменил свое мнение.
Второй, не сразу нам понятный мотив, – это разделение богов на вышних и подземных, с разграниченными сферами власти тех и других; и все же его признает и Сократ в «Апологии» Платона. В момент смерти мы поступаем под власть подземных богов и притом обязательно, но не раньше. А если так, то Креонт провинился дважды против и тех и других. Запрещая хоронить труп Полиника, он отнимал у подземных богов то, что им принадлежало, и этим заодно оскорблял вышних богов, заставляя их участвовать в своем беззаконии. Точно так же, только в обратном смысле, он против обоих провинился и тем, что отправил в гробницу Антигону еще до ее смерти.
Ну, что же, значит, боги с их вещими птицами и прорицателями против Креонта[19]19
Не будем верить Креонту, когда он заподозривает достоверность прорицаний Тиресия, обвиняя его в продажности. Если бы он считал его не заслуживающим доверия, то и следующее его пророчество о смерти сына не произвело бы на него впечатления. Нет, он знает, что боги против него, – и все-таки упорствует.
[Закрыть]; подобно народу и они отступились от него. Теперь у него только одна опора: он сам.
С этим жить можно. Как бы только не пошатнулась и эта последняя опора!
Наступает новое испытание, самое страшное изо всех:
Запомни же. Немного вех ристальных
Минуют в горних Солнца бегуны —
И будет отдан отпрыск царской крови
Ответной данью мертвецам – мертвец…
Это значит: за Полиника – Гемон. Что этим доказано? Для того Креонта, который предстал перед нами в первом действии, – ровно ничего. Не он ли сказал в своем манифесте:
Презрения достоин
И тот безумец, кто сильнее блага
Своей отчизны – дружбою пленен.
Итак, пусть он будет последовательным. Узнав, что народ его покинул, он подумал про себя: «Ради народа – против народа!» – узнав же про богов, он продолжал идти напролом: «Ради богов – против богов!» Что же ему мешает шествовать и дальше по тому же пути разума и государственной правды?
То мешает, что он его любит – этого своего непокорного, обреченного сына.
Любит! Да разве место любви там, где повелевает долг государственного человека и царя? Любит! Да ведь это и есть тот «женский» принцип, который связал Антигону с Полиником и Гемона с Антигоной – неужели и он «покорится женщине»?
Нечего делать! Загадочный завет великого деспота нашей жизни как раз теперь, когда он его нарушил, с ужасающей четкостью врезался ему в сердце. Рухнула также и последняя опора; раздавленный непосильным бременем своей правды, он похоронит Полиника, освободит Антигону – и впредь будет помнить, что есть долг крови, что и любовь судит в сонме высших держав и что —
Лучше доживать нам век свой,
Щадя народной совести закон.
Здесь трагедия власти кончена; она кончена тем, что ее носитель в собственном сердце нашел своего врага. Последние сцены служат только пафосу драмы, а не ее идее. Разумеется, Креонт опоздает со своей благочестивой заботой – как опоздал и Гемон, задумавший освободить свою невесту. Он нашел только ее труп – гордая девушка не пожелала дожидаться медленной смерти. И его отец находит у ее трупа исступленного, который тут же бросает ему под ноги свою опостылевшую жизнь. Так-то и второй Креонтид последовал за первым, поглощенный все тем же левиафаном государственной правды. Не вынесла двойного сиротства их мать, безответная царица Евридика; она умерла с проклятием на устах – проклятием против детоубийцы. Правда Эринии заявила себя.
IV
Все ли ясно теперь? И ясно ли, прежде всего, что мы действительно имеем перед собой конфликт двух правд – правды государственного разума и правды личной любви, правды писаного и правды неписаного законов, правды Креонта и правды Антигоны?
«Антигона» принадлежит к наиболее популярным трагедиям древности; помимо ее бесспорных поэтических достоинств, эту популярность следует приписать и тому, что в ней сравнительно меньше тех условностей, которые затрудняют современному человеку доступ к красотам других трагедий. Конечно, наложенный Креонтом на похороны Полиника запрет отдает как будто чем-то устаревшим; но, во-первых, именно только «как будто», а во-вторых, его нетрудно произвести в символы: мало ли нам и теперь приказывается государственной властью не менее нас возмущающего, чем этот запрет сестре хоронить брата!
Скажу более: столько приказывается и столь возмутительного, что наша ненависть к Креонтам наших дней невольно переносится и на их софокловский первообраз – что мы и слышать не хотим о его правде и все наши симпатии отдаем его великодушной противнице, любя в Антигоне всех тех, кто нам дорог своим смелым протестом и свят своим страданием и своей самоотверженной смертью.
И разумеется, я менее всего склонен возражать против этого понимания нашей трагедии; дай Бог, чтобы у нас было как можно больше таких, которые сумели бы так живо чувствовать ее неувядающую силу. К тому же и история креонтовской идеи в далеком и близком прошлом заставляет нас относиться к ней враждебно. Повторю свои давнишние слова: «Антигона, как первая мученица, имеет право соединить свое имя с идеей, которую она освятила своею смертью. В древности она достигла хоть того, что в человеческой мысли окрепло сознание пределов государственной власти и государственного закона; если, согласно определению лучших мыслителей древности, закон есть высший разум (summa ratio), повелевающий делать правильное и запрещающий делать противоположное, – то великая нравственная проблема не была этим решена практически, но были, по крайней мере, пресечены пути к неправильному и безнравственному ее решению. В новые времена и этот успех был потерян; Антигона много и много раз была ведена на смерть, не только на городских площадях и в государственных темницах, но, что еще хуже, – и в тихих умственных лабораториях мыслителей и писателей. И можем ли мы утверждать, что ее мартиролог уже кончился?»
При таких условиях как-то боишься говорить о Креонте и его правде: как бы этим не ослабить симпатий к Антигоне, в которых она именно теперь очень нуждается, – быть может, более чем когда бы то ни было. Уж не правильнее ли, в самом деле, поступают те, которые – подобно последнему немецкому изданию трагедии – не признают никакой правды за Креонтом и характеризуют его самого как мелкого и тщеславного тирана?
Нет, никоим образом – и вот почему.
* * *
В один из самых острых периодов мартиролога Антигоны жил и писал юноша Фридрих Шиллер. Вид ее попираемой правды глубоко возмутил его пылкую душу и внушил ей тот гневный, беспощадный протест, который вылился в его две драмы: «Разбойники» и «Коварство и любовь». Могучая сила его молодой симпатии именно с молодой исключительностью отдалась терзаемой жертве и ее правде; из-за нее он не разглядел правды ее векового противника. В нем он мог признать только отрицательные черты; он его изобразил отовсюду злым – либо отвратительным, как Франца Моора, либо смехотворно злым, как президента с его Кальбами и Вурмами.
Затем – перелом.
Усердное изучение античной трагедии внесло художественную ясность и уравновешенность в мятущуюся душу юного поэта; и как лучший плод этого изучения перед ним предстала та истина, которую наш Н. Минский облек в поэтический (и потому несколько преувеличенный) афоризм:
Нет двух путей добра и зла,
Есть два пути добра.
И, вновь поднимая те же проблемы, он написал свою первую трагедию, навеянную античными образцами, – «Дон-Карлоса». В ней Антигона расщепилась на Карлоса и Позу, в чем не без основания был усмотрен недостаток, но Креонт возродился в едином, внушительном в своей строгой монументальности образе – в образе короля Филиппа. Это уже не Франц Моор, не президент – этот стойкий и справедливый муж, сумевший побороть свое страшное горе и обиду и встретить своего униженного адмирала бодрящим словом ласки и привета. Но крамола растет в его владениях – крамола религиозная, крамола политическая; его царский долг велит ему ее уничтожить всеми мерами устрашающей строгости – вот ради чего горят костры на городских площадях веселой Фландрии и на Пласа Майор его благочестивой столицы:
Народ чумою ереси отравлен,
Растет восстанье в Фландрии моей —
Пора настала. Исступленье кары
Пусть вразумит заблудших. Ту присягу,
Что все цари дают Христовой веры, —
Ее сдержу я завтра. Беспримерна
Суровость будет моего суда.
И когда ему говорят об ужасах его правления, о кроткой мудрости других времен, об отеческом отношении правителя к своим подданным, – он отвечает:
Но никогда, поверь мне, не настанет
Та человечность будущих веков,
Если во мне не хватит силы духа
Принять проклятие моих времен.
И он – государственник, не признающий голоса сердца там, где сказала свое слово государственная мудрость; и он – человек-закон, если не волею народа, как в демократической монархии Софокла, то Божьей милостью. А впрочем, и народной волей – его народ, народ испанский, его признает. И, наконец, еще одну черту разделяет он со своим греческим первообразом – ту, без которой он не был бы трагическим героем. На нее ему там же указывает его смелый собеседник Поза:
Но жаль!
Когда из рук Творца ты человека
Приял, прияв же, превратил его
В рук собственных созданье – ты ошибся
В одном: ты сам остался человеком
Из рук Творца!
В этом зародыш его гибели. События сплетаются у Шиллера сложнее, ясность основной идеи затемнена побочными мотивами и эпизодами, но исход тот же: и Филипп доживает век бедным и бессильным призраком, склонив свою гордую выю под ярмо великого инквизитора.
* * *
Вот как понял и изобразил поэт немецкой свободы, идя по стопам Софокла, правду Креонта – ту правду, против которой он борется всеми силами своей души.
Мне вспоминаются по этому поводу слова Фр. Ницше («Утренняя заря»): «Чтобы измерить природную тонкость или тупость также и самых умных людей, следует обратить внимание на то, как они понимают и передают мнения своих противников: при этом обнаруживается природная мера каждого интеллекта. Совершенный мудрец бессознательно возвышает своего противника до идеальных размеров и делает его оппозицию свободной от всех изъянов и случайностей; и только тогда, когда этот его противник стал богом со сверкающими доспехами – только тогда он вступает с ним в бой».
Так поступил и Софокл, – но только, думается мне, не бессознательно, а вполне сознательно. На это мнение меня наводит одно место из его трагедии – начало слова самого страстного поборника правды Антигоны Гемона, в котором он отвечает на речь своего отца за государство и его разум:
Ах, разум, разум… Да, отец мой, высший
То дар богов для смертных, спору нет;
И что не прав ты – это доказать
Не в силах я – и не хочу быть в силах,
Но и в противном мненье правда есть.
Эти слова для нас обязательны. Следуя указанному пути, и мы, скромные толкователи поэта, должны освободить созданный им героический образ Креонта ото всех изъянов и случайностей, представить его богом со сверкающими доспехами – для того чтобы затем всеми силами своей души бороться с ним и с его правдой.
V. Трагедия чести. «Аянт-биченосец»
I
«…Да, – сказал Симонид, – великое дело честь! В стремлении к ней люди всякий труд берут на себя, ни перед какой опасностью не отступают. И мне думается, что именно этим муж отличается от прочих живых существ – своим стремлением к чести. Ведь в самом деле: еда, питье сон, любовные утехи – всем этим, насколько я понимаю, одинаково наслаждаются все твари; любовь же к чести не врожденна ни бессловесным животным, ни даже всем людям. А те, в кого природа вселила жажду чести и хвалы, – это именно те, которые больше всего возвышаются над животными и заслуживают имени уже не просто людей, а именно “мужей”».
Таковы мысли, развиваемые у Ксенофонта устами поэта и мудреца Симонида в седьмой главе его маленького диалога «Иерон». И нет сомнения, что с ним согласилось бы большинство тех, к которым относится почетное наименование «мужей», уже начиная с древнейших, с гомеровских времен. Тут мы имеет такой пример, рядом с которым блекнут все остальные, – пример самого Ахилла. Дилемму своей жизни он знает из уст своей вещей матери:
Жребий двоякий меня ведет к гробовому пределу.
Если останусь я здесь, пред градом троянским сражаться,
Нет возвращения мне, но слава моя не погибнет;
Если же в дом возвращусь я, в любимую землю родную,
Слава моя погибнет, но будет мой век долголетен.
И все же он не колеблется даже ценою долговечности купить славу. Конечно, не в этом последнее слово «Илиады»; но здесь говорить об этом не приходится, так как ее последнее великое слово, развиваемое Ахиллом 24-й песни, во все времена было недоступно пониманию большинства не только людей, но даже и ксенофонтовских «мужей».
Так было на заре греческой жизни, так было и на закате ее. Как ни опустились Graeculi в римские времена, в одном им даже к эпохе Горация нельзя было отказать:
Греков и творческим духом, и речью изящною муза
Благословила за то, что одной они жаждали чести.
Так говорит про них римский поэт.
Но если честь как таковая во все времена оставалась путеводной звездой греческой жизни, то представление о ней сильно изменилось между эпохой, когда певцы-гомериды пели о витязях троянской войны, и эпохой, когда Зенон и Хрисипп под колоннадами «Пестрой стои» просвещали свою молодежь в духе почерпнутой из природы нравственности. Говоря кратко, мы имеем дело с двумя представлениями, внешним и внутренним, и на рубеже между обоими стоит «трагедия чести».
У Гомера – и в этом ключ к пониманию «Илиады», хотя и не всей, – царит наивное, внешнее представление о чести: честь отождествляется с ее внешними признаками. На этом представлении построена «ссора царей». Почему Агамемнон затрудняется возвратить жрецу Хрису его пленную дочь? Причин у него две. Первая – та, что он любит ее именно как личность, как Хрисеиду. В этой любви он признается всенародно с искренностью грека ахейской эпохи; но ею же он жертвует как царь:
Но соглашаюсь, ее возвращаю, коль требует польза:
Лучше хочу я спасение видеть, чем гибель народа.
Но это только первая причина; вторая – та, что юная пленница была почетным даром царю от войска, была не только (как мы бы сказали) символом оказанной ему соратниками чести, но, согласно только что затронутому конкретному пониманию отвлеченных идей, была в данном случае именно честью Агамемнона. В вопросах чести никакие уступки невозможны, возможна только замена равноценным: Агамемнон поэтому продолжает:
Вы ж мне в сей день замените награду, да в стане аргивском
Я без награды один не останусь: позорно б то было…
Причем следует заметить, что русское слово «награда» лишь очень несовершенно передает греческое слово γῆρας, означающее именно застывшую в осязаемом предмете честь.
И в этом все с царем согласны; если Ахилл ему возражает, то не потому чтобы он считал его представление о чести ошибочным, а потому, что по случайным фактическим условиям требуемое царем возмещение неосуществимо без лишения награды, т. е. чести, другого ахейского вождя. А в отношении чести все равны между собою: это чувствовалось тогда так же, как и во все времена. И не подлежит сомнению, что если бы в эту роковую минуту кто-нибудь, взяв у глашатая посох, обратился бы к Агамемнону с таким словом: «Царь, ты заблуждаешься. Твоя честь нисколько не умалится от того, что ты без возмещения уступишь свой почетный дар старцу Хрису. Она независима от внешних почестей, воздаваемых тебе людьми; уронить свою честь можешь только ты сам своим бесчестным поступком», – то не только Агамемнон и Ахилл, но даже сам мудрый Нестор счел бы его выходцем из другого мира.
А между тем этот другой мир, открывший эллинам другое, внутреннее понимание чести, был уже не очень далек от них в те времена, когда певец-гомерид облекал в форму героической поэмы старинное сказание о ссоре царей. Имеем ли мы право отождествлять этот мир с тем, который завоевал ахейскую Грецию под знаменем религии Аполлона? Время не противоречит этому предположению. И во всяком случае новое учение вполне достойно бога, начертавшего слова: «познай самого себя» (γνῶϑι σεαυτόν) на стене своего дельфийского храма.
Но эти слова были начертаны позднее; в ту эпоху, когда мифотворный дух был еще силен, нравственные учения сами собою стремились облечься в форму мифа, чтобы стать и понятными, и действительными. Мифологема – мать философемы. Надлежало найти героя для новой «трагедии чести», обусловленной конфликтом между старым и новым пониманием. В эти герои Ахилл не годился; он был назначен для других конфликтов, притом таких, перед которыми блекнет наш. Человек, почувствовавший на своей руке поцелуй отца своей жертвы, – такой человек в такой миг должен был перерасти не только внешнее, но даже и внутреннее понимание чести и вознестись в такую сферу, для которой сама честь – лишь преходящий символ.
Нет. Героем нашей трагедии должен был быть человек, все духовное существо которого покрывалось бы понятием воинской чести, который бы весь уходил в нее, не зная кроме нее ничего в мире. Этим обусловливается заодно и некоторая узость взглядов и чувств; но с нашей точки зрения эта черта не испортит ни его, ни любого из паладинов Карла Великого. К этому требованию более или менее подходят несколько витязей «Илиады», но никто в такой степени, как постоянный «оплот ахейцев», сын Теламона – Аянт.
II
Сын Теламона, царя маленького Саламина, и единокровный брат Тевкра – вот все, что знает «Илиада» о происхождении «великого» Аянта. Последующие сказания красноречивее. Сходство Аянта по силе и храбрости с Ахиллом заставило признать в них родственников: Теламон был сделан братом Пелея, отца Ахилла, оба – сыновьями Эака, которого родил сам Зевс от нимфы Эгины и которому он подарил названный по имени его матери пустынный остров, населив его, по просьбе сына, превращенными в людей муравьями-мирмидонцами (= муравлинами). Но почему же ни Пелей, ни Теламон не унаследовали Эгины, а очутились первый – в фессалийской Фтии, второй – на Саламине? Они должны были покинуть Эгину вследствие допущенного в юности убийства: уступая просьбам своей ревнивой матери, они убили третьего, любимого сына своего отца, рожденного ему нереидой. Так-то Теламон стал царем саламинским. В жены он взял некую Эрибею, которую афиняне исторической эпохи, в подкрепление своих прав на Саламин, сделали афинянкой. Некоторое время их брак был бездетным. Но вот Геракл, снаряжая поход против троянского царя Лаомедонта, обратился за содействием к Теламону. Тот пригласил его принести Зевсу возлияние. Угадывая заветное желание своего хозяина, Геракл в молитве к отцу своему Зевсу выпросил для него «смелого сына от Эрибеи». Когда вслед за этой молитвой в небесах появился орел, Геракл принял это знамение за согласие высшего бога и пригласил Теламона назвать обетованного сына по имени орла (греч. αἰετός) Аянтом. Так произошел наш герой. Теламон последовал за своим гостем под Трою (так называемая первая троянская война) и покрыл себя такой славой, что по взятии города Геракл присудил ему первую почетную награду – взятую в плен дочь царя Лаомедонта Гесиону. От этой последней он тоже имел сына, которому он в память о тевкрийском (троянском) происхождении его матери дал имя Тевкра.
Все это, повторяю, позднейшее сказание; для «Илиады» Теламон – простое имя. Впрочем, можно допустить, что происхождение Тевкра было известно творцу «Илиады», так как трудно иначе объяснить его имя. Сам же он сражается как искусный стрелок среди первых героев и выручает своих в трудную минуту, причем его незаконное происхождение ни в его глазах, ни в глазах его товарищей не является клеймом. Совершенно напротив: Агамемнон, благодаря Тевкра, говорит ему:
Тевкр, удалая глава, предводитель мужей Теламо́нид!
Так поражай, и успеешь, и светом ахейцам ты будешь,
Славой отцу Теламону; тебя возлелеял он с детства
И, побочного сына, воспитывал в собственном доме:
Старца, хотя и далекого, славой возвысь благородной.
Вернемся, однако, к Аянту.
Его образ хорошо знаком всем, когда-либо читавшим «Илиаду»:
…Столько могучий, огромный,
Он и главой, и плечами широкими всех перевысил.
Этому росту и силе соответствует – на то мы в Элладе – и красота; но, конечно, красота, подобающая мужу и воину:
Сын Теламона, и видом своим, и своими делами
Всех аргивян превышающий после Пелида-героя.
Его издали можно узнать по характерной части его вооружения – огромному щиту:
…Аянт подходил, пред собою несущий, как башню,
Медный щит семикожный, который художник составил
Тихий, усмарь знаменитейший, в Гиле-обители живший;
Он сей щит сотворил легкодвижный, семь сочетавши
Кож из тучнейших волов и восьмую из меди поверхность.
С этим пережитком древнейшего «микенского» вооружения быстрота бега, конечно, несовместима: нигде Аянт не называется легконогим, подобно Ахиллу. Зато он устойчив и надежен. Его зовут туда, где опасность всего грознее, и без отговорки спешит он на зов, неся «свой щит точно башню», как неизменный «оплот» и «твердыня» для своих. Такова его обычная роль; в частности же выдаются три момента из его воинской жизни под стенами Трои.
* * *
Первый момент – это его поединок с Гектором, описанный в VII песни, красивый именно своей бесцельностью и насквозь пропитанный рыцарским духом. Без особого повода, просто чтобы заполнить остаток дня, Гектор вызывает в бой храбрейшего из ахейцев. Принимают вызов девять лучших бойцов, в том числе Аянт; они бросают жребий; все ахейцы желают, чтобы выбор судьбы пал на Аянта, и их желание исполняется. Радостно признает Аянт свой жребий, но, как человек благочестивый, приглашает своих к молитве:
Други, пока я в рядах боевые доспехи надену,
Вы молитеся Зевсу, могучему Кронову сыну,
Между собою безмолвно, да вас не услышат трояне;
Или молитеся громко, мы никого не страшимся.
Этот последний стих, в котором воинская гордость борется с благочестием, свидетельствует об особой черте в характере Аянта, которую позднейшая поэзия усердно развила; не мешает запомнить ее уже и теперь.
Перед поединком бойцы обмениваются учтивыми, хотя и самоуверенными речами; затем они вступают в бой. Победа, видимо, благоприятствует Аянту, но до решения наступает ночь; глашатаи ахейский и троянский, исполняющие здесь обязанности секундантов, разнимают бойцов, протягивая скипетры между ними:
Кончите, дети любезные, кончите брань и сраженье.
Оба вы равно любезны гонителю облаков Зевсу,
Оба храбрейшие воины.
Аянт великодушно предоставляет решение Гектору, как вызвавшему его. Гектор в лестной для противника речи соглашается с предложением вестников и прибавляет от себя:
Почтим мы друг друга дарами на память.
Некогда пусть говорят и Трои сыны, и Эллады:
Бились герои, пылая враждой, пожирающей сердце,
Но разлучились они, примиренные дружбой взаимной.
И они обмениваются дарами: Гектор дарит Аянту «меч среброгвоздый», Аянт Гектору – пурпуровый пояс… Позднее поэты-эпигоны этим обоюдным дарам приписали символическое значение, о котором вряд ли мечтал певец нашей радостной и рыцарской песни.
С этим они расстаются. Агамемнон, гордый успехом Аянта, устраивает в его честь торжественный пир:
Никто не нуждался на пиршестве общем;
Но Аянта-героя особо хребтом бесконечным
Царь Агамемнон почтил, повелитель ахеян державный.
Таков этот первый момент; и, право, приятно почить взором на нем. Повсюду здесь разлита атмосфера чести – бескорыстной, не приправленной никакими посторонними расчетами. И покоится этот ореол чести всецело на челе Аянта. Почтенный своим храбрым противником Гектором, с которым он связал себя дружбой и обменом даров, почтенный своим вождем Агамемноном, от которого он за общей трапезой получил сугубое угощение, почтенный, наконец, богами, даровавшими ему превосходство в бою, он – поистине центр всеобщей почтительной любви. С трудом верится, что этот тот самый Аянт, который некогда в «трагедии чести» должен будет сказать про себя:
Явно ненавистен
Богам я стал; враждебно мне все войско,
Враждебна Троя и земля кругом…
Но мы еще не кончили с Аянтом «Илиады».
Второй момент его чести – это его посольство к гневному Ахиллу, вместе с Одиссеем и (по нашей «Илиаде») со старым воспитателем Ахилла Фениксом, описанное в IX песни. Красиво здесь оттеняется одним их сопоставлением различный характер обоих оплотов ахейской рати, Одиссея и Аянта, объединенных общею целью. Одиссей говорит первый; его речь длинна, искусно построена и психологически превосходно рассчитана. Ничего подобного не видим мы у Аянта. Его речь – искренний вопль, вырвавшийся из честного, бесхитростного сердца. Для него Ахилл – просто воин, отказывающийся помочь своим товарищам в стесненном их положении. Конечно, к соображениям чести и он чувствителен, и даже очень; но – отождествляя и здесь честь с ее внешними признаками – он полагает, что Ахилл получил полное удовлетворение за то оскорбление, которое было ему нанесено уведением его пленницы, и не понимает, как он может продолжать гневаться —
Ради единой
Девы! Но семь их тебе превосходнейших мы предлагаем,
Много даров и других!
Вообще нас здесь поражает его замечательное добродушие, столь хорошо идущее к богатырской силе, – то самое добродушие, которое его заставляет в каждую данную минуту беспрекословно приходить на помощь своим. Именно с этой точки зрения он осуждает непримиримость Ахилла, который, по его словам:
Дикую в сердце вложил, за предел выходящую гордость!
Смертный суровый! В ничто поставляет и дружбу он ближних,
Дружбу, какою мы в стане его отличали пред всеми.
Позднейшая поэзия и эту черту изменила, наделяя Аянта тою же гордостью, которую он здесь осуждает.
Третий из решающих моментов – это участие Аянта в сражении у кораблей, описанное в XV и XVI песнях. Это была самая тяжелая для ахейцев минута. Все их укрепления были взяты, они были оттеснены к кораблям, разрушение которых повело бы за собою их собственную гибель. Лучшие герои: Агамемнон, Диомед, Одиссей – были ранены; один только Аянт оставался оплотом своих. И вот он стоит на корме корабля, у которого происходит бой, с длинным копьем в руке и поражает им каждого, кто с огнем подходит к кораблю. Двенадцать троян он таким образом убил; но Гектору удалось ловким ударом меча отсечь острие его копья.
Далеко от Аянта
Острая медь отлетела и о землю звякнула павши.
Сын Теламона познал по невольному трепету сердца
Дело богов и, поняв, что его все замыслы брани
Зевс громоносный ничтожит, даруя троянцам победу,
Он отступил.
И здесь, наконец, благодаря вмешательству Патрокла, наступает поворот. Так-то до последней минуты Аянт был оплотом своих.
Таков Аянт «Илиады». Настоящее олицетворение героической чести, грозный в бою и добродушный в мире, любящий своих товарищей и любимый ими, не знающий тех страстей, которые волнуют грудь Ахилла, он, кажется, самой судьбой предназначен к тому, чтобы – если Арес его пощадит – мирно состариться среди своих покрытым лаврами неувядающей славы.
Перейдем, однако, от «Илиады» к «Одиссее», этой поэме примирения, где с таким искусством сообщены сведения об исходе жизни героев троянской войны. И здесь мы находим нашего Аянта, но в преисподней. Его душу встречает там Одиссей; и как он ее встречает? Обрадовался ли Аянт своему старому соратнику, которому он спас жизнь на «мостах войны» между рвом и Скамандром, с которым вместе он ублажал разгневанного Ахилла? Нет:
Душа Теламонова сына Аянта
Молча стояла вдали, одинокая, все на победу
Злобясь мою, мне отдавшую в стане аргивян доспехи
Сына Пелеева. Лучшему между вождей повелела
Дать их Фетида; судили трояне – их суд им Афина
Тайно внушила. Зачем, о зачем одержал я победу,
Мужа такого низведшую в недра земные? Погиб он,
Бодрый Аянт, и лица красотою и подвигов славой
После великого сына Пелеева всех превзошедший.
Тщетно старается Одиссей лаской, полной искреннего раскаянья речью вновь расположить к себе почившего товарища: молчаливой и непримиренной уходит душа Аянта к сонму прочих душ, под мрачные своды Эреба.
Отчего же так изменился добрый и сильный Аянт, оплот ахейцев? Что произошло в промежуток времени, отделяющий «Илиаду» от «Одиссеи»?
Произошла – «трагедия чести».
* * *
В чем она состояла – это отчасти можно извлечь из намеков в выписанных выше стихах «Одиссеи». После смерти Ахилла его мать Фетида предложила ахейским вождям состязание из-за его доспехов – золотых доспехов работы самого бога-кузнеца Гефеста. «Лучший» после Ахилла герой должен был их получить. На основании – это не сразу понятно – суда троян, внушенного Афиной, их получил не Аянт, а Одиссей. Это поражение свело в могилу Аянта.
События между «Илиадой», т. е. похоронами Гектора, и «Одиссеей», т. е. возвращением Одиссея в Итаку, были содержанием поэм так называемого эпического цикла. Эти поэмы нам не сохранены; но их содержание в общих чертах известно благодаря тому, что их эксцерпировал в неизвестное с точностью время грамматик Прокл в своей «хрестоматии». Мы видим, что эти эпосы составляли одну непрерывную цепь, но всё же не примыкали друг к другу так, чтобы следующему начинаться там, где кончался предшествующий, а отчасти своими концами покрывали друг друга. Так, спор о доспехах Ахилла и последовавшая за ним смерть Аянта были рассказаны в конце первого из продолжавших «Илиаду» эпосов, «Эфиопиды», и в начале второго, «Малой Илиады». Рассказаны они были не одинаково. Скажем более: разница между «Эфиопидой» и «Малой Илиадой» настолько велика, что – предполагая сознательность второго поэта – пришлось бы ту знаменательную грань между внешним и внутренним пониманием чести, о которой была речь выше, провести как раз между обеими киклическими поэмами.
Что касается прежде всего рассказа «Эфиопиды», то мы восстановляем его, кроме тощего эксцерпта Прокла, еще из схолиастов на выписанные выше стихи «Одиссеи». Получается следующее. Когда Ахилл был убит стрелою Париса, из-за его трупа загорелась жестокая битва между ахейцами и троянами. Все же он был спасен Аянтом и Одиссеем, причем Аянт на своих руках его вынес из сражения, а Одиссей тем временем, рубясь с неприятелем, прикрывал отступление Аянта к своим. На похороны Ахилла явилась его божественная мать Фетида с музами; почтив его смерть торжественным плачем, она объявила ахейцам, что предоставляет его чудесные доспехи «лучшему» из их среды. Указать такового могло только собрание ахейцев – точнее, ахейских вождей. Соперниками выступили двое – те самые, которые спасли труп убитого: Аянт и Одиссей. Они в особой речи каждый обосновали свои права (знаменитый на всю античность «спор о доспехах»). Мнения вождей раздвоились. Тогда Агамемнон предложил спросить троянских пленников, который из обоих соперников причинил их родине больше вреда. По внушению Афины трояне назвали Одиссея. Соответственно этому приговору вожди присудили доспехи ему. Страшным гневом сверкнули тут глаза Аянта. Подалирий, сын Асклепия, заметил это и понял, что он замышляет недоброе. И действительно, не успела ночь пройти, как Аянт умертвил себя собственной рукой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.