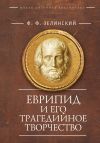Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 33 страниц)
III
Ее читатель обыкновенно приступает к ее чтению после «Царя Эдипа»; между тем наша трагедия, не связанная со своей предшественницей по фабуле трилогическим единством, имеет свои предпосылки, которые необходимо твердо помнить.
«Царь Эдип» в его первоначальной редакции кончался добровольным изгнанием Эдипа непосредственно по раскрытии ужасов. «Эдип в Колоне» сохранил этот мотив в виде рудимента: да, в своем тогдашнем отчаянии Эдип хотел отправиться в изгнание, но тогда ему воспрепятствовали. Он продолжал жить в своем доме, хотя и слепцом; бешеные нравственные боли улеглись, он примирился со своей участью – и тогда только, много лет после его самоослепления, постановление граждан отправляет его в изгнание.
Но как и почему оно состоялось, это постановление граждан? Действительно, в этом эпизоде столько для нас чуждого и в то же время решающего для понимания действия, что мы должны на нем несколько остановиться.
Мы исходим при этом из понятия, противоположного тому, которое мы признали центральным для нашей трагедии, – из понятия скверны (μίασμα ἄγoς). Что такое скверна? Это, по первоначальному анимистическому представлению, всякая подверженность человека мстительной и вредоносной душе умершего или убитого. Оскверняет уже простое прикосновение к трупу; сугубо оскверняет убийство, пролитие крови ближнего; но страшнее всего скверна, которую человек навлекает на себя убийством родственника, пролитием родной крови. От всякой скверны можно очиститься – Аполлон тем и велик, что указал пути этого очищения, – но от этой всего труднее. Мало-помалу, по мере развития из первобытного анимизма более совершенных религиозных форм, самосуд разгневанных душ уступает свое место (или хоть часть его) Эринии или божьему гневу: оскверненный делается ненавистным богам и от них ждет себе кары.
Но скверна не ограничивается личностью оскверненного; она аналогична заразе, которая, вероятно, не осталась без влияния на учение о ней. Только в среде ближайших родственников оскверненный терпим; они своим родством, так сказать, импрегнированы против зловредного действия его скверны. Оскверненный отцеубийством Эдип мог поэтому оставаться в своем прежнем доме, которым теперь управляют его сыновья, под условием, чтобы этот дом был частным домом. Но дело тотчас приняло бы другой оборот, если бы его хозяева стали государями страны, если бы очаг сыновей Эдипа превратился в государственный очаг. Тогда и нависшая над слепцом скверна тотчас распространилась бы на весь город.
Отсюда – дилемма, представшая перед сыновьями Эдипа по достижении ими совершеннолетия. Долг сыновнего почтения понимался строго в героической Греции и исключений не допускал: сыновья Эдипа были обязаны «кормить» у себя своего оскверненного отца; а так как это было несовместимо с положением царей, то о царской власти нечего было и мечтать. Это даже не было жертвой: это разумелось само собой. И столь велика была нравственная сила этой заповеди сыновнего почтения, что они вначале ей подчинились:
Сначала в рвенье праведном Креонту
Они престол хотели уступить,
Спасая град от пагубы старинной,
Что твой несчастный обуяла род.
Но приманка власти чем далее, тем более давала себя чувствовать; настал день, когда окончательно перевесила другая чашка весов. Сыновья Эдипа пожелали унаследовать скипетр своего отца; их очаг стал государственным очагом, а при таковом оскверненный не был допустим. Тогда-то и состоялось постановление, которым был изгнан Эдип. Вот почему он говорит про своих сыновей:
Милей отца престол им царский был!
И когда он, вспоминая о тех же сыновьях, с горечью жалуется:
Решеньем запоздалым
Меня народ насильственно изгнал,
Они ж, родные дети, не хотели
Помочь отцу; пустого слова ради
Они скитаньям обрекли меня, —
то мы должны понимать: ради пустого слова «власть».
Замечательна во всем этом деле роль Креонта. Она вообще в нашей трагедии не очень выигрышна; тем более следует подчеркнуть поразительное беспристрастие, безупречную корректность этого человека в отношении своих родственников. Новое решение сыновей Эдипа лишает его власти; ему так легко было бы ему противодействовать, ссылаясь на долг сыновнего почтения. Но нет: их требование законно – и он не только ему беспрекословно подчиняется, он даже проводит в народном собрании постановление об изгнании Эдипа. Нет, он и здесь тот же, что и в «Царе Эдипе» – и, прибавим, что в «Антигоне»: воплощение гражданского долга. Обстановка делает его симпатичным или несимпатичным, но его душа не меняется; можно вспомнить о Гагене из «Песни о Нибелунгах», этом воплощении древнегерманской Mannentreu: в них много общего. Но вернемся к постановлению об изгнании Эдипа и его последствиям.
Узнав об этом постановлении, причиною, которого он справедливо считал властолюбие своих сыновей, Эдип их проклял: да не насладятся они этой властью, ради которой они обрекли его на изгнание, да погибнут они из-за нее. Это проклятие не было новшеством Софокла: его знала уже «Фиваида», и Эсхил сделал его главным рычагом своих «Семи вождей». Изменен был лишь наивный повод, данный эпосом: не за символическое оскорбление – менее почетную часть жертвенного животного, – а за кровавую обиду карает Эдип своих обидчиков.
Но все же он их карает, и притом жестоко; приличествует ли это будущему носителю благодати? Откладываем пока ответ на этот вопрос, ограничиваясь повторением нашего заявления, что святость и благость не покрывают друг друга.
А затем – изгнание. Его сопровождают туда две утешительницы, одна – видимая, другая – невидимая и никому кроме него неизвестная.
Невидимая – это заповедь Аполлона… Я уже раз сказал: поэт счел себя вправе в этой своей трагедии отчасти изменить предпосылки, на которых основана фабула его «Царя Эдипа». Там дельфийский оракул, данный Эдипу, гласит кратко и грозно:
Что с матерью преступное общенье
Мне предстоит, что с ней детей рожу я
На отвращенье смертным племенам
И что я кровь пролью отца родного.
Этот оракул был всецело собственностью Софокла; тем более счел он себя вправе в своей новой трагедии его дополнить в соответствии с ее нуждами. А именно вот как:
Он сам в тот день неслыханных гаданий
От долгих мук мне отдых предвещал.
«В предельный край, – так молвил он, придешь ты,
Богинь Почтенных утомленный гость;
Там склон настанет горемычной жизни,
И будешь ты приявшим – благостыней,
Изгнавшим же – нещадною грозой.
А знаменьем признаешь необманным
Земли внезапный трепет, грома гул
Иль пламень ясный Зевсовой зарницы».
Прошу обратить внимание на подчеркнутые слова: не одно только упокоение обещает Феб Эдипу в роще Евменид – он в ней обретет и благодать, ту самую «подземную благодать», о которой мы все время говорим. Правда, и то и другое обусловлено одним требованием, которое мы извлекаем не столько из выписанных слов поэта, сколько из всей обстановки трагедии: в роще Евменид Эдип должен очутиться случайно, безо всякого умысла со своей стороны. Это и само по себе разумно – иначе Эдип мог бы очень скоро сам кончить свои скитания – и соответствует той беотийской традиции о погребении Эдипа в Этеоне, которую мы выше привели. И здесь и там Эдип случайно оказывается в священной ограде: там благодаря мраку ночи, здесь благодаря мраку своих очей. Этот случай – проявление божьей воли, а не человеческих расчетов.
Таков оракул, данный Эдипу – давно-давно, в пору его смелой, радостной юности. За ним последовало многое – убийство отца, женитьба на матери, пятнадцатилетний счастливый брак, раскрытие ужасов, самоослепление, горестная жизнь в оскверненном доме, наконец, – неблагодарность сыновей и изгнание. Тогда он вспомнил о путеводной звезде, воссиявшей для него в Дельфах, о предельной стране и роще Евменид, об упокоении и благодати.
Такова невидимая утешительница. Видимой была его великодушная дочь Антигона. О ней распространяться нечего: всем знаком этот дивный образ, один из самых величественных и трогательных в поэзии всего человечества, – образ слепого старца-отца, ведомого своей молодой дочерью.
* * *
Сцена нашей драмы – Колон. Он и в историческую эпоху остался вне городской стены, воздвигнутой Фемистоклом; в героическую же это было отдельное местечко, подчиненное, однако, афинскому царю. Время пополуденное; а впрочем, никому не советуем заниматься в нашей трагедии установлением времени дня. Указанная примета – единственная: после нее время останавливается и о нем более не говорят и не думают.
Со стороны чужбины являются двое – Эдип и Антигона. Эдип устал – и не диво:
Старческой стопою
Измерил путь ты долгий, мой отец, —
говорит ему дочь. Надо подумать о ночлеге. Город виден издали; это – Афины, как можно судить по указаниям встречных путников; но как звать село? Надо спросить местных жителей; сделает это, конечно, Антигона, а отец пока пусть ждет. Она находит для него под тенью деревьев удобное сиденье из живого камня; усадив его, она готова отправиться на разведки.
Ее предупреждает, однако, приход незнакомца – одного из колонских жителей, как оказывается впоследствии. Чужие люди привлекли его внимание; прерывая приветственные слова Эдипа, он приказывает ему немедленно оставить рощу, в которой он находится. Она священна и недоступна для человеческой стопы:
Богини ужаса витают здесь,
Земли и Мрака грозные исчадья:
Их Евменидами зовет народ наш.
К удивлению незнакомца, Эдип на его слова отвечает благодарной молитвой: он признал «знаменье своей судьбы».
Его странное и в то же время решительное поведение внушает незнакомцу невольное почтение; да и так видно, что пришелец, несмотря на его рубище, не обыкновенный нищий. Он не решается увести его силой из заповедной рощи. Там, в селе, есть дом для бесед (лесха), в котором обычно проводят время свободные от работы по хозяйству местные старцы. Им он хочет доложить о деле, а Эдип тем временем пусть ждет.
Вот завязка драмы – а заодно и развязка. Примета исполнилась; чего же более? Уж конечно, против Аполлонова слова никто не пойдет. Будь наша трагедия только человеческой трагедией судьбы Эдипа – она была бы кончена с первых же сцен. Но нет, мы знаем: перед нами трагедия благодати. А о ней не было речи до сих пор.
Впервые заводит о ней речь сам Эдип. Оставшись с дочерью наедине, он обращается с новой горячей молитвой благодарности к приютившим его богиням и при этом вспоминает оракул, некогда данный ему Фебом. Читатель не забыл его решающих слов:
И будешь ты приявшим – благостыней,
Изгнавшим же – нещадною грозой.
Примут его афиняне, изгнали фиванцы; итак, его тело, покоясь в аттической земле, будет оберегать ее от всякого вражеского вторжения со стороны ее западных соседей фиванцев. В этом сущность дарованной ему благодати; но за что же она ему дарована? Это явствует уже из связи мыслей в самом оракуле; это еще яснее слышится в собственных словах Эдипа:
Коль стал достоин милости я вашей,
Испив до дна страдания фиал.
* * *
Все же следующая сцена принадлежит еще противоположному мотиву – мотиву скверны. Старинный невольный грех должен еще раз во весь рост подняться перед нами; в этом конечном конфликте между его мраком и зарей новой благодати – сущность нашей трагедии.
Оповещенные тем незнакомцем селяне приходят; они заранее настроены против «ненасытного гостя», которому мало всех других мест, мирских и священных, предоставленных гостеприимной Аттикой пребыванию пришельцев. Но они успокаиваются, видя, что он слеп. Итак, предумышленного святотатства не было; но внешним образом грех все-таки остается грехом. Пусть же странник прежде всего покинет заповедную обитель; об очищении можно будет позаботиться потом. Эдип не без опаски повинуется: ведь святыня была ему убежищем, в ней он был неприкосновенен:
Чужестранцы! Не будет вреда мне от вас,
Если сень я покину, доверившись вам?
Но его успокаивают:
Против воли твоей не посмеет никто
Увести вас из нашей отчизны.
Тогда он оставляет убежище, занимает разрешенное ему селянами место – и тотчас слышит новый вопрос, вопрос неизбежный: кто ты, чей сын, откуда? Страшно Эдипу отвечать – еще страшнее селянам узнать ответ… Нам кажется, мы слышим еще во взволнованных ритмах этой сцены тревогу гостя и ужас хозяев. Нет, такой скверны допустить нельзя: тут и данное слово недействительно. Они были обмануты, не подозревая в своем госте такого грешника:
Нет, нашу землю покинуть обязан ты,
Чтоб не обрушилось
На нас проклятье бога.
Что же выставляет Эдип против этой боязни скверны? Благодать? Не сразу. Мы наблюдаем и в самой религии Аполлона постепенный переход от внешнего к внутреннему пониманию чистоты и скверны. Для рассуждающего внешним образом Эдип, как отцеубийца и кровосмеситель, несомненно, носитель скверны; но именно против этого внешнего понимания и восстает здесь Софокл. Нет греха там, где нет вины; а значит, нет и скверны. Это раз. Затем, ведь Эдип был «просителем» их родных богинь; допустимо ли пренебрежение святостью гикесии? Это два главных соображения; лишь напоследок упоминает молящий и об осеняющей его благодати – в кратких, загадочных выражениях:
Я освящен и просветлен страданьем,
И счастлив будет мой приход для вас.
Мы теперь слишком склонны читать такие места равнодушно, в крайнем случае относясь к ним с эстетической точки зрения. На деле же они представляют огромную этическую ценность. Им греческая религия и этика обязаны тем, что они не погрязли в фарисейских практиках внешней чистоты, что в них был выдвинут внутренний элемент, – чем дальше, тем больше, – каковое развитие дало в своем конечном итоге эллино-христианскую религию и этику любви. Кто это будет помнить, тот с удвоенным интересом прочтет эту чудную просительскую речь Эдипа.
Своей цели он достигает, по крайней мере, наполовину: упорство селян поколеблено, они согласны сдать всё на решение царя. Важность дела – дела, касающегося религии, – не дозволяет сомневаться, что этот царь – Тезей – придет не медля.
Время до его прихода заполняется сценой, дающей дальнейшее развитие мотиву благодати. До сих пор Эдип считал себя ее носителем на основании своих человеческих, хотя и основанных на божьем слове, соображений. Теперь эти соображения получают свое подтверждение и освящение свыше. Является вторая дочь Эдипа, Исмена. Как она отца нашла – это относится к тем подробностям закулисной мотивировки, о которых античная трагедия не распространяется; как бы то ни было, она здесь и благодаря ей Эдип вновь вступает в общение с тем живым миром своей родины, от которого его отрезало изгнание.
Случилось вот что.
Двоевластие обоих братьев продолжалось недолго. Старший из них, Полиник, пожелал править один, основываясь на своем праве первородства. Тогда младший, Этеокл, заручившись тайно сочувствием граждан, провозгласил царем себя и приказал лишенному престола брату отправиться в изгнание. Полиник удалился в Аргос, женился на дочери его царя Адраста и теперь, сильный его помощью, ведет против своей родины союзную рать – рать Семи вождей, как ее принято называть.
Таков рассказ Исмены; она кончает его испытующими словами:
И как… твоим страданьям отдых
Богов готовит милость – не пойму.
Эти слова возбуждают внимание старца: что может знать его дочь об этом отдыхе, условия которого Аполлон возвестил ему одному? Оказывается, дельфийский бог издал новое пророчество, касающееся Эдипа: его тело – живое или мертвое – будет залогом победы и благополучия для тех, у которых оно будет находиться. Это – несомненное подтверждение слов древнего вещания:
И будешь ты приявшим – благостыней.
Изгнавшим же – нещадною грозой.
Оно сбывается, значит; намеченный Аполлоном некогда срок просветления и величия для Эдипа настал.
Настал, да; но после скольких страданий! Память о них вливает несколько капель горечи в чашу благодати:
Эдип. Теперь я муж, когда ничем уж стал я!
Исмена. Теперь поднять тебя желают боги,
А раньше гнев их в гибель влек тебя.
Эдип. Младым низвергли – старцем поднимают!
В этих словах – отреченье. Сильный милостью богов, Эдип мог бы вновь занять почетное положение в своей родине, соответствующее блеску его молодости; но нет, этого не будет.
А впрочем, в этих словах слышится еще одна нотка, поражающая нас у старца Эдипа и, пожалуй, еще более у старца Софокла: нотка антитеистическая, нотка протеста против произвола свыше. Она быстро умолкает; все же она прозвучала и оставила память о себе. Да, конечно; пусть исполнится божья воля. Правда смолчит; но все же не без последнего стона.
Но рассказ Исмены еще не кончен: новое пророчество, став известным в Фивах, столкнулось с тем прежним, на основании которого было постановлено изгнать Эдипа. С одной стороны, ему – живому или мертвому, все равно – нельзя оставаться в фиванской стране, пока в ней правит его род; а с другой стороны, его присутствие в стране доставило бы ей победу. Из этой дилеммы два выхода: один подсказан любовью, другой – властолюбием. «Пожертвуйте своей царской властью и примите в ваш дом вашего богами почтенного отца» – так гласит первый выход. Сыновья Эдипа его отвергают – из властолюбия. Остается второй; он сложнее.
Пограничные столбы обозначали пределы возделанной земли, а с ней пределы государства; горные пастбища никому не принадлежат. И фиванский, и коринфский пастух вместе пасут свои стада на верхних полянах Киферона. Тот же Киферон в своем дальнейшем протяжении образует границу между аттической и беотийской землями. Это значит: у западного подножья начинается Беотия, у восточного – Аттика. Сама гора свободна.
И вот новый план фиванцев. Нельзя принять Эдипа в пределы фиванской земли и этим обеспечить себе победу; но можно, по крайней мере, не допустить, чтобы им и связанной с ним победой овладели другие. Для этого следует поместить его живого за пределами страны – где-нибудь на Кифероне, значит, и там же похоронить… И так велика любовь Эдипа к своей родной земле, что он даже на это пошел бы, лишь бы могила ему была насыпана из фиванской земли. Но нет, мнительность его сограждан даже этого не допускает. Тогда только он отказывает им наотрез.
Сцена с Исменой возвеличила Эдипа и в его глазах, и в глазах присутствовавших при разговоре селян. Теперь они уже не думают о его удалении; конечно, решит дело окончательно царь, но пока что они за него. И вот они дают ему те советы, которых всякий античный человек уже давно ждал – с того самого момента как Эдип по настоянию селян оставил заповедную рощу: советы о том, как ему очиститься от невольного греха перед Евменидами, в недоступную ограду которых он нечаянно вступил. Обряд описывается подробно – и мы понимаем, что старому поэту было приятно увековечить таким образом священный обычай своей родины. Для нас это целиком – интересная бытовая картинка из религиозной жизни древней Греции; но две черты заслуживают нашего особого внимания.
Средства очищения – за сценой, в другой части рощи. Сам Эдип, слепой и утомленный, туда не пойдет; он посылает вместо себя дочь свою Исмену:
Суть не в числе: одной души довольно,
Когда любовь в ней теплится святая.
Мы признаем здесь то же стремление, что и выше: подчеркнуть, взамен самодовлеющей внешности обряда, внутреннее участие сердца, поставить религию и нравственность любви на место старинной религии и нравственности чистоты.
Вторая черта нам более чужда, но вчувствоваться можно и в нее. Жертвоприношение Эриниям совершается, как только что было сказано, за сценой; но даже и не видя его, действующие лица и зрители должны в нем участвовать. Всеобщее внимание обращено на них, жестоких мучительниц Эдипа. Теперь они будут примирены; но перед этим примирением их гнев должен еще раз предстать перед нами. И вот в то время, когда Исмена льет предписанные струи в подземный «очаг» и сонм страшных богинь, вызванный ее молитвой, приподнимает завесы тартаровой мглы, их дела проходят еще раз перед зрителями – идеальными в орхестре и реальными в театре: мы слышим мучительную исповедь Эдипа в своих невольных грехах. Исповедь! Как-то странно звучит в этой античной обстановке это христианское слово; а все-таки мы не находим лучшего для обозначения и оправдания этой тягостной сцены. Еще раз, сопровождаемый мрачной музыкой, разливается старинный мотив скверны; еще раз вспыхивает багровое пламя; затем оно угасает навсегда. Когда, по исполнении священного обряда, к участвующим явится Тезей, перед ним будет очищенный и оправданный Эдип.
* * *
Действительно, эта первая сцена Тезея с Эдипом интересна прежде всего одной отрицательной чертой: в ней совсем не говорится об Эдиповой скверне. Единственный намек на нее быстро устраняется; по всему видно, она окончательно отошла в прошлое. Конечно, это можно приписать большей просвещенности гуманного царя в сравнении с традиционализмом колонских селян; но как бы то ни было, для настроения зрителей по отношению к Эдипу важно, что его исповедь стоит гранью межу Эдипом – носителем скверны и Эдипом – носителем благодати. Отныне перед нами исключительно последний. Когда мотив скверны еще раздастся, он раздастся из уст врага и все присутствующие отнесутся к его воскрешению как к своего рода кощунству.
Нет, Эдип сознает себя избранником божьей милости, когда он на вопрос Тезея о причине его появления говорит ему:
Пришел я с даром: собственное тело
Несчастное тебе принес я. Знаю,
Что не роскошен с виду этот дар:
Не красотою важен он, а силой.
Эта сила должна проявиться в защите аттической земли от западных недругов – беотийцев. Пусть они попытаются перейти с враждебной целью границу Киферона; сильнее многотысячной рати отразит их нападение незримый мистический ток, исходящий из могилы их бывшего царя, вселяя беспричинный ужас в ряды их войск:
И вот тогда струя их жаркой крови
Мой хладный прах в могиле утолит,
Коль Зевсом Зевс и вещим Феб остался.
Это для нас – самое подробное во всей трагедии место для понимания той особой благодати, которой милость богов окружила ветхое тело некогда гонимого ими царя. Читателю-христианину полезно будет при этом припомнить аналогичные легенды новых времен – защиту Новгорода от суздальской рати, защиту Ясной Горы от шведов, – чтобы убедиться в силе преемственности, соединяющей древний, «языческий» мир с христианским.
И Тезей с полным доверием относится к обещаниям своего гостя: он ему и кунак, и проситель, но важнее всего тот дар, который он предлагает земле. Тезей называет его собственным его именем:
Твою приемлю
Я благодать: живи в стране моей.
Но это пока только религиозно-нравственное значение сцены; есть в ней и драматургическое, есть и политическое.
Что касается первого, то действие было приведено в движение, как помнит читатель, запретным вступлением Эдипа в ограду Евменид. Вместо того чтобы покинуть ее по приглашению незнакомца, Эдип поставил себя под защиту ее богинь. Этим был введен в трагедию очень популярный в Греции мотив: мотив «гикесии». Он бывает иногда центральным мотивом драмы: таковы «Просительницы» Эсхила, «Просительницы» и «Гераклиды» Еврипида. В этих трех трагедиях даже развитие параллельно: религиозный долг велит принять тех, которые прибегли к заступничеству Зевса Гикесия; но царь должен радеть о безопасности своей общины, а ей в случае принятия грозит вражда могущественных гонителей. Тем не менее голос религиозного долга после некоторых колебаний побеждает: Зевс не оставит тех, кто благочестиво и мужественно исполняет его заповедь. В этом конфликте между волей Зевса и угрозами врагов и заключается драматическая пружина всех этих «трагедий гикесии».
Наша вначале носит другой характер: религиозный долг усугублен наличностью осеняющей просителя благодати и угроза врагов на первых порах отсутствует. Задерживающим элементом является боязнь скверны; но мы уже видели, как эта боязнь, вначале очень действительная, мало-помалу утихает. Зато вместо нее является другая, и ее приносит та же Исмена, которая своим рассказом о пророчестве Аполлона рассеяла ту прежнюю. Внезапно сознанная ценность Эдипа поведет к тому, что обе воюющие стороны постараются заручиться его особой; наиболее реальной признает Исмена опасность, угрожающую Эдипу и его покровителям со стороны Фив и их представителя, безгранично преданного царскому роду Креонта. Внесением этой реальной опасности наша трагедия введена в обычное русло «трагедий гикесии». Тезей, покорный голосу религии и нравственности, обещает Эдипу свою помощь, не страшась никаких угроз; затем мы ждем осуществления этих угроз со стороны надменного молодого царя фиванского и его посланца Креонта; а затем, в случае неудачи этого нападения, должна последовать попытка и со стороны Полиника, о характере которой мы пока еще догадываться не можем. Таково, согласно вести Исмены, развитие действия в дальнейшем.
Прежде чем перейти к нему, отметим вкратце и политический интерес нашей сцены. Раз задачей Эдиповой тени было охранять Аттику от вторжения соседей – без политики нельзя было обойтись: а единственным серьезным соседом полуостровной Аттики были фиванцы (точнее – беотийцы), так как маленькая Мегара в счет не шла. Таким образом, вся трагедия получала антифиванскую тенденцию. К началу пелопоннесской войны это было вполне естественно: фиванцы были на стороне Спарты, они разрушили преданные Афинам Платеи и немало досаждали аттической земле своими разбойничьими набегами. Но к концу той же войны отношения изменились: после решительного перевеса Спарты, обусловленного неудачей афинской экспедиции в Сицилию и занятием спартанцами Декилеи в самом сердце Аттики, ревнивые к сохранению политического равновесия Фивы перенесли свои симпатии на сторону Афин. Здесь нашла себе в 403 г. опору афинская демократия с Фрасибулом во главе для похода против тирании Тридцати – всего каких-нибудь 3–4 года после возникновения нашей трагедии. Отсюда очень заметная симпатия нашего поэта к Фивам. Тезею не верится, чтобы его добрососедские отношения к Фивам могли когда-нибудь измениться, и сам Эдип обосновывает эту возможность только преходящестью всех человеческих отношений, давая в то же время понять, что и предстоящая вражда уступит место новой дружбе. Напомним заодно, что и в дальнейшем Эдип, обрушиваясь на Креонта, очень заметно старается выгородить Фивы. Такие интересные с точки зрения актуальности черты следует отмечать, раз они есть; а впрочем, особого влияния на ход драмы они не имеют.
* * *
Теперь, когда ход действия намечен и зритель знает, чего ему ждать, может наступить кратковременный отдых… Соображение это – чисто драматургическое; психологическая убедительность, казалось бы, требовала бы другого. Тезей оставил Эдипа на попечении колонцев; пусть же они уведут его с дочерьми к себе в село, дадут ему помещение в какой-нибудь избе – как это представил, например, Эсхил в конце своих «Просительниц», – тем более что и время ведь вечернее. Но нет, мы уже знаем: времени для нашей трагедии нет, оно остановилось с первого же момента вторжения потустороннего мира, т. е. со вступления Эдипа в ограду богинь преисподней. И этой ограды он более не покинет: здесь ему обещан покой.
«А знаменьем признаешь необманным
Земли внезапный трепет, грома гул
Иль пламень ясный Зевсовой зарницы».
Вот этого-то знаменья он ждет – и зритель ждет его вместе с ним и ничуть не удивлен поэтому, что Эдип и не думает оставлять обители Евменид.
Итак, сказали мы, отдых – и заполнение отдыха, хорическая песнь. Это – знаменитый гимн в честь Колона, родины поэта, особенно уместный теперь, когда этот Колон после царского приказа стал также второй родиной самого героя. Где знаменитость, там зачастую и разочарование; постараемся предупредить его.
Начало гимна нам очень даже по душе; воспевается красота колонской природы, вполне доступная нашему пониманию и чувству. Боюсь, однако, что у многих современных читателей вместе с появлением «кроткого бога» интерес к нашему гимну отхлынет: мы еще понимаем – да и то не все, – когда красота природы учит поэта видеть «Бога на небесах», но вряд ли кто-нибудь согласен признавать бога в ней самой, в священном мраке дубравы, в зеленом шуме ее листвы. Но все-таки, быть может, тот или другой читатель припомнит, как он, будучи ребенком, тайно от взрослых, умиленный ласковым шепотом березы, в детском экстазе целовал ее белый ствол. И быть может, он не очень удивится, узнав, что он тогда, сам того не сознавая, целовал Диониса, бога приливающих сил весны и ее восторга.
Пусть это – чувства; объективность, однако, требует признать их наличность у античного человека, для которого природа еще не была обез божена. И чем говорить об «аппарате богов», о «псевдоклассицизме» – лучше поставить себе вопрос, не было ли это чувство благоговения перед обожествленной природой глубже, полнее, богаче того, которое мы испытываем ныне в подобных случаях.
Продолжаем антистрофой. Здесь – то же обожествление природы. Нарцисс, как он ни красив сам по себе, освящается в сознании поэта воспоминанием о том, что он был любимым цветком элевсинских богинь, из которого они некогда охотно плели себе венки, пока похищение одной из них Аидом не положило конца этому веселью. И все же эта религиозная картинка не мешает поэту припомнить, что те ручейки, на берегах которых эти нарциссы цветут, отведены от русла Кефиса согласно искусной системе орошения, с давних пор существовавшей в Аттике. Мимоходом он воздает благодарную память своим покровительницам Музам, почтившим своими дарами его колонский дом, а заодно и Афродите. Почему последней? Было ли ей воздвигнуто в Колоне капище, о котором нам не сохранилось известий? Или же девяностолетний поэт и здесь мечтает о собственной жизни, готовый на вопрос любопытных ответить своими знаменитыми двусмысленными словами: «Мила ведь Феорида»?
Но все же главная гордость Колона – та, что он был предместьем славных Афин, из-за которых некогда вступили в спор боги, Афина и Посидон. Оба обласкали возлюбленный город своими дарами: Афина даровала ему маслину, Посидон – коня и в то же время судоходство. Маслина богини-покровительницы – знаменитая «всесогбенная маслина» Акрополя – считалась матерью всех старых маслин в равнине Кефиса, священных «морий», т. е. «деревьев судьбы», за неприкосновенностью которых следило око Зевса в небесах и око Ареопага на земле; даже спартанский царь Архидам, опустошая Аттику своими набегами в первые годы пелопоннесской войны, не решился коснуться покровительствуемых Афиной деревьев. Даром же Посидона, конем, особенно гордились обыватели «Колона-Наездника», как они охотно называли своего героя-основателя. Вот мысли и чувства, толпившиеся в уме поэта, когда он вспоминал о красе и славе «богозданных Афин»; переходя к ним, он оставляет легкокрылые стихи первой части гимна; торжественнее и возбужденнее размеры второй пары строф:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.