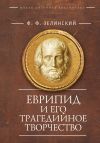Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 33 страниц)
III
Переходя теперь окончательно к анализу и оценке Софокловой трагедии, я должен напомнить, что она по содержанию соответствовала средней драме Эсхиловой трилогии. То же отношение к предшественнику мы имеем и в «Электре» и в «Царе Эдипе», не говоря уже об утраченных произведениях Софокла. Оно представляло для поэта то удобство, что он мог предполагать известным своим зрителям все действие, предшествовавшее его драме, и поэтому не распространяться о нем. Насколько важно было это удобство, станет ясным, если сравнить любую из названных драм с «Трахинянками» и вспомнить, какую массу эпического материала пришлось поэту вставить в свою трагедию там. Для нас зачастую удобство поэта превращается в неудобство – там, где драма, дававшая предшествовавшее действие, нам не сохранена; но здесь, говоря правду, это неудобство не особенно ощутительно.
Итак, суд о доспехах Ахилла предполагается известным зрителям; судьями были ахейские вожди, председателями – Атриды. Именно Атриды, оба они, Агамемнон и Менелай; историческое двоевластие в Спарте склоняло трагических поэтов к тому, чтобы и этих двух братьев героической эпохи ставить почти что в один ряд, вопреки Гомеру, для которого Менелай безусловно подчинен Агамемнону и является одним из «геронтов», членов его царского совета, наравне с Диомедом и прочими. Что заставило судей отдать предпочтение Одиссею – об этом поэт не распространяется; ни о троянских пленниках, ни о троянских девушках у него не говорится. И конечно, это неважно. Судили все-таки вожди; что при голосовании произошли некоторые неправильности, в которых можно было винить Менелая, – на это в трагедии имеется намек, для нас не особенно вразумительный.
Одиссей победил; а так как в дальнейшем построении фабулы наш поэт уже не следует Эсхилу, то он нас о нем извещает тщательно. Побежденный Аянт впал в глубокое раздумье, несколько дней не показывался на глаза ни вождям, ни даже ближайшим своим товарищам-саламинцам. Все время его ум сверлила одна мысль – мысль цепкая, неотвязчивая: как бы вновь добыть потерянную внешнюю честь. Все неизбежнее представлялся ему один исход: беспощадная расправа. Если бы ему перебить своих врагов, – а их много: все, кто причинили обиду, все, кто содействовали, все, кто служили, все, кто не мешали, – Одиссей, Атриды, все вожди, все ахейцы. Ярче и ярче развертывалась картина мести, гуще и гуще ложился багровый туман вокруг больной души Аянта. Наконец он не устоял против соблазна: темной ночью он поднялся с постели, схватил свой меч – тот самый, который он некогда, в самый светлый день своей жизни, получил в дар от Гектора. Дороги не видно в багровом тумане: будучи уже вблизи шатров обоих полководцев, он внезапно сворачивает в сторону, мчится на выгон, где мирно спали быки, бараны и их пастухи; принимая их за своих врагов, он их отчасти убивает, отчасти связывает и пленными уводит в свою палатку…
Впрочем, мы здесь выразились рационалистически: наш поэт смотрел на дело иначе, и современный читатель должен учесть эту его особенность. Софокл был врачом, но врачом догиппократовской медицины; в безумии он видел «божью болезнь». Кто же наслал на Аянта эту болезнь? Очевидно, та богиня, которая более всех пеклась о греческом войске и особенно о главном предмете Аянтовой вражды Одиссее, – Афина. А затем – для Софокла, самого «гомерического» из трагических поэтов, действителен тот же закон «двойного зрения», что и для творца «Илиады». Все события имеют двойную причину, земную и небесную, причем небесная причинность существует параллельно с земной, которая вполне себе довлеет и сама по себе достаточно объясняет происходящее. Земная причинность – та, которую мы развивали до сих пор; небесная сводится к гневу Афины против Аянта и к его поводам, о которых речь впереди.
От произведенной Аянтом резни уцелел один свидетель; признав Аянта, он бросился к палаткам полководцев рассказать о случившемся.
Наскоро созывается царский совет; для всех и без того ясно, что только уединившийся в зловещем раздумье Аянт мог быть виновником безумного дела, а показания очевидца их еще более в этом убеждают. Всё же требуются доказательства. Одиссей берется их доставить; отправившись на выгон, он внимательно при неверном свете предрассветной поры изучает направление следов виновника – и эти следы приводят его к Аянтовой палатке.
Здесь начинается действие нашей трагедии.
* * *
Одиссею, которого следы Аянта уже почти довели до его палатки, является Афина: точнее говоря, он слышит ее голос, не видя ее самой. И здесь мы имеем гомеровскую материализацию психологического процесса. Мы могли бы сказать: Одиссей принимает возникшую у него как результат его ночной работы уверенность в виновности Аянта за внушение самой богини. Но для Софокла Афина была реальным существом; а раз она есть, он имел право воспользоваться ею и для другой цели. Она предлагает Одиссею показать ему врага воочию. Одиссею это предложение не по душе: к естественному ужасу, который всем внушает близость безумного человека, присоединяется и характерное именно для Одиссея благородное сострадание к падшему врагу, и читатель не преминет запомнить его прекрасный ответ на испытующий вопрос богини:
Афина. Смех над врагом – не всех ли он отрадней?
Одиссей. Не для меня; оставь его в палатке!
Но Афина настаивает на своем: безумный Аянт является на ее зов с бичом в руке, тем самым, которым он истязал своих мнимых врагов внутри палатки. Происходит сцена, надолго оставшаяся в памяти у греков и доставившая всей трагедии Софокла отличительное наименование «Аянта-биченосца». Аянту Афина является воочию; в своем безумном экстазе он видит то, что скрыто от взора обыкновенного смертного. Так точно ведь и обезумевший Орест в «Хоэфорах» Эсхила видит воочию своих мучительниц Эриний, которых не видят прочие люди. И для Аянта Афина была Эринией, хотя он этого и не признает: напротив, он исполнен благодарности к своей «союзнице». Союзнице! От зрителя не должна была ускользнуть трагическая ирония этой иллюзии. Когда-то она действительно – как валькирия битвы – была ему союзницей и он в своем гордом самомнении отверг ее союз; теперь, в безумной ночной расправе, она вела его на гибель, а он чувствует себя душевно обязанным и благодарным ей. Здесь двойная религиозно-нравственная наука. Первая может быть выражена словами хора из «Антигоны»:
Благодать во зле мы видим,
Когда ослепленный ум
В гибель бог ввергает.
Вторая, особенно знаменательная для религиозной морали греков, – словами Дария из «Персов» Эсхила:
Если сам ты зло замыслил – бог поможет в нем тебе.
Она в связи с исконно греческим убеждением в независимости нравственного закона от богов. Человек должен сам знать путь добра и следовать ему: тогда бог благословит его. Если же он добровольно избрал вместо него путь зла, бог и тут будет ему содействовать, чтобы сделать его гибель тяжелее, быстрее, внушительнее. Так и здесь. Аянт должен был собрать все силы своего духа, прежде чем вступить на ту роковую стезю, на которой он потерял свою истинную честь; но раз он дал себя увлечь жажде мести, богиня не только не удерживала его, а напротив:
Властным манием своим все глубже
В сеть бедствия безумца завлекала.
Все это представлялось уму зрителя этой потрясающей сцены; но более всего – общая картина преходящести и тщеты человеческих дел в сравнении с алмазной несокрушимостью тех высших сил, которым они подвластны:
Все мы,
Все, что землею вскормлены, не боле
Как легкий призрак и пустая тень.
Так настроен и Одиссей. Он не зачитывает своему врагу тех бешеных угроз, которые он в своем безумии произносил против него; не потому, что этот враг невменяем – он и в здравом уме не будет ласковее, – а потому, что возвышенной душе Одиссея все эти уколы личной вражды кажутся мелочными в сравнении с общечеловеческою участью, отразившейся перед его глазами на судьбе Аянта, каким он был и каким он стал.
Таково содержание и нравоучение пролога.
В нем нас более всего пленяет его герой Одиссей. Не часто встречаем мы в античной трагедии такой образ – образ человека, стоящего душою выше волнующих трагедию страстей, человека, с которым зритель невольно роднит самого себя, потому что видит в нем не только опыт жизни, но и то, что только у сильных характеров является плодом этого опыта, – истинную, просветленную доброту. И тут нам приятно удостоверить, что наш поэт почерпнул и этот свой образ из той же сокровищницы, из которой он так любил черпать. Благородное отношение Одиссея к Аянту было предуказано Софоклу Гомером в той упомянутой уже нами патетической сцене «Одиссеи», где спустившийся в преисподнюю герой встречает среди других душ и Аянта, ласково заговаривает с ним, но не получает ответа от застывшего в своей непримиримости врага.
Такие характеры, как Одиссей, в драматургическом отношении как нельзя лучше приспособлены, чтобы служить, если можно так выразиться, рамкой для разыгрывающегося в трагедии действия. Теперь мы с ним прощаемся, и надолго; весь пафос драмы развернется без него и помимо его. Но мы чувствуем его позади событий; мы знаем, что он тут и что он явится разрешить задачу, когда она станет неразрешимой для замешанных в ней лиц.
* * *
После пролога довольно продолжительная пауза. Чем она была заполнена на сцене античного театра, мы не знаем; быть может, ничем. Но предполагается происходящим многое. Там, в палатке, Аянт медленно приходит в себя: из-за багрового тумана все яснее и яснее выплывает безотрадная действительность, сладострастие безумной мести сменяется свинцовым гнетом неизгладимого позора:
Тут с криком бешеным главу свою
Ударил он и грохнулся меж трупов
Зарезанных баранов и быков —
Развалиной среди развалин мести.
Быстрее движутся события в ахейском стане. Одиссей принес своим товарищам два известия: первое, что виновником резни был действительно Аянт, как они и подозревали; второе, что истинным смыслом его безумного деяния было не причинение войску материального ущерба уничтожением его добычи, а – как его научила богиня и доказали подслушанные речи самого Аянта – убийство своих товарищей по оружию. Только это второе известие и является действительной новостью для вой ска; а так как именно оно и возбуждает против Аянта, живого и мертвого, ярость ахейцев и их вождей, то можно спросить, почему Одиссей, раз он питал сострадание к Аянту, не умолчал о нем – ведь без него оно так и осталось бы тайной. Прямого ответа на этот вопрос мы не получаем: античная трагедия оставляет много таких пробелов в закулисных мотивировках, но обыкновенно дает нам возможность их заполнить. И вот мне думается, что Одиссей сообщил всему войску лишь первое известие – виновность Аянта в избиении стад не могла быть скрыта; второе же известие он, по долгу вестника совета, сообщил лишь последнему. Это видно из того, что воины хора, являясь к Аянту из ахейского стана, знают только про первое известие и никак не могут объяснить себе его; напротив, Менелай и Агамемнон отлично осведомлены также и о сокровенном замысле Аянта. Но, конечно, мало-помалу истина должна была просочиться и до остальных ратников, тем более что Атриды вовсе не были заинтересованы в том, чтобы хранить ее в тайне. Всеобщая злоба против Тевкра, о которой повествует вестник, именно тем и вызвана, что его брат Аянт считается «изменником», пытавшимся перерезать все войско.
Как бы то ни было, но явившиеся с восходом солнца саламинские воины-моряки, ратники Аянта, слышали только о первом известии. Они и его склонны приписать клевете… и нам приятно вспомнить, что «Аянт» был написан при жизни великого друга нашего поэта Перикла, которому столько пришлось выстрадать от зависти своих мелких, но мстительных врагов. При таких условиях получают особое значение прекрасные слова, которые поэт вложил в уста своему хору:
Да, в великую душу нетрудно стрелять:
Промахнуться нельзя…
О, безумная чернь! Без великих мужей
Ненадежным оплотом ты б стала в бою.
Лишь под сенью великого малый цветет,
Лишь от малых великий могуч и силен;
Но не внемлет глупец в ослепленье своем
Благомыслящей мудрости слову.
Они уверены, что Аянт одним своим появлением может рассеять все наветы. Но его нет; все в палатке глухо молчит. Неужели враги говорили правду? Если да, то только безумию – или, что одно и то же, наваждению разгневанного бога – можно приписать столь безрассудное деяние. Что это за бог? Артемида-Тавропола или Эниалий, бог брани и ее исступления? Нет, пусть лучше безотрадная весть окажется клеветой! Ах, если бы только Аянт явился к ним!
Но нет, он упорствует: вместо него к преданным друзьям саламинского вождя выходит женщина – Текмесса. Она для Аянта то же, что Брисеида для Ахилла: его пленница-подруга. Для нас она впервые встречается здесь; знал ли ее Эсхил – этого мы, при скудости наших сведений о его «Фракиянках», сказать не можем. Она была дочерью одного из фригийских князей, Телевтанта; его город был разрушен Аянтом в одном из многочисленных набегов, которые предпринимались ахейцами ради необходимой добычи во время долголетней осады Трои. Это было давно, лет пять-шесть тому назад; с тех пор она успела привязаться к своему повелителю и полюбить его трогательной, преданной любовью греческой женщины. Она родила ему и сына, получившего в честь огромного щита своего отца имя Еврисака («Широкощита»), и заняла в доме Аянта почетное место почти что супруги. Вообще любопытно, как в этой трагедии прославляются незаконные с гражданской точки зрения, но основанные на природе и на любви отношения: незаконный брат Тевкр, незаконная жена Текмесса, незаконный сын Еврисак – и притом столько нежности и самоотвержения… Опять вспоминается Перикл: его незаконная жена Аспасия, его незаконный сын Перикл Младший.
Итак, к хору выходит Текмесса. Из обмена известий между нею и хором восстанавливаются во всем своем неутешительном объеме события истекшей ночи: бедствие оказывается гораздо больше, чем предполагал хор. Аянт уже не только виновник безрассудной резни на выгоне: он изменник, покусившийся на жизнь своих товарищей по оружию, и его, несомненно, ждет кара изменников – побитие камнями. Одна светлая точка во всем этом мраке: Аянт прозрел. Правда, для любящей Текмессы и в этом утешения мало: он пришел в себя, но зато он понял всю глубину позора, который он на себя навлек. Все же хор жадно хватается за эту единственную надежду: возгласы Аянта, сначала бессвязные, затем всё более и более осмысленные, убеждают его, что его вождь действительно стряхнул с себя туман безумия. Хор требует, чтобы Текмесса открыла дверь, скрывающую от него Аянта.
И вот первое после потери чести свидание Аянта со своими товарищами. Античный поэт чувствовал бессилие слова для передачи таких сцен: то обилие чувства, которое они вызывали, он вложил в напевы – нам же от них остались одни только размеры. В лирической сцене изображается вся сила горя:
Вот, смотрите все: вот бесстрашный муж,
В яростных боях богатырь лихой!
Стал овец грозой беззащитных он!
О, смейтесь, смейтесь! Нет конца позору!
Это нравственное самоистязание Аянта чередуется с бешеными угрозами, тщетность которых он сам сознает, и особенно со все более и более возрастающей жаждой смерти. Ее он сначала просит у своих товарищей, но это только остаток прежней беспомощности; просьбы своей он не повторит, но самый образ великой избавительницы все сильнее и неотвязчивее его преследует. Он видит в уме свой курган у Сигейского мыса над колыбелью волн:
Шумный моря вал, круч нависших мрак,
Высь зеленая!
Давно, давно гостем вашим здесь,
Давно под Троей я;
Гостем и впредь буду у вас,
Но не живым уж боле, нет.
Но этот прибой нахлынувших чувств – последняя слабость Аянта; ему удается с ней совладать. Он собирает свои мысли, чтобы неопровержимо доказать себе и другим, что для него нет другого исхода, кроме добровольной смерти. Его речь связна, последовательность его мыслей неумолима. Он сопоставляет себя со своим отцом, вспоминает о славном для Теламона первом походе против Трои; такой же славой и он мог себя покрыть, все ему благоприятствовало – и что же? Обесчещенный товарищами, он еще более сам себя обесчестил. Итак, что делать? На родину к отцу нет возврата – позор не пускает. Искать смерти в бою? Это было бы на руку его врагам в собственном стане. Нет; нужно хоть для отца вновь добыть потерянную честь, а для этого средство одно:
Прекрасно жить иль умереть прекрасно —
Вот благородства путь. Я всё сказал.
Всё, в самом деле? С точки зрения чести – да. Но в том-то и заключается трагизм этого чувства, что оно, будучи непреоборимо по своей силе, захватывает в сущности очень небольшую по объему область жизни. А тут рядом с Аянтом есть некто, в ком именно эта не захваченная честью область жизни нашла свое самое полное выражение; это – Текмесса. Вечный, раздирающий конфликт: здесь – честь, там – любовь.
Устами Текмессы говорит любовь. Любовь не ее только одной, все, любящие Аянта, все, имеющие право на его любовь, через нее обращают к Аянту свои мольбы, и лишь в качестве последней – она сама:
Да, вспомни и меня. Достойно мужа
Лелеять память об усладе нежной:
Ведь от любви рождается любовь.
А кто забвением за ласку платит,
Тому неведом благородства путь.
«Благородства путь»… этими словами она оканчивает свое обращение, с явным и намеренным намеком на заключительные слова Аянта. Итак, понятие благородства не покрывается понятием чести? Можно во всем следовать пути чести, и все-таки уклониться от пути благородства? Вопрос только ставится – не Аянту на него ответить; не без умысла скажет он к концу сцены:
Пора ученья для меня прошла.
Любовь вступила в пленительный союз с жизнью; Аянт последует за честью в лоно смерти.
Все же он не остается бесчувственным к словам своей подруги, хотя и скрывает свое отношение под маской напускной суровости; он подумает и о правах любви, но лишь постольку, поскольку это ему дозволит честь. Он требует к себе своего малютку-сына; чего он хочет от него? Он говорит это сам:
Его увидеть и благословить.
Перед нами второй трогательный контраст нашей трагедии: суровый до жесткости отец-воин и его дитя. И эту сцену мы уже имели в греческой поэзии: всякий зритель Софокла вспоминал о прощании Гектора с маленьким сыном Астианактом и понимал естественную зависимость трагика как дань почтения родоначальнику античной поэзии вообще. Действительно, различие перевешивает сходство. Любимец богов Гектор доверчиво поручает своим покровителям драгоценнейшее сокровище своей жизни:
Зевс и бессмертные боги! О, сотворите, да будет
Сей мой возлюбленный сын, как и я, знаменит среди граждан!
Мятежный Аянт за ним не последует; недаром говорит он про себя в другом месте:
Богам я не должник. Запомни это.
Свое благословение он обращает непосредственно к сыну, вполне уверенный, что предсмертные слова отца будут ему переданы в свое время. Звучит оно гордо:
Мой сын, счастливей будь отца, но в прочем
Ему подобен – и дурным не будешь.
Приличествует ли обесчещенному такая гордость? При данной обстановке – да. Всегда понятие чести в своем последовательном развитии ведет к признанию догмата, что бесчестие смывается добровольной смертью, что «мертвые срама не имут». Именно твердое и неуклонное решение последовать зову чести в обитель смерти дает Аянту право говорить с сыном так, как он говорит. Пусть он своей смертью лишает сына многих выгод жизни; зато он ему оставит не запятнанное позором имя. И Аянт знает, что для его сына это самое драгоценное наследие. А впрочем, как уже было сказано, он заботится по возможности и о выгодах жизни. Своего сына он оставляет на попечение своего брата Тевкра, столь же преданного, сколь и мужественного человека; выросши под его крылом, Еврисак станет кормильцем и заступником и своих дедов, и своей матери. Это – все, что он может сделать для них.
Теперь бремя жизни сложено; остается принять смерть. Аянт запирается в своей палатке; действие кончено, наступает жуткая, томительная пауза.
* * *
В следующей хорической песни, заполняющей антракт, мы имеем дело с одной условностью античной драмы. С тех пор как хор перестал быть носителем действия трагедии, его песни стали к этому действию в более внешние отношения. Чаще всего они были лирическим преображением какого-нибудь момента предыдущего действия, но не обязательно последнего момента. В нашем случае Аянт предстал перед нами в трех моментах: 1) как безумный – в первом разговоре Текмессы и хора; 2) как обесчещенный – в лирической сцене и 3) как готовящийся умереть – в последнем диалоге. Казалось бы естественным, чтобы хор в своих размышлениях остановился на последнем моменте, под впечатлением которого находится зритель; на деле же поэт избрал первый. Лирические размышления хора имеют своим предметом безумие Аянта, в действии уже прошедшее. Это, если угодно, нарушение драматической последовательности; оно встречается у Софокла редко, но все же встречается. Так и в первом стасиме «Царя Эдипа» первые пары строф имеют точкой исхода неизвестность, кто бы мог быть убийцею Лаия, несмотря на то, что непосредственно перед тем Тиресий совершенно определенно этого убийцу назвал. В этих строфах мы имеем, таким образом, лирическое преображение того настроения, в котором находился хор до прихода Тиресия.
Также и здесь мы должны перенестись душою обратно к тому моменту, когда хор получил уверенность в безумии Аянта. С этой оговоркой наша песнь – прекрасная думка, плач ратников-товарищей о своем обезумевшем вожде.
Тем временем внутри палатки продолжается действие – но глухо, безгласно, в одинокой душе героя. Сначала, под влиянием первой слабости, он просил у товарищей смерти; теперь он знает, что ему не только придется принять ее от собственной руки, но даже против воли окружающих – они все заодно с любовью и жизнью, все в заговоре против него. Надо обмануть их дружелюбную бдительность. И вот Аянт, этот прямодушный, бесхитростный Аянт, никогда никого в жизни не обманывавший, решается один раз – в первый и последний раз – прибегнуть к этому не свойственному его природе средству, чтобы добыть себе свободу смерти.
Неожиданно для всех он выходит к своим ратникам – спокойный, ласковый. Правда, меч в его руках может внушить беспокойство, но он его тотчас рассеивает: это – тот самый проклятый меч, который он некогда получил в дар от ненавистного врага, Гектора… Нам тут не без боли припоминается светлая страница из «Илиады», поединок обоих героев и обмен дарами:
Бились герои, пылая враждой, пожирающей сердце,
Но разлучились они, примиренные дружбой взаимной.
Куда девались эти ясные, рыцарские чувства!.. Но как бы там ни было, не на счастье получил Аянт от врага этот подарок; он хочет зарыть поглубже в землю орудие своего позора, хочет очиститься от гнева преследующих его богов и принести им умилостивительную жертву, с тем чтобы впредь ласковее относиться к властителям, и небесным, и земным. Его речь полна недомолвок и двусмысленностей: но от Аянта никто не подозревает обмана – даже тогда, когда он прощается со своими в следующих зловещих словах:
Простите. В путь отправлюсь неизбежный.
Вы ж воле следуйте моей – и скоро
Услышите, взамен гнетущих бедствий,
Благую весть спасенья моего.
Нужна ли была эта сцена притворства? Если рассуждать трезво и сухо – нет. Если бы Аянт хотел только освободиться от ненавистной жизни, он мог бы это сделать в любую минуту, воспользовавшись первым утомлением заботливого внимания Текмессы. Так, думаю, поступил бы современный, духовно обнищавший человек; не мог так поступить человек античной религиозности, благоговевший, подобно Аянту, если не перед властителями Олимпа, то перед богом в собственной душе. Не как вор хотел он похитить дар желанной смерти: задуманное им самоубийство должно было поистине быть очистительной и умилостивительной жертвой на алтаре чести, а свидетелями этой жертвы должны были быть те живые силы природы, о которых он вспоминал тогда, когда его ум впервые взлелеял мысль о добровольной смерти:
Шумный моря вал, круч нависших мрак,
Высь зеленая…
Вот цель этой маленькой интриги – по крайней мере, цель психологическая. Драматургическое же ее значение в том, что она ведет к столь излюбленной нашим поэтом перипетии.
Слово своего вождя, никогда не говорившего неправды, ратники принимают на веру. Их радость тем сильнее, чем она неожиданнее; они призывают божества радости: Пана, Аполлона, Зевса – благословить этот поворот к лучшему в душе Аянта; о настроении войска, об опасности со стороны вождей они не думают.
Но нам нельзя о ней не подумать; в самом деле, как объяснить, что предвиденная и хором, и самим Аянтом кара – побитие камнями – не наступает, что никто Аянта не трогает? Это относится к тем подробностям закулисной мотивировки, о которых мы говорили выше; и здесь поэт прямого ответа не дает, но все же он позаботился о том, чтобы мы могли его дать сами. Как видно из следующей сцены, во время приготовления Аянта к добровольной смерти заседал царский совет. Понятно, что событие, подобное происшедшему, обсуждалось длительно и всесторонне; если большинство вождей было настроено против Аянта, то, несомненно, раздавались голоса и в его пользу – самого Одиссея, Калханта, вероятно и Нестора. Безусловно враждебно было настроено войско, как видно из встречи, устроенной им Тевкру; но естественно, что оно, толпясь у палатки Агамемнона, выжидало решения царского совета.
Об этой встрече и рассказывает в следующей сцене вестник – дружинник Тевкра. Последний, по приказу вождей, был отправлен в соседнюю Мисию за добычей: теперь он вернулся, ничего не подозревая о случившемся, и едва не сделался жертвой всеобщей злобы против его брата. Старцы совета спасли его жизнь; Калхант успел шепнуть ему слово, наполнившее его страхом за участь Аянта; не имея возможности прийти сам – надо полагать, что его задержали дела по только что оконченной экспедиции, – он выслал вперед дружинника со строгим приказом позаботиться, чтобы Аянт до его прихода ни под каким видом не был выпущен из палатки.
И здесь опять в действие нашей трагедии вторгается тот гомеровский «закон двойного зрения», о котором речь была выше. Самоубийство Аянта имело свою естественную, психологическую мотивировку, и поэт дал ее полностью; но, кроме этой самодовлеющей земной причинности, он допускал, как мы видели, и параллельную небесную. Самоубийство Аянта было допущено богами, стало быть, было результатом их воли. Его следовало рассматривать как кару, наложенную на гордого героя оскорбленной им Афиной. Знает об этой небесной мотивировке, конечно, только тот, кому вообще ведомы небесные тайны, – прорицатель Калхант. И вот он сообщает то, что знает: гнев Афины – его причину мы отчасти объяснили выше – преследует Аянта в течение этого дня, но не долее; если Аянт его переживет, он будет спасен. Итак, необходимо всячески уберечь его на этот день, не оставляя его ни на минуту одного.
Нечего распространяться о том, что нас эта небесная мотивировка не удовлетворяет – даже независимо от ненужной жестокости, которую она приписывает Афине. Но это касается «закона двойного зрения» вообще. Агамемнон оскорбил Ахилла; разгневанный герой отказывает ему в своем содействии, и ахейцы терпят поражение. Это земная мотивировка, вполне удовлетворительная. Но певец «Илиады» ею не довольствуется. Оскорбленный Агамемноном Ахилл обращается к своей матери Фетиде за заступничеством; Фетида, напоминая Зевсу о своих заслугах перед ним, упрашивает его отказать ахейцам в победе до тех пор, пока Ахилл не получит удовлетворения. Это – небесная мотивировка, портящая на наш вкус впечатление земной. Но именно поэтому-то и следует помнить, что небесная причинность не разрывает земной, а витает над ней, в силу какого-то физико-метафизического параллелизма; мы можем ее устранить, ничуть не нарушая психологической обоснованности происходящих на земле событий.
То же самое и здесь. Правда, мы ничуть не ручаемся за то, что, приди Тевкр часом раньше, – он заставил бы Аянта отказаться от его решения покончить с собою; более чем вероятно, что думающий только о восстановлении своей чести герой устоял бы против убеждения братской любви так же, как он устоял против нежности подруги и преданности дружины. Но зато несомненно, что, найдя брата мертвым, Тевкр первым делом должен был подумать или почувствовать: «Ах, зачем я опоздал, зачем его выпустили до моего прибытия!» А эта идея сама собою должна была вылиться в следующую религиозную форму: с прибытием Тевкра гнев Афины перестал бы преследовать Аянта.
Но нет: Тевкр опоздал. Хор вынужден сознаться, что Аянт уже покинул палатку. Его радость, радость Текмессы сменяется тревожным предчувствием почти неизбежного горя. Во всяком случае, необходимо разыскать Аянта. Все уходят в различные стороны; сцена пуста.
* * *
Данный момент трагедии интересен прежде всего в драматургическом отношении. Как известно, античная трагедия признавала требование единства места – не в силу теоретических соображений, а потому, что при наличности хора, постоянного свидетеля действия, перемена места была невозможна. В тех случаях, когда перемена места представляется необходимой, поэту приходится под тем или иным предлогом удалять хор. Понятно, что это происходит крайне редко.
Здесь один из этих редких случаев – в сохранившихся трагедиях Софокла единственный. Поэт дорожил возможностью представить нам воочию самоубийство Аянта именно потому, что он видел в нем очистительную и умилостивительную жертву на алтаре чести, что эта честь стоит у него в центре происходящих событий. Отсюда – перемена места и удаление хора. Перед нами пустынный морской берег; на нем – Аянт перед своим мечом, угрожающе направленным против него из земли, в которую прочно зарыта его рукоятка; кругом – никого.
Жертва может свершиться. С людьми Аянт уже простился; остались боги. Правда, «богам он не должник», мы это уже знаем. К властелинам судьбы он при жизни относился недоверчиво, уповая только на себя и на свою силу; и теперь перед смертью его обращение к ним не будет многословным:
Ныне ж
К тебе, о Зевс, – так долг велит – я с первой
Молитвой обращусь, простой и скромной:
Пусть о моей кончине весть лихую
Узнает Тевкр; пусть первый он меня
С меча поднимет средь горячей крови.
Не дай, чтоб враг меня, увидев раньше,
Добычей бросил воронам и псам.
Вот вся моя к тебе молитва, Зевс.
Внезапно и безотчетно возникающая у человека уверенность приписывалась греками внушению богов – и преимущественно тех, чьи очи всё обозревают. Таким считался еще, кроме Зевса, и Гелий. И к нему Аянт обращается с молитвой:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.