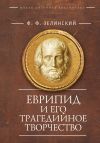Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 33 страниц)
III
И вот, наконец, – «Антигона» Софокла.
Ее читателю полезно прежде всего помнить, что, будучи поставлена десятилетием раньше «Царя Эдипа» и тридцатипятилетием раньше «Эдипа в Колоне», она имела иные предпосылки, чем эти две драмы, и зато те же, что и «Фиваида» и «Аргиада» Эсхила. Наша Антигона не сопровождала отца в его изгнание – не сопровождала потому, что он вовсе не был изгнан. Он умер, правда, жалкою смертью, но в Фивах и там же похоронен; так представил дело Эсхил («Семь вождей»), и Софокл не имел повода это изменить. Антигона исполнила долг верной дочери по отношению к умершему отцу так же, как и по отношению к умершей матери: она их собственными руками омыла и убрала и принесла установленные возлияния на их могилу.
А затем – Аластор продолжал свое дело.
Да, и этого демона наш поэт, не называя его по имени, заимствовал из трагедий своего предшественника. Ссора братьев из-за власти, изгнание старшего, его нечестивый поход против родины, поединок, взаимоубийство. Теперь из рода Лабдакидов остались только две сестры – Антигона и Исмена; детей обоих братьев Софокл в этой трагедии не знает. Они понадобятся ему только позднее, для его «Эпигонов».
И вот взор Аластора, не насыщенный пролитой кровью, обращается теперь на этих сестер и прежде всего на старшую, на Антигону…
Впрочем, мы не должны преувеличивать. Аластор действительно существует в нашей трагедии, но скорее для хора, чем для нас; существует в силу своего рода двойного зрения – как гнев Афины в «Аянте», прибавляя метафизическую мотивировку к самодовлеющей естественной.
Этеокл умер, сражаясь за отечество; Полиник – сражаясь против него. Смерть их сравняла. Сравняет ли Аид? Нет, если этому воспрепятствовать. По живучим традициям старинного анимизма судьба тела имеет влияние на судьбу души. Пусть же тело героя будет предано земле со всей подобающей честью, чтобы его душа вошла возвеличенной в подземную обитель; и пусть тело предателя будет предоставлено псам и птицам, дабы его обесчещенная душа скиталась по бездонным пропастям Аида, нигде не находя себе успокоения. Так повелел Креонт.
Почему именно Креонт?
У Эсхила, как мы видели, приказ исходит от совета старейшин как естественного представителя власти в последовавшее за смертью последнего царя Лабдакида междуцарствие; но Эсхил и не задавался целью изобразить трагедию власти. Поэт этой последней нуждался в единоличном герое как носителе центральной идеи; отсюда изменение Эсхиловой традиции. Эта традиция кое-где еще виднеется в качестве рудимента; так Исмена говорит Антигоне (переводя буквально): «Несчастная, неужели ты задумала его похоронить, в то время как это запрещено государством?» Или в ответе той же Исмены:
Я не бесчещу заповеди божьей,
Но гражданам перечить не могу.
Софокл благодушно отнесся к этому рудименту, так как особого противоречия он не вводил. По его представлению Креонт – это именно тот человек-закон, которого знала история греческих свободных общин, носитель и представитель государственной власти. Правда, он не был избран царем; нужды нет, он стал таковым в силу признанного государством закона родства и будет утвержден во власти хором, т. е. представителями старшей части населения. Во всяком случае повеление Креонта равносильно государственному закону, поэт повторяет это не раз – видно, он дорожит этим отождествлением, возвышающим личность противника Антигоны, а с ним и ее.
* * *
Несколько слов в объяснение обстановки этой важнейшей предпосылки нашей трагедии.
Свой приказ Креонт издал, разумеется, непосредственно после взаимоубийства обоих братьев и отступления аргосской рати, еще в качестве «военачальника», как его называет Антигона в первых стихах, а не царя; значит, это пока был приказ войску, т. е. младшей части населения, и о нем еще не знали оставшиеся в городе старшие граждане, а из таковых будет состоять хор.
Спрашивается, как же об этом приказе узнала Антигона?
Эта одна из тех подробностей закулисной мотивировки, которых античная трагедия непосредственно нам не сообщает, исправно однако давая нам возможность их дополнить самим. В данном случае ответ на поставленный вопрос затруднен еще тем, что знает о том приказе именно только Антигона, а не ее родная сестра Исмена и что та, чтобы сообщить свою весть этой, должна вызвать ее на площадку, что перед дворцом.
Отсюда предварительный вопрос: где живут наши сестры?
По мнению толкователей – вместе в доме Креонта. При этом предположении вызов на площадку был бы несообразностью: живя вместе, ночуя в одной спальне, царевны имели полную возможность общаться друг с дружкой, не переходя запретного для девиц порога «междудворной двери». Но это предположение недопустимо и по другой причине. Ведь Антигона была невестой Гемона; не могла же она «девствовать» в том же доме, в который ей предстояло войти молодой хозяйкой после свадьбы, сопровождаемой возженным от родного очага светочем.
Итак, мы допускаем, что сестры жили раздельно. Антигона, как старшая, в царских хоромах Лабдакидов, при брате-царе Этеокле; Исмена, несомненно, в доме своего дяди Креонта при его жене Евридике. Вот почему Креонт в только что указанном месте встречает появление Исмены гневными словами:
А, это ты в тени укромной дома
Змеей ползучей кровь мою точила, —
противополагая ее этим жившей в другом доме сестре (ср. слова Клитемнестры про Электру); если же он продолжает:
И я не ведал, что ращу две язвы,
Две пагубы престола моего, —
то в этом противоречия нет; так царь мог выразиться про любую из своих подданных.
Живя отдельно от сестры в доме Лабдакидов, Антигона, естественно, могла узнать раньше о приказе Креонта – хотя бы от вестника своего жениха Гемона. Итак, она знает, что хоронить Полиника запрещено под страхом казни, а именно каменования, обычной казни нечестивцев, и что к его трупу приставлена стража. Относительно своего решения она не колеблется: долг крови прежде всего. Но этот долг лежит и на Исмене, такой же сестре погибшего, как и она сама; ей она поэтому обязана предложить участие в задуманном деле. Оно и с точки зрения исполнимости лучше: вдвоем они унесут труп брата, воспользовавшись ночью, и похоронят его в гробнице Лабдакидов. Действительно, вначале она думает о настоящих, а не о символических похоронах; поэтому она предлагает сестре участвовать в них в следующих словах: (буквальный перевод): «Поднимешь ли ты тот труп вместе с этой моей рукой?» Она берет с собой сосуд для возлияний и отправляется за сестрой во дворец Креонта.
Здесь начало действия трагедии.
* * *
Пролог принадлежит обеим сестрам – подвижнице и смиреннице, обоим полюсам в развитии женского самоотвержения. Действительно, в самоотвержении и Исмене отказать нельзя; и в ней живет душа ее отца – это она докажет в сцене с Креонтом. Но ее самоотвержение – чисто страдательное; она готова разделить участь своей сестры, но неспособна разделить ее подвига.
Софокл позднее в «Электре» повторил эту чету сестер: Исмена ожила в Хрисофемиде. Да, но все же без этой самоотверженной черты. Хрисофемида повинуется потому, что она «свободы жаждет», – той сравнительно привольной жизни, которую обычай героической эпохи разрешал царевнам, с ее нарядами, хороводами и вечеринками в кругу подруг; Исмена повинуется потому, что для нее неповиновение нечто физически невозможное. Ближе стоит Антигона к Электре; если она нам симпатичнее, то потому только, что долг крови требует от нее более симпатичного для нас дела – подвига, а не убийства. Но, впрочем, и она безусловно предана именно ему, этому долгу крови. И она увлекается; и она в своем увлечении несправедлива к своей кроткой сестре, говоря ей:
Всем говори. Услугою молчанья
Ты лишь усилишь ненависть мою!
Правда, расцвет души Антигоны еще впереди – его даст ее спор с Креонтом. Но уже здесь она произносит слово, глубоко и помимо воли ее творца бороздящее нашу душу:
Не за меня страшись; подумай лучше,
Как жизнь свою и душу оправдать.
Что это значит? Это значит: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших»; это значит, что перед нами – мученица.
* * *
В пароде является хор и в лице его новый герой нашей трагедии, интеллектуальный двойник ее эмоциональных героев, Креонта и Антигоны. Такую роль он играет только здесь – и эта его исключительность вполне понятна: он ведь представитель государства, а наша трагедия – трагедия именно государственной власти и государственного закона.
Этот свой совет Креонт набрал из тех вельмож, которые еще при Лаии, деде ныне погибшего царя, были опорой престола; значит, из людей, во-первых, старых, своих ровесников, и во-вторых, безусловно преданных царствующему дому. Тем более веским будет их свидетельство, если оно разойдется с его волей.
На это, впрочем, пока еще ничто не указывает. Настроение хора радостное; он приветствует луч солнца, впервые озарившего победу и свободу Фив и ускорившего отступление разбитого врага. В красивом символе представляет он себе минувший бой. Ведь Аргос («белый город») вооружал свою рать белыми щитами, точно крыльями, а фиванский народ производил себя от убитого Кадмом змея. И вот старый гомеровский символ: белый орел хватает змею, но должен бросить ее, испуганный шипением живучего врага. Вспоминаются вожди неприятельской рати, впереди всех Капаней, гордившийся, что он сожжет Фивы, хотя бы и против воли Зевса, и за это пораженный его перуном; и, наконец, – грустный конец войны, взаимоубийство сыновей Эдипа. Но теперь все это уже стало прошлым: Победа опять навестила свою старую знакомую Фиву, давно уже давшую ей приют в своих онхестских ристаниях; можно смело принести благодарность богам и отдаться праздничному веселью.
Таковы думы хора, когда к нему является Креонт.
Откуда является он? Из слов Антигоны (буквальный перевод): «Это, говорят, объявил Креонт, и он идет сюда (т. е. на площадь перед дворцом), чтобы ясно во всеуслышание объявить это незнающим» – мы выводим заключение, что он теперь не во дворце, а там, где он впервые издал свой приказ, т. е. под стенами в стоянке войска. Он придет в свой совет непосредственно со стана, не заходя домой. К чему торопиться увидеть своих? Там все равно радости для него нет. Его встретит немой, заплаканный взор его безответной жены Евридики, взор, требующий от него пожертвованного за отечество сына Мегарея… Нет, лучше прямо в совет.
Думает ли он сам об убитом? В переводе этого не выразить, но если в подлиннике речь его начинается словами:
Ἄνδρες, τὰ μὲν δὴ πόλεoς… —
то эта чудная, непереводимая частица «μέν» доказывает всякому знающему по-гречески, что в своем уме говорящий противопоставляет спасенному государству свой собственный, пошатнувшийся дом.
А впрочем, его речь – манифест. С первых слов он объявляет о своем вступлении на престол по праву ближайшего родства. Затем – о своем решении править государством, руководясь исключительно его выгодами, не давая себя ни запугать страху, ни заворожить дружбе. Наконец, о своем приказе относительно сыновей Эдипа как практическом последствии этого решения: сыну – защитнику отечества – честь, сыну-врагу – позор; так велит справедливость.
Тут каждое слово обдумано и взвешено; хору остается только засвидетельствовать законность царского распоряжения. Мысли, что могут найтись ослушники, он не допускает; кто охотно пойдет на казнь! Казнь казнью, а все-таки:
Не раз на крыльях вожделенья Глупцов в погибель увлекла – корысть.
Тут Креонт называет ту силу, которая разрушит его политические расчеты. Ей имя по-гречески – ἐλπίς; мы это слово и здесь, и в дальнейшем будем переводить через «вожделение», вполне сознавая недостаточность этого перевода. Ἐλπίς – это та безотчетная сила, то благодетельная, то вредная, которая осталась в чане Пандоры после того как другие улетели; то зыбкое марево, которое самопроизвольно появляется в душе слабых разумом людей, заслоняя от нее трезвую действительность с трезвыми расчетами и требованиями, вследствие чего им неисполнимое представляется исполнимым, дурное – хорошим. Он, Креонт, этого марева не знает; как сильный логическим разумом человек, он плохой психолог и потому не может себе представить, чтобы человек мог ему отдаться иначе, как под влиянием корысти.
В этом его вторая ошибка – неизбежное последствие той первой, которая сказалась в его жестоком приказе.
* * *
Приказ издан; теперь опровержения последуют одно за другим. Полезно теперь же, заглянув несколько вперед, представить себе отчаянную жалобу Креонта в ответ последнему опровержителю-пророку:
О старче-старче! Все вы, как стрелки,
Своей мишенью грудь мою избрали…
Первый стрелок, еще очень неискусный, это один из стражи, приставленной Креонтом к трупу Полиника; рядовой воин, надо полагать. Софокл позволил себе здесь особый прием, к которому он в пределах сохраненных нам трагедий прибегает лишь изредка, – а именно, оттенение трагизма комизмом: его страж, так же как и вестник в «Трахинянках», – полукомическая роль. Конечно, ее комизм сдержанный, но все же параллель с Шекспиром (слуги в «Ромео и Джульетте», крестьянин со змеей в «Антонии и Клеопатре») напрашивается сама собой.
Мы догадываемся, о чем он пришел доложить; мы ведь знаем, героиня нашей трагедии под покровом ночи совершила обряд символического погребения; приказ Креонта в ту минуту, когда он сообщается старикам, уже нарушен. Тем лучше можем мы оценить искусство поэта.
Страж ведет речь обиняком, стараясь прежде всего выгородить самого себя. Он по простительной ошибке воображает, что его психика так же интересна для царя, как и для него самого, и пространно рассказывает, как он терзался под напором двух противоположных друг другу сил его души – совсем как убегающий от Шейлока Ланселот Гоббо, чтобы еще раз напомнить Шекспира. Царь милостиво ободряет оробевшего служаку, и он, наконец, решается сказать в чем дело: приказ нарушен, а кем – неизвестно.
Тут мы встречаем очень тонкую черту: выслушав бесхитростный рассказ грубоватого сына деревни, старцы высказывают предположение, что в этом темном деле замешан бог, – и этим вызывают сильнейшее негодование Креонта. Бог! Да о ком же радеет он сам, как не о боге? Правда, бог Креонта – это бог гражданской общины, это Зевс, первообраз и оплот царей; но разве может быть другой? Если бы он мог обернуться в эту минуту – он увидел бы устремленный на него жгучий взор блюстительницы долга крови Эринии. Но нет, он ее не видит.
А впрочем, объяснение совершившегося ему заранее подсказано его собственной формулой о «корысти», увлекающей человека на крыльях «вожделения», – его третья ошибка так же неизбежно вытекает из второй, как вторая из первой. Кто нарушил приказ? Те, кому было выгодно с первых же его шагов как царя уронить обаяние его власти, – члены враждебной ему партии. Они подкупили продажную душу одного из этих бедняг-стражей; так произошло дело. Итак, выдайте виновника из вашей среды – не то всем будет худо. Первый натиск отражен.
Креонт уходит в свой дом, один из устоев которого успел уже рухнуть со времени его ухода – ради блага государства. На нем же, на государстве и его благе, сосредоточены и мысли хора во время антракта, следующего за уходом царя.
* * *
Это так естественно. Старцы выслушали незадолго перед тем манифест своего царя, посвященный возвеличиванию государства как всепревышающей силы, определяющей собою все стремления граждан; он сам предстал перед ними, и притом с их же признания, как тот «человек-закон», сосредоточивающий в себе сущность государства и его правды; они согласились видеть в нарушителе царского приказа врага самого закона, окрыляемого вожделением под влиянием корысти. Итак, государственный закон и личное вожделение – тут есть над чем призадуматься.
Следует знаменитая на все времена песнь песней эллинской государственности:
Много в природе дивных сил,
Но сильней человека – нет…
Он подчинил своей власти стихии – его ладья победила море, его плуг покорил землю. Он восторжествовал надо всеми живыми обитателями мира – и над птицей воздушной, и над зверем лесным, и над рыбой морей. Он, наконец, создал общину, венец и предел своих стремлений. Пусть же он и впредь видит всю цель своей деятельности в том, чтобы по мере своих сил поддержать и возвеличить это самое драгоценное из всех своих приобретений. Благословен тот, кто служит государству; и да будет далек от нас тот, кто избрал путь кривды, жертвуя благом государства ради собственной выгоды.
Толкователи любят сравнивать эту песнь с одной из самых глубокомысленных од Горация – той, которая начинается словами Sic te diva potens Cypri. Поэт написал ее в напутствие своему другу Виргилию, задумавшему морскую поездку в родной край Софокла. Ему, видно, припомнились слова афинского поэта:
Он под вьюги мятежный вой
Смело за море держит путь;
Кругом вздымаются волны —
Под ними струг плывет.
Да, и море, и землю, и воздух покорил человек – nil mortalibus ardui est; «смело решившись всё перенести, человеческий род подвинулся на запретный грех… на само небо посягнули мы в своем неразумии, и наше нечестие не дает Зевсу отложить в сторону свой гневный перун».
Те же мысли – но насколько изменился дух между веком Перикла и веком Августа! То, что приветствуется Софоклом как победа человека над окружающей природой, – в этом Гораций видит «запретный грех», навлекающий на род смертных справедливый гнев Зевса. Отчего такая перемена в воззрении на прогресс, на усовершенствование и облагорожение нашей культуры?
Действительно, было бы неправильно увидеть в оде римского поэта лишь минутное настроение: оно свойственно всему веку Августа[17]17
См. мою статью «Первое светопреставление» («Из жизни идей», т. I).
[Закрыть] и навеяно – Эринией. Той Эринией, которую гордый своим государством аполлоновский человек пожелал изгнать из последнего убежища, подчиняя также долг крови усмотрению своего лучшего изобретения. Слишком натянутый лук лопнул; изгнанная из своих законных мест Эриния отравила человеку весь путь его культуры, включая его самые хорошие и благодетельные достижения.
Об этом, впрочем, еще речи нет. Подобно своему царю, и хор забыл об Эринии: он видит только двух противников, правду государства и личное вожделение особи, и в своем выборе не колеблется. Тем сильнее его изумление, когда после песни о государстве его взорам представляется вестница этой забытой силы:
Непонятное диво мне разум слепит:
Это ты, Антигона?..
Да, это она.
* * *
Следующая сцена дает героическую тему Антигоны. И здесь трагизм положения оттенен сдержанным комизмом того, кто его создает: Антигону вводит тот же страж, ему она нежданно-негаданно досталась в руки. Он рассказывает вышедшему – надо полагать, к старцам на совещание – Креонту о том, как боги ему оказали эту милость.
В этом рассказе кое-что нас озадачивает: к чему это вторичное появление Антигоны у трупа Полиника? С драматургической точки зрения замысел поэта нам вполне понятен: если бы Антигона была схвачена при первых же похоронах (как это происходило в «Аргиаде» Эсхила), то пропало бы эффектное нарастание трагизма в трагедии власти: «Царский закон нарушен». – «Он нарушен царевной». Мы понимаем, что поэт им дорожил и что он ради него осложнил перипетию; но удовлетворяет ли нас психологическая мотивировка этого осложнения? Антигона совершила над трупом брата обряд символического погребения – в эту минуту врата Аида разверзлись перед его душой и она обрела вечный покой в сонме утомленных. Никакое дальнейшее надругание над трупом не могло ее более оттуда изгнать; к чему же этот новый, ничем не оправданный риск?
…Не будем вдаваться слишком глубоко в тайники эсхатологии; взглянем на дело просто. Воспользовавшись полуденной завирухой, Антигона пришла проведать брата; увидев его обесчещенным, она с воплем прокляла святотатцев и повторила свое благочестивое дело. Достаточно ли это естественно?
И вот она поймана и приведена к царю-судье – к тому, кто сказал, что с трусом наравне —
Презрения достоин
И тот безумец, кто сильнее блага
Своей отчизны – дружбою пленен.
Теперь настал момент оправдать эти героические слова: перед нами друг из друзей, дочь его сестры и невеста его единственного сына.
Рассказ стража, обстоятельный и мало для него интересный, дал ему время побороть свою минутную слабость, вырвавшую у него болезненный стон. Теперь он весь царь, весь судья. Следуют три обычных вопроса, три удара молота: «Ты совершила это дело?»[18]18
После утвердительного ответа обвиняемой Креонт отпускает стража; это – в порядке вещей, так как только после ее признания он становился излишним. Если бы она ответила «нет», он был бы ему нужен как свидетель-обличитель. Это – тонкая черта.
[Закрыть] – «Если да, то знала ли, что нарушаешь закон?» – «Если да, то что имеешь сказать в свое оправдание?»
Что сказать? Всю тему своего героизма, всю правду Эринии. Да, она могла нарушить тот закон:
Затем могла, что не Зевес с Олимпа
Его издал, и не святая Правда,
Подземных сопрестольница богов.
А твой приказ – уж не такую силу
За ним я признавала, чтобы он,
Созданье человека, мог низвергнуть
Неписаный, незыблемый закон
Богов бессмертных. Этот не сегодня
Был ими к жизни призван, не вчера:
Живет он вечно, и никто не знает,
С каких он пор явился меж людей.
И вечным, подобно ему, будет и тот голос смелого и гневного протеста, который здесь впервые прозвучал в его защиту из уст первомученицы Антигоны.
Но не Креонту это понять. Как человек строгого, неумолимо последовательного ума, он давно поборол в себе все смутное и неясное, все иррациональные побуждения души. Самозащиту своей ослушницы он приписывает ее неразумному упорству, пророча ему крутое и быстрое падение… Оправдается ли это пророчество? Увидим. Есть только одна сила, никогда и нигде не изменяющая: это – разум. Только им и должен руководиться мужчина. Антигона – женщина, и побуждения ее – женские. Пока он жив, он не покорится женщине.
Этими гордыми словами он хочет заглушить великодушный протест Антигоны, ее незабвенное слово:
Делить любовь – удел мой, не вражду.
Следующая сцена – ставка с Исменой – по существу ничего нового не прибавляет. Отметим дальнейшее развитие того предварения в ограничивающих и поясняющих словах:
Любовь не словом дорога, а делом, —
и проводим дружелюбным взором кроткую деву, не смущаясь суровостью осуждающих слов Антигоны. Она ей все-таки сестра; вместе они представляют греческую и общечеловеческую женственность в ее лучших сторонах, великодушии подвига и великодушии смирения.
Обеих уводят в одну и ту же темницу в ожидании исполнения кары; настает пора разобраться в науке пережитых сцен.
Что случилось в самом деле? Еще недавно хор воспевал величие человека и его величайшее творение – государство; взять ли ему свои слова назад? Нет; но, видно, есть и кроме «неотвратной» смерти нечто, против чего весь человеческий разум бессилен; это – грех (Ἄτη). Как, если ветер ударит в море, первая поднятая им волна поднимает другую, эта – третью и далее – так и в цепи поколений совершённый отцом грех подвигает на грех его сына и далее, пока весь род, зараженный отравой, не исчезнет. Только Зевс безопасно царит в небесной высоте, недоступный греху, разрушающему роды смертных; нам же дано роковым спутником вожделение (ἐλπίς), делающее нас игралищем Эротов. Вожделение, эмоциональная часть нашей души, это и есть та легкозаразимая почва, на которой всходят всё новые и новые побеги греха. И никто от него не предохранен, никто:
Бди, борись – все тщетно:
Настанет твой день – в сети падешь ты Кары!
И это – всё, что фиванские старцы извлекли из происшедшего? Да, пока это всё. Нерушимо стоит кумир государственности и разум, воздвигший его; ослушание Антигоны объясняется тем, что она – дочь Эдипа и внучка Лаия, прародителя греха в роде Лабдакидов. Правда Эринии еще не взошла для аполлоновского ума советников Креонта; подождем – ее час уже недалек.
* * *
Содействует его наступлению противник Креонта в следующем, третьем действии – Гемон. Мы знаем, что он – единственный сын Креонта, и мы знаем также, почему он стал единственным.
О цели его появления нетрудно догадаться. Он – жених Антигоны: ясно, что он пришел просить за нее. Так полагают старцы, и Креонт им не возражает. Напротив, все его обращение к сыну рассчитано на то, чтобы противодействовать его любви к Антигоне. Она ему невеста, но зато он отец: невеста заменима, отец – нет. Сыновний долг послушания – залог государственного благозакония; пусть он поймет это, поймет его, Креонта, царскую обязанность поддерживать это благозаконие, тогда ему легче будет пожертвовать своей любовью.
Но он ошибся: Гемон не за Антигону пришел просить, а за него, Креонта. Он пришел ему сообщить нечто, чего Креонт не знал, – а именно: что в этом деле государство в лице своих отдельных членов не за него, а против него:
Все ее жалеют,
Все говорят: «Ужель погибнет та,
Что гибели всех менее достойна?
Ужель за подвиг столь прекрасный – кару
Столь жалостную понесет она?
Ту, что, родного брата в луже крови
Найдя, непогребенным не снесла,
Не потерпела, чтоб от псов голодных
Он поруганье принял и от птиц —
Ее ль златым мы не почтим венком?»
Так глухо бродит темная молва.
Здесь разгар трагизма для Креонта; что сын против него – это еще полбеды: он ведь не знает, чем кончится эта вражда. Но государство! До сих пор он жил в убеждении, что действует не только для блага государства, но и в согласии с ним; теперь вторая часть этого положения оказывается ошибочной. Возникает мучительный для законного царя, ставленника народа, вопрос: будет ли еще законом тот приказ, который издан пусть для блага народа, но вразрез с его волей? Ведь не забудем: Креонт – не тиран; смысл его требования гражданского послушания дан им в словах:
Кого народ начальником поставил,
Того и волю исполняй – и в малом,
И в правом деле, и… во всех других.
Нет, он не тиран, а монарх-демократ. И вот народ в этом деле против него; что же остается? Остается – знаменитая формула просвещенного абсолютизма: «Ради народа – против народа». Она не произносится ясно, но лежит в основе настроения Креонта в его знаменитом споре с сыном:
Креонт. Народ ли мне свою навяжет волю?
Гемон. Ты ныне слово юное сказал!
Креонт. Своей мне волей править иль чужою?
Гемон. Единый муж – не собственник народа.
Креонт. Как? «Мой народ», – так говорят цари!
Гемон. Попробуй самодержцем быть в пустыне! —
т. е. после того, как народ отшатнется от тебя и ты останешься один… Да, но ведь он не один: у него есть, во-первых, боги, оскорбленные врагом своей отчизны, а во-вторых, он сам, его царская совесть, внушившая ему его поступок и поныне его одобряющая. Сильный этим содействием, он остается непреклонным. Своего сына он видит насквозь: он действует под влиянием «женщины». Он – представитель женского, иррационального принципа в борьбе с мужским принципом государственности и разума, олицетворенным им. При таком понимании – вернее, непонимании – дальнейший спор невозможен. Гемон в отчаянии уходит; Креонт остался непобежденным.
Да, но только в своих глазах, не в глазах одобрявших его до тех пор старцев. Они не решаются более повторить свое проклятие вожделению, этому соблазну «легких умом Эротов». Напротив, их песнь прославляет самого царя вожделения:
Эрот, твой стяг – знамя побед!
Вот кто в их глазах победитель. Любовь принята в круг «высших держав», с ними вместе судит она о правде и неправде и решает жребий людей. И что будет с тем, кого осудит она?
* * *
Следующее действие опять принадлежит Антигоне. В третий и последний раз появляется она перед нами: ее ведут на смерть, медленную и мучительную, в ту подземную гробницу, которую Креонт назначил ей свадебным теремом с новым женихом – Аидом.
Здесь – апогей пафоса; и, как всегда в подобных случаях, поэзия обращается к помощи музыки для восполнения того, что она сама выразить не в силах: трагедия переходит в оперу. Это следует помнить. Перед нами предсмертный плач об имеющей погибнуть юности и красоте и последний вопль этой юности и красоты, последний ее стон о той жизни, которую у нее отнимают и на которую она имеет столько прав.
Многих тут озадачивает роль хора. Находят бессердечным, что он даже теперь не на стороне мученицы, даже теперь противопоставляет ее правде ту, которую она будто бы преступила. Напрасно. Хор и здесь верен своей всегдашней роли. Он подчеркивает гражданскую магистраль умеренности, чтобы этим еще более оттенить героизм Антигоны.
А в ней Креонт окончательно ошибся, думая, что ее гордый нрав – предвестник падения. Нет, она сохраняет его до конца. Ей не хочется умирать, но в своем поступке она не раскаивается. Ее ждет смерть, а за ней – иная жизнь: тогда будет видно, кто был прав.
Но Креонт торопит; пора идти. Как гордо звучат последние, прощальные слова дочери Эдипа старым советникам ее отца:
О, осмотрите, фиванцы! Царевна идет,
Остальная наследница древних владык;
Вот судья мой – и вот преступленье мое:
Благочестию честь воздала я.
В ответ ей звучит, наконец, из их уст та песнь предсмертного утешения, о которой она их так долго просила. Нам она мало говорит; даже по выяснении всех непонятных для неспециалиста намеков она многим покажется ненужной мифологической ученостью. Но для грека Софокловых времен и мифология была еще не ученостью, а живой верой, и мы можем быть убеждены, что образы Данаи, Ликурга, Клеопатры не менее облегчали горе Антигоны, чем горе Гретхен – погружение в земные страдания Той, к Которой она возносила свою трогательную молитву.
* * *
А теперь – катастрофа.
Во имя двух начал действовал Креонт: государства и богов. В сущности при государственном характере древнегреческой религии тут даже большой разницы не было: Полиник, враг своей родины, этим самым был и врагом ее богов, и Креонт, карая его, защищал оба эти священные для него начала. Вот почему он с таким негодованием отвергает мысль хора о возможном заступничестве богов за нечестивца. И вот то, чему он тогда не хотел верить, ему ныне подтверждает достоверный свидетель, слепой прорицатель Тиресий. Да, старцы тогда были правы: боги подлинно разгневаны бесчинством Креонта над трупом Полиника; не будет от них более знамений оскверненному грехом царя городу.
Прошу к этой угрозе не относиться слегка: это – то же, что в средние века интердикт. Фивы исключены из великого договора, связующего обе общины, богов и людей; вот смысл вести Тиресия.
В это думаться и вчувствоваться можно; и все-таки тут есть нечто смущающее нас. Нам так и хочется подсказать Тиресию – и Софоклу – чисто этическую мотивировку; мы рады, когда он ее наконец находит:
Нет, уступи усопшему. Кто станет
Лежачего колоть? Какая доблесть —
Второю смертью мертвого казнить?
Нам было бы приятно, если бы и боги руководились этим чисто нравственным началом, если бы и они отвернулись от грешника именно за то, что он нарушил священный долг по отношению к убитому.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.