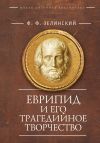Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 33 страниц)
Все же это доброе настроение властвует над ней недолго. Пусть честь потеряна, зато жизнь спасена. Она отправляет гостей в мужскую половину и посылает за Эгисфом. Он приходит уже ночью, его вводят к гостям, и он быстро делается жертвой их мести: смерти презренного осквернителя Эсхил особого внимания не уделяет. Главное впереди.
Шум, поднятый убийством Эгисфа, будит Клитемнестру. Она выбегает из женской половины своего дома – и встречается с сыном. Теперь только она узнает его. Она взмаливается к нему, разрывает одежду, покрывающую ее грудь – ту грудь, которой она его вскормила. Перед этим видом решимость оставляет Ореста. «Что делать, Пилад? – спрашивает он, – могу я пощадить свою мать?» Здесь только – в первый и единственный раз – нарушает Пилад свое молчание. «А воля Феба? – говорит он, – а клятва твоя? Всякую вражду предпочти вражде бога». Вот – то, что дает решительный толчок руке Ореста.
При первом свете утренней зари мы опять видим Ореста. Он выходит к народу, чтобы перед ним оправдать свой поступок. Его обвинители, трупы Эгисфа и Клитемнестры, лежат тут же рядом; его защитник – кровавый плащ, в котором был убит его отец. Народ с восторгом оправдывает его; он сам себя, однако, оправдать не может:
Нет-нет, постойте, дайте досказать!
Чем кончится все это, я не знаю.
Вне колеи умчался конь ретивый
Души моей; поводья ускользают
Из рук, умом не в силах управлять я.
Я слышу: ужас песнь свою играет,
И сердце пляшет под ее напев…
Пока в душе сознанья искры тлеют,
Взываю к вам: я вправе был, друзья,
Ее убить, противную богам
Преступницу, что мне отца сгубила.
Сам Аполлон отвагу мне внушил.
«Послушавшись, греха не сотворишь ты, —
Сказал он мне, – ослушавшись…» – но нет!
Тех ужасов язык не перескажет…
Смотрите же: паломником иду я,
Святую ветвь десницей поднимая,
В срединный храм, на очаге где Феба
Его огонь горит неугасимый…
Простите ж все; оставить вас я должен.
Я мать свою своей убил рукою —
Ни жизнь, ни смерть той славы не сотрут!
Здесь впервые из-под дельфийской концепции мелькает новое начало: несмотря на ясно сознаваемую волю дельфийского бога, какая-то таинственная сила говорит юноше, что он все-таки неправ, что есть нечто, против чего сам бог бессилен. Еще одно мгновение – и расшатанный ум Ореста уступает напору этой новой силы. Безумие овладевает им, и в этом безумии он – подобно исступленному Аянту в трагедии – во очию видит тех, которые не показывают себя здоровым глазам смертных. Не паломником, нет – точно зверь, преследуемый стаей псов, мчится Орест к храму-средоточию Земли… и за ним вслед мчатся Эринии.
Всё же до сих пор протест против дельфийской концепции заключался в одном только настроении, вызванном поэтом в последней сцене: сама фабула изменена не была. И там, в дельфийской Орестее, герой покидает свою родину, гонимый Эриниями; спасаясь от них, он бежит в Дельфы, и Аполлон, очистив его, дает ему стрелы, с помощью которых он отгоняет от себя своих мучительниц. Согласится ли Эсхил с этой развязкой?
Это покажет третья трагедия – «Евмениды».
Орест в Дельфах, но Эринии с ним. Аполлон очистил своего просителя, но Эринии не удаляются: они только заснули и дали преступнику несколько вздохнуть и опомниться. Но они не оставляют его и готовы вновь его преследовать, лишь только он покинет священную обитель. И Аполлон сознает свое бессилие. «Беги, – говорит он Оресту, – и не давай усталости победить себя: они не отстанут от тебя, будешь ли ты держать путь по материку, или через море. Но иди к городу Паллады и, подойдя, ухватись руками за ее старинный кумир. Там найдем мы судей над тобой и ими; властвуя над убедительным словом, мы обретем спасение для тебя».
И вот Палладой учреждается суд на «Аресовом холме»; сходятся 12 «ареопагитов», избранных из числа лучших афинских граждан; выслушав увещания обеих сторон – Эриний и Аполлона, – они молча подают свои голоса. При счете голосов число оказывается равным за и против Ореста; но Паллада присоединила свой голос к тем, которые были поданы в его пользу, и он признается оправданным.
Этим с нашей точки зрения трагедия кончена; но с точки зрения Эсхила – нет. Он был поэтом-жрецом; религиозная идея не могла отсутствовать в его драме. В его «Аянтиде» действие было направлено к возвеличению саламинских святынь, в «Филоктете» – к возвеличению кабирических таинств на Лемносе. И здесь такая религиозная идея напрашивалась сама собою: ею было учреждение культа Эриниям в пещере Ареопага. Действительно, его описанию посвящена последняя часть трагедии; описание дано с чрезмерной для нашего чувства обстоятельностью, но с точки зрения поэта лишь оно могло достойным образом завершить трилогию, будучи ее религиозно-торжественным заключительным аккордом.
* * *
Оставляя, однако, в стороне религию и возвращаясь к нравственности, мы замечаем без труда, что в трагедии Эсхила достигнут последний допустимый для древнего мира фазис в развитии идеи возмездия – фазис государственный. И Эринии и Аполлон в придуманной Эсхилом развязке являются лишь сторонами в деле; решение постановляют ареопагиты как представители государства. Этим были одинаково отвергнуты как принцип личной мести, так и принцип религиозного очищения.
И с одним должен будет согласиться всякий: если иметь в виду одну только центральную идею, отвлекаясь от всякой драматургии, то дальше Эсхила и мы не пошли, да и идти некуда. И мы признаем законное вмешательство государства везде там, где нанесенная обида взывает о возмездии; и мы требуем, чтобы все личные притязания умолкали там, где государство устами своих уполномоченных произнесло свое «нет, невиновен». И благо тому государству, в котором это требование исполняется беспрекословно.
Но нам с этим исходом гораздо легче примириться: мы за победоносным государством не видим побежденных. Не видим Эринии, не видим Аполлона.
И действительно, нужно окунуться в волны античности для того чтобы прозреть и понять, до какой степени мы слепы и бесчувственны. Везде спрашивать только о наличии или отсутствии, о большей или меньшей «преступной энергии», обнаруженной обвиняемым, – и не видеть Эринии, не видеть объективной обиды, нанесенной человеку, насильственно отторгнутому от чаши жизни! Не видеть Аполлона, не видеть скверны, приставшей к душе преступника в этой атмосфере ужаса, в которой он совершил свое деяние, не признавать его жажды мистического исцеления!
Эсхил видел и Эринию и Аполлона; в их сопровождении является Орест перед суд Паллады. Эриния умилостивляется государством, взявшим на себя вину оправданного… И как нас пристыжает это чуткое, любовное умилостивление, это смиренное признание не растворенного человеческим правосудием остатка человеческой вины!
Но Аполлон, этот верховный руководитель совести в течение всего «средневекового» периода эллинской истории?..
«Он ведь остался победителем». Нет, он не остался победителем, если им подвинутый и им оправданный муж требуется перед государственный суд и только там получает свое оправдание. Пусть мы во всем согласны с эсхиловской развязкой; но попробуем глазами античного человека, поклонника Аполлона, всмотреться в роль, которую играет этот бог в трагедии Эсхила, – не должна ли была она показаться ему в своем принципе почти кощунственной?
А поклонников Аполлона было немало среди афинян старого закала. И они с возрастающим беспокойством следили, как постепенно портились отношения между их родиной и дельфийским очагом вещего бога. Особенно грозным было начало пелопоннесской войны, предпринятой афинянами против верной дочери дельфийского бога Спарты. Когда, – рассказывает Фукидид, – Спарта перед войной обратилась с запросом к Аполлону в Дельфы, бог ее благословил и обещал сам прийти ей на помощь, «и призванный и непризванный». И когда вскоре после начала войны над Афинами разразилась страшная чума, в этой чуме усмотрели именно такую «непризванную» помощь, явленную Аполлоном его излюбленному городу. Это было вполне естественно: ведь уже в «Илиаде» постигшая ахейское войско чума представлена действием невидимых стрел сребролукого бога.
Эта чума, по свидетельству Фукидида, вообще в значительной степени расшатала старинную религиозность афинян. «Сколько они ни обращались с молитвами к святыням богов, сколько ни вопрошали оракулов, все было бесполезно; под конец они перестали прибегать ко всему этому, побежденные бедствием». Так-то временно закатилась для Афин звезда Аполлона.
Тем с большей тревогой взирали на происходящее его афинские поклонники, а к числу самых ревностных принадлежал Софокл. Угасающая вера в дельфийский оракул внушила ему одну из его грандиознейших трагедий – «Царя Эдипа»; и, конечно, современные ему Афины имеет он в виду, когда он устами своего хора произносит грустные слова:
Уж с молитвой не пойду я
К средоточию Земли
Ни в Фебов чертог Абейский,
Ни к Олимпии холмам,
Пока с очевидной силой
Бог себя не оградит.
О Зевс-вершитель! Коль по праву славит
Твою державу род людской —
Твой взор бессмертный обрати на дерзких!
Уж веры нет Феба гаснущим словам;
Меркнет в почестях народных
Бога-песнопевца лучезарный лик;
Конец благочестью!
В этой трагедии верующий поэт поставил себе задачей прославить Аполлона как источник непогрешимого знания; прославлению его как высшей нравственной силы посвящена трагедия «Электра».
III
Религия и нравственность первоначально ничего общего между собой не имели. Человек должен был чтить богов, чтобы пользоваться их покровительством и поступать нравственно… сам не зная почему.
Но мало-помалу с пробуждением нравственного сознания одна область морали за другой стали отходить под опеку богов; в религии Аполлона мы уже имеем бога как высшего блюстителя нравственного долга людей. Тогда человек оглянулся на облики богов, созданные им в донравственную эпоху своей религии, и ужаснулся; свой ужас он выразил в знаменитых стихах Ксенофана:
Все, что позорным слывет у людей и хулу вызывает,
Сонму богов приписать Гомер с Гесиодом дерзнули:
Красть, и прелюбы творить, и друг друга обманывать дерзко.
Но критика была лишь одной стороной дела: другой была творческая реформаторская работа. Устами своих певцов дельфийский Аполлон провозгласил новую, очищенную от прежних соблазнов мифологию.
Тем не менее полного соответствия нравственного долга с божьей волей достигнуто не было: прочно держалось мнение, что человек должен в своем нравственном поведении руководиться собственной совестью, а не посторонней, хотя бы и божьей, волей. Благодаря этому-то мнению Эсхил и мог в своей «Орестее» изобразить осуждение собственной совестью человека, в точности исполнившего полученное от бога приказание. Все же это отождествление уже было подготовлено нравственной эволюцией религии под знаменем Аполлона, и требовался только один шаг для того, чтобы его осуществить.
Этот последний шаг мы имеем право приписать Софоклу. В его «Фиесте Сикионском» встречаются замечательные слова:
Мудр только тот, кого почтили боги.
Им вверь себя. Хотя бы против правды
Идти велели – нужды нет, иди:
Дурным не будет, что они прикажут.
Конечно, раз речь идет об отрывке из потерянной трагедии, мы не можем сказать наверное, говорит ли поэт от себя, или же характеризует только то действующее лицо, которому он влагает в уста данные стихи. Всё же древние трагики – вплоть до Еврипида – избегали облекать в форму общих изречений такие мысли, за которые они не принимали на себя ответственности; это раз. А затем – иллюстрацией к этому изречению мы по праву можем признать ту трагедию, в которой наш поэт противопоставил свое понимание подвига Ореста пониманию Эсхила.
Это нам со всей очевидностью докажет внимательный ее анализ.
* * *
Тайное возвращение Ореста в Микены – исходная точка действия для Софокла, так же как и для Эсхила. Он вернулся не с одним только своим другом Пиладом, сыном того царя Строфия, у которого он провел свое отрочество: за ним последовал и тот его старый пестун, которого дельфийская Орестея называет Талфибием, верным слугой и глашатаем Агамемнона. В нашей трагедии он по имени не назван[24]24
Героические имена были созданием эпической поэзии и имели поэтому ее дактилический ритм; вследствие этого они плохо укладывались в ямбический ритм трагедии. Этим, по-видимому, следует объяснить крайнюю скупость трагедии на имена; второстепенные персонажи всегда безымянны. Имя нашей героини по своему ритмическому характеру было прикреплено к пятой стопе, перед заключительным ямбом; можно себе представить, к каким стеснениям это должно было повести.
[Закрыть], и рукописи дают ему наименование «педагога»; вряд ли, однако, можно сомневаться, что Софокл, заимствовавший это лицо из дельфийской Орестеи, про себя называл его согласно с ней. А потому и мы можем смело называть его Талфибием.
Его введение было первым крупным изменением эсхиловской традиции, допущенным в нашей трагедии. Там Ореста спасает сама Клитемнестра – читатель помнит эту материнскую непоследовательность, эту симпатичную черту, смягчающую суровый облик Эсхиловой двумужницы. Зато там по свершении матереубийства Эринии преследуют Ореста; здесь же, согласно нравственной идее трагедии, этого не должно было быть. Отсюда вывод один: в характере Клитемнестры должны были отсутствовать те симпатичные черты, которые отягчают вину ее убийцы-сына. Вот, несомненно, причина, заставившая Софокла отказаться от Эсхиловой концепции. Он вернулся к дельфийской традиции, но с одним крупным и очень счастливым изменением. Там отрока-царевича спасает кормилица; Софокл заменил ее его сестрой Электрой. Этим он заодно выдвинул личность этой последней, которую он вразрез со всей традицией сделал героиней своей трагедии. В момент убийства Агамемнона Электра, тогда еще девочка, вмиг поняв значение совершающегося, схватила своего младшего брата и передала его Талфибию, единственному, соблюдшему верность своему государю в минуту всеобщего смятения и ужаса; тот отнес его к царю Строфию, старинному другу убитого царя, чтобы он мог – согласно своему нравственному долгу и заветам сестры – стать мстителем за своего отца.
Укажу по этому поводу еще на одну мелкую, но глубоко продуманную черту. Талфибий, говорит поэт, оказался единственным верным слугой Агамемнона; другие, значит, безропотно подчинились новому властителю, Клитемнестра живет среди преданных ей людей[25]25
Слова «окружена немилою средою» этому не противоречат: Клитемнестра разумеет здесь Электру и пришлую толпу ее подруг. На своих домочадцев, напротив, она может рассчитывать; это видно из ее дальнейшей молитвы.
[Закрыть]. У Эсхила наоборот: вся челядь настроена против нее, прислужницы хора ее проклинают, и она должна пустить в ход весь свой авторитет как хозяйки, чтобы заставить слуг отнестись с уважением к человеку, принесшему весть о смерти Ореста. Другими словами, одиноко борющейся силой является у Эсхила – Клитемнестра, у Софокла – Электра. А между тем наши симпатии всегда до некоторой степени на стороне одиноко борющейся силы: Софокл это сознавал здесь так же хорошо, как и в «Филоктете», где он по той же причине заменил преданный Филоктету эсхиловский хор лемносцев – послушными его противникам моряками Неоптолема.
Таковы предпосылки действия нашей трагедии; присмотримся теперь к нему самому.
* * *
У Эсхила оно происходит в первой своей половине у одинокой могилы Агамемнона, во второй – перед дворцом Атридов: там задумывается план мести, здесь он исполняется. Софокл, более связанный требованием единства места, должен был выбрать одно из двух: он выбрал второе, последствием чего были некоторые, незначительные впрочем, неправдоподобия в развитии фабулы.
Орест с Пиладом и Талфибием появляются перед дворцом в предрассветное время – против этого ничего возразить нельзя, юноше, естественно, захотелось прежде всего поклониться дому своих предков, и красивый привет святыням аргосской земли с высоты микенского кремля создает торжественное, благоговейное настроение. Менее естественно приглашение – здесь же обсудить план мести. Казалось бы, это можно было сделать удобнее в любой другой момент долгого пути из Крисы в Микены; здесь же каждую минуту мог выйти кто-нибудь из дому и обратить внимание на подозрительных незнакомцев. Поэт это сознавал: Талфибий торопит Ореста, и план сообщается последним в немногих словах. Он сложнее, чем у Эсхила: участвует в нем, кроме четы друзей, еще и Талфибий. Последнему поручена роль предтечи: он должен явиться посланцем не от враждебного Клитемнестре Строфия, а от предполагаемого ее (и Эгисфа) друга, фокейца Фанотея, и сообщить только известие о смерти Ореста; а затем уже Орест с Пиладом принесут его мнимый прах. В интересах перипетии персонал удваивается; тот же прием найдем мы и в «Царе Эдипе».
Тут современный человек мог бы возразить, что у поэта было в руках средство заодно и избегнуть вышеозначенного неправдоподобия и придать развитию действия больше эффектности. А именно: попросту отбросить в прологе эту беседу о плане мести. Пусть зритель примет вначале и мнимого Фанотеева гонца, и мнимых крисейских посланцев за то, за что они себя выдают: тем приятнее будет для него в свое время узнать, кто они на самом деле. И действительно, современный поэт – я имею в виду Гофмансталя – именно так и поступил. Следует, однако, заметить, что античная трагедия никогда к подобным эффектам не прибегает: если действие основано на интриге – как в «Филоктете» Софокла и во многих трагедиях Еврипида – зритель в эту интригу всегда посвящается. О причине можно судить различно, но факт налицо.
Распределив между собою роли, участники собираются разойтись; вдруг из хором раздается жалобный голос. Орест вздрагивает: не Электра ли?.. Как мог он угадать? Большинство зрителей и спрашивать не станет; более же вдумчивые узнают вскоре, что за время своего крисейского изгнания Орест постоянно сносился с сестрой и, таким образом, мог и должен был знать, что из всех домашних она одна исполняет долг плача по умершем отце. Как бы то ни было, но он догадывается, что это она; ему хотелось бы повременить, послушать ее, но Талфибий этому резко противится. Почему? Он знает своего питомца: при своей природной мягкости он не вытерпит, откроется сестре, на них обратят внимание. Это психологическая причина, драматическая же заключается в том, что посвященная в план мести Электра перестала бы быть героиней трагедии, как это покажет дальнейшее развитие действия.
* * *
Итак, мстители уходят в различные стороны – Орест с Пиладом, чтобы помолиться на могиле убитого царя, Талфибий, чтобы выждать удобный момент для вмешательства; на пустую сцену выходит Электра. Мы слышим ее плач – все о том же, об убийстве отца. Понятно ли это нам? Судя по опыту, да; по крайней мере, эта сцена плача никаких недоумений со стороны зрителей и читателей не вызывает. А если бы кто, вдумавшись глубже в обстановку, нашел невероятным не самый плач, а это постоянное его повторение изо дня в день в течение стольких лет, прошедших со времени смерти Агамемнона, тому пришлось бы напомнить, что с античной точки зрения плач по умершем был не только субъективным излиянием личной печали, но и объективной данью его огорченной душе, наравне с прочими заупокойными обрядами. Этих последних запущенная могила Агамемнона лишена: все покорились новым властителям. Одна из всех Электра хранит память об усопшем; избыток ее плача – лишь скудное возмещение чужих упущений.
Конечно, живя духом укоризны в доме своей матери, она терпит постоянные гонения от нее и ее нового мужа: ее держат взаперти, чтобы она хоть обличающему пламени солнца не могла переслать своих жалоб, – если она теперь вышла, то потому только, что ее главный мучитель Эгисф отсутствует. Можно спросить, почему при таких условиях хозяева дома выносят ее присутствие? Разгадку дает нам сцена ее спора с матерью во II действии: мы увидим, эта мать при всей своей преступности испытывает на себе неотразимое обаяние ее нравственной силы; она и ненавидит ее и боится. Но это обаяние имеет свой предел: над Электрой нависла гроза, о которой она еще не знает, и грянет она, как только вернется отсутствующий Эгисф.
Пока же она, пользуясь своей свободой, вышла из дворца на площадку, залитую лучами восходящего солнца; туда же к ней приходят и подруги, дочери микенских вельмож. Что их привело? Отчасти эти самые лучи восходящего солнца, но главным образом то, что трагедии без хора не обойтись. Где возможно, Софокл мотивирует психологически появление своего хора; где правдоподобной мотивировки не придумать – как здесь да еще в «Трахинянках» – там он относится к нему беззаботно, вполне уверенный, что никто не будет его требовать к ответу за привлечение этого традиционного и необходимого элемента трагедии.
Итак, к ней выходят микенянки – все-таки скорее девушки, чем замужние женщины, раз она приветствует их словами «дети отцов благородных». Их цель – утешить подругу: «Не предавайся вечному плачу, не одна ты взыскана горем; и преступники не избегнут кары, грозящей им от руки Ореста». Но эти утешения не достигают цели; вскоре сам хор подчиняется настроению сильной душою подруги и перед ним восстает мучительный призрак, неотступно витающий перед ее очами:
Стон стоял в возврата ночь,
Стон стоял над ложем мук,
Стон секиры встретил взмах,
Над главой царя взнесенной.
Это – картина убийства Агамемнона. Софокл вернулся отчасти к гомеровскому преданию: победоносный царь был убит за трапезой, «как бык у яслей», но не в гостях у Эгисфа, а в собственном дворце, руками собственной жены.
Эта картина доводит Электру до исступления; испуганный хор старается ее успокоить; тогда она в более деловой речи оправдывает перед подругами свой образ действий. Разговор их, однако, прерывается появлением Хрисофемиды.
Хрисофемида – чисто софокловское создание; до него она была простым именем. В «Илиаде» она названа Агамемноном в числе тех его трех дочерей, из которых он предлагает Ахиллу выбрать себе невесту. Дельфийской Орестее она, пожалуй, тоже была известна, но и только; это мы заключаем из одной расписной вазы, где она присутствует при убийстве Эгисфа, причем все ее движения выражают мысль: как бы уйти от беды. Эсхил ее не признает; у него, мы видели, Клитемнестра окружена врагами. Софокл воспользовался этой фигурой для того, чтобы повторить благодарный мотив, уже раньше развитый им в «Антигоне», – мотив противопоставления сестры-подвижницы и сестры-смиренницы.
Подобно прочим, и Хрисофемида покорилась силе; она в душе скорбит о смерти отца, но от громкого протеста отказалась. За то к ней Клитемнестра относится сравнительно благосклонно; не настолько, чтобы выдать ее замуж – неблагоразумно давать рост семени Агамемнона, – но все же достаточно, чтобы содержать ее как царевну. Так и теперь, когда ей приснился страшный сон, она ей поручает принести возлияния разгневанному отцу. С этой целью она и выходит из дворца и неожиданно для себя застает на площадке Электру. Эта встреча дает ее мыслям другое направление. Ей жаль сестру; она хотела бы внушить ей свой трезвый взгляд на вещи, тем более что она знает об угрожающей ей опасности. Происходит второй натиск на душу строптивой девы, который она отражает так же успешно, как и первый. Хрисофемиде остается только отправиться туда, куда ее послали.
Электра ее расспрашивает, и она рассказывает про тревожный сон матери. Это сон – совершенно другой, чем у Эсхила: не кормление змееныша, нет:
Приснилось ей, что видит
Она отца: для нового общенья
На свет вернулся он; и вот, схватив
Свой царский посох – ныне им владеет
Эгисф, – в очаг его он водрузил.
И посох отпрыск дал, и отпрыск этот
Все рос да рос, и, наконец, покрыл он
Зеленой сенью весь микенский край.
Мы знаем, откуда Софокл взял этот сон: так по Геродоту и мидийскому царю Асиагу приснилось, «что из лона его дочери Манданы выросла виноградная лоза и что эта лоза осенила всю Азию». Геродот был близким другом Софокла, и поэт в своих трагедиях использовал не одну черту из сочинений знаменитого путешественника, открывшего афинянам столько нового об окружающем их мире. Но в данном случае у Софокла была еще причина драматического характера, заставившая его отдать сну Манданы предпочтение перед традиционным сном Клитемнестры. Этот последний, будучи сам по себе эффектнее, был в то же время слишком ясен и никакого другого толкования, кроме зловещего, не допускал; здесь же в интересах драматизма требовался сон двусмысленный, чтобы Клитемнестра могла о нем молиться Аполлону:
Тот сон двуликий, что во мраке ночи
Явился мне, – его, о светлый бог,
Коль он мне друг, исполни дружелюбно,
Коль враг, на вражью обрати главу, —
чтобы она могла услышанную вслед за этой молитвой весть о смерти Ореста принять за подтверждение благоприятного его толкования. Эту возможность давал именно сон Манданы. Конечно, его истолкование мидийскими магами, «что сын его дочери будет царствовать вместо него», было обязательно и здесь. Но Хрисофемида недаром прибавляет, что посохом Агамемнона ныне владеет Эгисф: если посох Эгисфа зазеленел, то нельзя ли это понимать и в том смысле, что его, Эгисфа, потомству суждена власть над Аргосом? И что сам покойный царь, примиренный, благословляет его на эту власть? Во всяком случае, полезно будет заручиться благосклонностью царственной тени: Клитемнестра посылает Хрисофемиду на запущенную могилу Агамемнона.
Именно Хрисофемиду, а не Электру, как у Эсхила; это в связи с религиозным прогрессом, совершившимся за то поколение, которое отделяет «Хоэфор» от «Электры». Там настроение молящегося считалось еще безразличным, важен был факт молитвы, факт жертвы, и Клитемнестра могла безбоязненно поручить умилостивительные возлияния явно враждебной к ней дочери. Здесь уже не то: благочестие требует гармонии внешнего обряда с настроением исправляющего; появилось убеждение, которое тот же поэт выражает в своих прекрасных словах («Эдип Колонский»):
Одной души довольно,
Когда любовь в ней теплится святая.
Такую любовь к себе преступница предполагает в младшей дочери; ее она и посылает. И в видах той же гармонии Электра убеждает сестру не приносить отцу вовсе даров ненавистной жены и заменить их более скромными, но зато бескорыстными и чистыми приношениями обеих дев – взяв по пряди волос от той и другой, как в трогательной сцене «Аянта», да еще ее, Электры, пояс. Позволительно думать, что суровая по движница не без легкой улыбки, глядя на изысканную прическу молодой красавицы, приглашала ее принести могиле отца эту жертву красоты:
Отцу же
Волос своих прядь крайнюю отрежь.
Так и в «Оресте» Еврипида красавица Елена считает своим долгом почтить подобным образом могилу своей сестры Клитемнестры, и та же Электра, глядя на нее, угрюмо говорит (пер. Анненского):
Вы видели: красу оберегая,
Волос ее едва коснулся нож!
О, ты все та же женщина…
Как бы то ни было, Хрисофемида, подавленная превосходством сестры, уходит с намерениями прямо противоположными тем, с которыми она пришла: она несет Агамемнону дары от детей, а не от жены, и будет его молить о благословении мстителям, а не убийце. Электра с подругами остается на сцене.
* * *
У всех одна и та же мысль: сон Клитемнестры, в зловещем значении которого они не сомневаются. Там, под землей, где обитель усопших, – там же и жилище снов; там они в течение дня дремлют под скалой, подобно летучим мышам, а ночью вылетают, послушные указаниям живущих с ними теней, и навещают сонные души смертных, мучая одних и вселяя тихую радость в других. Так и этот сон посетил царицу по воле ее убитого супруга; а если так, то, значит, час возмездия недалек:
Знать, помнит недругов родитель,
Эллинов почивший вождь.
И помнит их секиры древней
Челюсть медная вовек…
Прекрасно понял эти слова нашего поэта позднейший художник, цикл произведений которого, иллюстрирующих миф об Оресте, нам сохранен на саркофагах римских времен. Под сводом скалы – осененная покрывалом душа убитого царя: у ног его дремлющая Эриния держит в руках ту секиру, которая исторгла его жизнь.
И вдруг – на минуту – перебой настроения. Да, час возмездия недалек… это значит, предстоит новое убийство, продолжение той цепи ужасов, от которой уже в чередовании стольких поколений страдает род Пелопидов. Вообще Софокл отрицательно относится к тому представлению о духе-мстителе, «Аласторе», действие которого так любил изображать в своих трилогиях Эсхил: человек должен сам отвечать за свои деяния. Но здесь, при мысли о новом продолжении той старинной цепи преступлений, его мысли невольно переносятся к ее первому звену, к греху самого родоначальника Пелопа. Похитив Ипподамию, прекрасную дочь Эномая, благодаря предательству его возницы Миртила, Пелоп увез ее вместе с предателем на чудесной колеснице Посидона через море. Но Миртил был ему противен, и как свидетель его недоброго деяния, и как требователь обещанной награды; и вот он, пользуясь его беспечностью, столкнул его в шумевшее под чудесной колесницей море. Это и был первородный грех Пелопа, от которого страдал его сын Атрей, его внук Агамемнон, его правнук Орест[26]26
Зрителям предоставлялось при этом припомнить более ранние трагедии аргосского цикла, поставленные поэтом, – прежде всего «Эномая», затем трилогию ужасов «Фиестею», наконец – «Клитемнестру».
[Закрыть]:
О ты, что над пеной волн
Свершил многослезный путь,
Наездник лихой Пелоп!
На горе познал тебя
Край родной.
Пылает над пеной волн
Златой колесницы свет;
С златой колесницы в глубь
Низвергнут тобой Миртил;
Застыл на устах его
Безмерной обиды стон.
С той поры
Не знал многослезный дом
Покоя от мук греха.
Но это не более как минутное омрачение. Из дворца выходит сама преступная царица во всем своем царском величии, окруженная своими прислужницами, – мысли замечтавшихся девушек возвращаются к действительности.
Выходит она с религиозной целью. Она рассказала толкователям свой сон; она по их совету послала покорную дочь умилостивить душу убитого мужа; но ее сердце все-таки неспокойно, она ищет помощи и утешения у того бога, к которому любили обращаться, чтобы спастись от ночи и ночных сил, – к Аполлону. Ему она хочет помолиться при благосклонном и благоговейном настроении окружающих – и вот, направляясь к его кумиру, она неожиданно встречается со своей строптивой дочерью. Это такая зловещая примета, хуже которой и представить себе нельзя. Она желала бы гневным словом отослать от себя этого врага, – но нет, она должна терпеть ее, как терпела до сих пор, должна это потому, что при всем своем могуществе боится ее нравственной силы. Все же неожиданная встреча производит в ней сотрясение, и от этого сотрясения сами собой выливаются наружу все укоризны измученной души, все то, чем она столько лет старалась заглушить голос своей совести: «Да, я убила его, но я имела полное право так поступить и ничуть не жалею о своем деянии»… Не жалеет, в самом деле? Или только хочет уверить себя, что не жалеет?
Итак, вместо молитвы – бурное словопрение. Для Софокла и его зрителей, к слову сказать, это излюбленный, благодарный мотив: так называемый «агон», к которому афиняне так пристрастились со времени начала софистического движения. Мы его менее жалуем; все же следует сказать, что здесь он, благодаря сильной эмоциональной примеси, нас не очень смущает. В этом агоне все преимущества на стороне Электры: помимо ее обычного нравственного превосходства, еще и сон ее матери-противницы наполняет ее отвагой, тем более что она-то об этом сне знает, но ее мать не знает, что она о нем знает. Униженная, пристыженная, Клитемнестра должна у нее просить, точно милости, разрешения помолиться собственному богу у дверей собственного дома. О чем же она будет молиться? Мы это знаем: о благополучном исходе «двуликого» сна. Благополучном – это значит таком, при котором царский посох Пелопидов расцветет в руках не Ореста, а рожденного ею Эгисфу сына, что возможно лишь под условием гибели Ореста. И когда она заключает свою молитву словами:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.