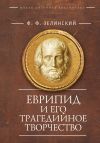Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 33 страниц)
Дай мне, печальному, руку: вовеки уже пред живущих
Я не приду из Аида, тобою огню приобщенный.
А если так, то долгом родственника было справить умершему как можно более пышные похороны и этим торжественно проводить его душу в ее далекую обитель; а затем ни ему, ни убийце не приходилось более считаться с последствиями ее гнева.
Этим вопрос был решен с точки зрения благоразумия, но не с точки зрения любви к опечаленной душе родственника, преждевременно и насильственно отторгнутой от чаши жизни; хорошо поэтому, что Гомер подсказал нам возможность еще другого ответа. Ахилл во всех отношениях приравнивает своего друга Патрокла к брату и свою месть за него – к кровавой мести. И вот, получив от отца его убийцы выкуп за тело сына, он считает своим долгом оправдаться перед убитым («Илиада»):
Храбрый Патрокл, не ропщи на меня ты, если услышишь
В мрачном Аиде, что я знаменитого Гектора тело
Выдал отцу: не презренными он заплатил мне дарами;
В жертву тебе и от них принесу я законную долю.
Позволительно думать, что и в тех случаях, когда родственник убитого принимал виру от убийцы, часть этой виры шла на поминки убитого, на успокоение его огорченной и разгневанной души. Мы ведь уже имели случай убедиться, что представление о переживающей душе покойного – проекция наружу чувства о нем его близких; сговорчивость этих близких естественно должна была породить представление о такой же сговорчивости загнанной в обитель Аида души.
Так-то страшный призрак мстительной Эринии был готов рассеяться в утреннем свете зарождающегося рационализма.
* * *
Случилось, однако, не то. Последовавшее за крушением ахейских держав полутысячелетие всецело принадлежит Эринии и ее правам. Это было одним из многих действий воссиявшей тогда над Грецией религии Аполлона.
Одной из особенностей этой религии было благоговейное отношение к Земле:
Зиждет плоды вам Земля – величайте же матерью Землю!
А с нею и к тем душам, которые она принимает в свое лоно; достаточно тут вспомнить об институте героизации, благодаря которому вся Греция, рачением Аполлона, покрылась могилами избранных покойников-героев.
Мы не можем здесь вполне учесть значение того факта, что обычай погребения трупов, по-видимому никогда не искорененный в собственно Греции, в нашу эпоху сосуществует с проникшим из Малой Азии обычаем их сжигания. Последствием этого сосуществования была поразительная противоречивость в представлениях о пребывании переживающей души: она обитает и в могиле, где погребено тело, и в туманном всеобъемлющем царстве Аида, которое для большей убедительности было с далекой западной окраины перенесено под землю. Как бы то ни было, в нашу эпоху присутствие души и ее Эринии чувствуется живее, чем в мире Гомера.
Но и помимо того, вследствие более глубокого проникновения религии во все сферы жизни, усиливается строгость в отношениях человека к своим обязанностям. И вот под влиянием всех указанных моментов гомеровская сговорчивость, о которой была речь выше, снова исчезает: религия Аполлона упраздняет виру. Провозглашается принцип, что нет выкупа за пролитую кровь[22]22
Другими словами, провозглашается принцип: «кровь за кровь», или, в более общей форме: δράσαντι παϑεῖν, «что совершил, то и претерпи». Это – так называемый «Радамантов суд». Радамант был сыном Зевса; религия Аполлона любила свои институты возводить к Зевсу.
[Закрыть]. Этим восстанавливаются во всем их объеме права опечаленной и разгневанной души: ее Эриния, собиравшаяся было рассеяться, вновь восстает грозным призраком у могилы убитого, требуя крови за кровь.
Но это признание долга кровавой мести было лишь принципиальным: не для того устранил Аполлон прежнюю сговорчивость, чтобы воскресить в Греции первобытные ужасы взаимоистребления родов. Взамен упраздненной виры Аполлон ввел религиозное очищение убийцы. Это был довольно сложный обряд; его главными составными частями было, во-первых, символическое окропление кровью зарезанного поросенка («очищение» в тесном смысле), а во-вторых, годовая служба убийцы у своего очистителя, к которому он становился в отношения подчиненного – не то слуги, не то сына. Так некогда сам Аполлон, убив Пифона (или, по другому преданию, киклопов), очистился от этого убийства, поступив слугою к фессалийскому царю Адмету: этим он и людям показал путь к такому же очищению и успокоению гнева Эринии.
Позднейшие греки находили этот обряд недостаточным – уже начиная с Гераклита, сказавшего, что очищать себя кровью животного от пролитой крови человека – то же самое, что грязью смывать грязь. Спорить об этом бесцельно. Обряд до тех пор силен, пока он сознается таковым; это – с субъективной точки зрения. А с объективной – нельзя не признать огромного прогресса в том, что, благодаря Аполлоновой «катартике», и взаимоистребления родов, и постыдные торги о пролитой крови отошли в область прошлого.
Интересно проследить, как во всех этих превращениях изменяется персонал, так сказать, драмы мести. Первоначально он был простым, состоя лишь из души убитого, она же и Эриния, и из убийцы. Затем на помощь душе-Эринии является ближайший родственник; затем этот родственник, вступая в частное соглашение с убийцей, оттесняет душу-Эринию. Теперь в дело вмешивается новое, постороннее лицо – Аполлон, или, что одно и то же, очиститель, и центр тяжести перемещается: главным оказывается акт, в котором участвуют только очиститель и убийца. Спрашивается, что же сталось со столь торжественно восстановленными правами души-Эринии, или, вернее, души и Эринии? На это мы ответ дать можем: очищенный должен был умилостивить их гнев. А родственник? Здесь в традиции пробел. Все же есть основания предполагать, что и он так или иначе был замешан; на это указывает его роль в следующем, последнем фазисе развития идеи мести.
* * *
Подготовлен он был, с одной стороны, тем элементом вмешательства постороннего убийству лица, который был привнесен религией Аполлона; с другой стороны, недостаточностью для прогрессирующего сознания эллинов того чисто религиозного очищения, которое она предлагала. Вмешательство было удержано, но оно было предоставлено уже не богу, а государству. Состоялась ли эта метаморфоза повсеместно в Элладе, мы сказать не можем; то, что нам о ней известно, относится преимущественно к Афинам и их ареопагу.
Если было совершено убийство, то право и долг мести принадлежали ближайшему родственнику убитого; чаще всего, разумеется, сыну. Но в исполнении этого долга мститель должен был строго держаться определенного государством законного пути: он требовал убийцу перед государственный суд. Если убийство было «нечаянным» или «справедливым» – только теперь были введены эти понятия – то суд оправдывал обвиняемого и этим самым обеспечивал его ото всех попыток частной мести со стороны обвинителя. В противном случае обвиняемому предоставлялось еще до последнего слова обвинителя добровольно удалиться в изгнание; если же он упорствовал в надежде на оправдание и суд признавал его виновным, то и его наказание – казнь – была делом государства. Душе убитого и гневным Эриниям давалось самое полное удовлетворение, на какое они могли рассчитывать: кровь за кровь. Но в то же время были предупреждены непрерывность цепи убийств и взаимоистребление родов: так как искупительная казнь была делом государства, а не родственника-обвинителя, то и месть за нее не могла быть обращена против последнего. Смерть осужденного убийцы не призывала к жизни новой мстительной Эринии: она была не продолжением, а завершением.
Этот фазис, последний для античного мира, допускал одно только развитие – такое, при котором не только суд и кара, но и само возбуждение преследования отошло бы к государству, а ближайшему родственнику «потерпевшего» осталась бы только роль свидетеля и частного истца. Другими словами – учреждение государственной прокуратуры. Для античного общества этот шаг был невозможен: он уничтожил бы последние следы долга мести.
А раз он не был сделан, мы имеем право утверждать, что долг кровавой мести, несмотря на все превращения, которые его исполнение испытало от древнейших времен и до исторической эпохи Греции, был так же жив в сознании афинян эпохи Перикла и Демосфена, как и в сознании героев отдаленнейшей ахейской старины. И действительно, мы можем привести этому ряд примеров.
Одним из самых возмутительных проявлений террора при беззаконном правлении 30 тиранов была казнь демократа Дионисодора и его товарищей по почину некоего Агората: сознание афинян спокойных эпох приравнивало эту казнь к убийству. И вот, говорит позднее обвинитель («Лисий против Агората»), «Дионисодор зовет к себе в тюрьму мою сестру, а свою жену; на его зов она пришла, вся в черном, как это было естественно при таком несчастии ее мужа. В присутствии моей сестры Дионисодор распорядился по своему усмотрению относительно своих домашних дел, а затем назвал вот этого Агората виновником своей смерти и вменил в обязанность мне и вот этому Дионисию, своему брату, и всем своим друзьям отомстить за него Агорату. А своей жене он вменил в обязанность, полагая, что она беременна, – если она родит сына, сказать рожденному, что Агорат убил его отца, и приказать ему отомстить за него Агорату как его убийце». Этому долгу мести говорящий удовлетворяет, обвиняя Агората перед судом ареопага.
В эпоху пелопоннесской войны один афинянин, имевший сына от умершей жены, женился на другой женщине и затем, имея детей также и от нее, был ею отравлен. И вот по прошествии времени сын от первого брака, возмужав, обвиняет свою мачеху перед судом ареопага. Он сознает тяжесть своего долга: «Я еще молод и в судебном деле несведущ, – говорит он, – и нахожусь в ужасном и безвыходном положении. Могу ли я не преследовать убийц моего отца, в то время как отец наказал мне их преследовать? Но каково, с другой стороны, преследуя их, стать врагом своих естественных друзей, единокровных братьев и матери братьев? Ведь судьба и сами они заставили меня выступить перед судом против них, которые должны бы были стать мстителями за убитого и помощниками мне… Да, дивлюсь я брату, как мог он выступить моим противником; неужели он считал это благочестием – не изменять матери? Я же считаю гораздо более нечестивым отказаться от мести за убитого: он ведь против своей воли был предумышленно умерщвлен, она же добровольно и сознательно его убила». Рассказав затем, как его отец был убит за обедом «кознями этой новой Клитемнестры, матери моего брата», обвинитель призывает судей пожалеть не убийцу, а убитого, ссылаясь на общую участь убиваемых. «Если они могут, если смерть не предупредит их воли, они созывают своих друзей и близких, призывают их в свидетели, говорят им, кто их убийцы, и наказывают им отомстить за их обиды. Так и мне, еще малолетнему, отец в своей роковой предсмертной болезни наказал отомстить за него… И вот я рассказал вам все и пришел на помощь убитому и закону; теперь за вами дело – послушаться собственной совести и постановить приговор по справедливости. Я верю, однако, что и боги преисподней не отнесутся безучастно к своим обидам». Я нарочно остановился несколько подробнее на этой малоизвестной «речи против мачехи», ровеснице нашей «трагедии возмездия»; читатель той и другой будет поражен многочисленными точками соприкосновения между трагедией и жизнью.
Приведу еще один пример, несколько отличный по своему характеру от этих двух. Здесь мы имели родственников, благочестиво исполняющих возложенный на них убитым долг мести; образчиком противоположного отношения к делу может послужить нам тот Феокрин, против которого произнесена сохраненная нам среди Демосфеновых речь. «Когда его брат, – говорит обвинитель, – умер насильственной смертью, он вот как отнесся к этому: он выследил убийц, узнал их имена и затем, получив от них денег, оставил их в покое… Как он грозил после его смерти, как он всем говорил, что призовет Демохара перед суд ареопага! А в конце концов – примирился с виновниками!»
Это место чрезвычайно характерно. Ведь Феокрин в сущности поступил точно так же, как в героическую эпоху мог поступить всякий порядочный человек! Вспомним (см. выше) слова Гомера:
Брат за убитого брата,
Даже за сына убитого пеню отец принимает;
Самый убийца в народе живет, отплатившись богатством,
Пеню же взявший – и мстительный дух свой, и гордое сердце,
Все, наконец, укрощает.
И что же? Там, у Гомера, Аянт, этот благородный витязь, ставит эту сговорчивость в пример непримиримому Ахиллу; здесь, в эпоху Демосфена, оратор за нее же поносит Феокрина. Вот какой переворот произвела в нравственном чувстве людей религия Аполлона!
Из этих примеров, далеко не единственных, мы видим, что Эриния убитого была еще реальным существом для современников Софокла. Правда, развиваясь вместе с окружающим ее обществом, она изменила орудие своей воли. Она более не вручала мстителю меча, требуя от него, чтоб он самолично кровь за кровь взыскал. Но она изменила именно только орудие. По-прежнему ее гложущий взор был устремлен на ближайшего родственника убитого, требуя его почина; по-прежнему она карала его за упущение если не ночными страхами и болезнями, то не менее убийственным презрением той самой правосудной общины, к которой он не пожелал обратиться.
А если так, то для людей этой эпохи были непосредственно понятны и те нравственные конфликты, которые Софокл им изобразил в своей трагедии – трагедии Агамемнона и Клитемнестры, Ореста и Электры.
II
Эта трагедия сопровождала идею возмездия на всем пути ее развития: вряд ли какая-нибудь другая мифологема была так прочно и длительно прикована к определенному нравственному принципу, как она. Но все же и она имела свое еще более древнее, донравственное существование, служа мифологическим выражением главного догмата религии Зевса. Правда, об этом донравственном фазисе мы можем только догадываться, руководясь пережитками лингвистического и культового характера, причем среди последних особенно важно сохранившееся отождествление Агамемнона с Зевсом. Религия Зевса построена на дуализме: рожденный во времени Зевс должен со временем погибнуть от своей супруги Земли и ее Змея; но за его гибель отомстит его сын, основатель нового мира. Так возникла в фантазии первобытных эллинов великая космогоническая четверица: Агамемнон, Клитемнестра, Эгисф и четвертый – тот, который позднее, под влиянием религии Аполлона, получил имя Ореста.
Как видит читатель, мы уже в этой первоначальной космогонической концепции имеем и мужеубийство и матереубийство – первое в убийстве Агамемнона, второе в мести за него; но пока эта концепция была еще космогонической и участвующие в ней силы ощущались еще как стихийные, а не человеческие, нравственного соблазна еще не было. Очеловечение мифа, однако, неизбежно должно было внести и нравственный элемент. Не скажу, чтобы этим самым был внесен и нравственный соблазн. Клитемнестра убила своего мужа Агамемнона – что ж, за это и она была убита своим и ее сыном Орестом. В те отдаленные времена, когда к кровавой мести относились с непреклонной суровостью, такой исход был в порядке вещей: сын отомстил за отца, пролившая его кровь ответила своей кровью. Иначе и быть не могло.
* * *
Но мы видели: гомеровские времена признают уже известное смягчение кровавой мести. А раз воззрения стали гуманнее, то и в мифе чрезмерную суровость пришлось удалить. Орест был с самого начала намечен как предмет всеобщей симпатии: с этой симпатией представление о матереубийстве стало несовместимым. Устраняя, однако, матереубийство Ореста, пришлось устранить и его причину – мужеубийство Клитемнестры. Под влиянием этих двух соображений возникла гомеровская концепция нашего мифа; она была развита в потерянной «киклической» поэме под названием «Νόστoι» (о возвращении богатырей из-под Трои) и восстановляется нами на основании намеков, рассыпанных там и сям в «Одиссее». Гласит она так.
Отправляясь под Трою, Агамемнон оставил своего младенца-сына Ореста и свое царство Аргос (или Микены) под опекой своей жены Клитемнестры. Воспользовавшись его отсутствием, его двоюродный брат Эгисф стал склонять одинокую царицу к измене. Она долго сопротивлялась ему: «сердцем она одарена была добрым», – говорит Гомер («Одиссея»), явно стремящийся ее выгородить; к тому же ее супруг, уезжая, оставил ее под охраной певца – да, именно певца: в этой маленькой подробности сказывается гордость эпических поэтов, чувствовавших себя нравственной силой до тех пор, пока их в этой роли не заменила религия.
Но вот неизбежное свершилось: певец-хранитель был удален на пустынный остров, где он стал добычей хищных птиц. А Клитемнестра стала супругой Эгисфа. Некоторое время спустя Троя пала; Агамемнон с добычей, среди которой находилась и троянская царевна Кассандра, вернулся в свои родные Микены. Эгисф, уведомленный о его прибытии, вышел к нему навстречу и пригласил его на пир; и вот за дружеской трапезой он его убил, «как быка у яслей». Умирая, Агамемнон услышал жалобный голос – голос Кассандры, пораженной насмерть ударом Клитемнестры; долго метался он на земле, Клитемнестра же ушла, не закрыв даже глаз убитому мужу. Вот, значит, в чем ее вина; мужеубийцей она по этой редакции не была.
Семь лет царствовал Эгисф над Микенами; на восьмой год Орест вернулся из Афин[23]23
Эта локализация, равно как и дельфийская локализация царства Агамемнона в спартанских Амиклах вместо Микен (об этом ниже), возникла в видах использования старинной гегемонии Атридов с политическими целями. Ср. об этом мою статью «Идея нравственного оправдания» («Из жизни идей», т. I).
[Закрыть], убил Эгисфа и торжественно со всеми почестями отпраздновал тризну («Одиссея»):
По преступнице-матери вместе с Эгисфом презренным.
Мы удивлены: при чем тут мать? О ее гибели не сказано ни слова. Конечно, она погибла вместе со своим любовником, но певец об этом не говорит. Почему? Потому что он хотел снять со своего любимца Ореста клеймо матереубийства. Возможно, что это умолчание было делом певца «Одиссеи», между тем как певец «Ностов» рассказал дело без утайки: действительно, именно «Одиссея» нуждается в идеальном образе Ореста, так как именно здесь он ставится в пример Телемаху:
Счастье, когда у погибшего мужа останется бодрый
Сын, чтоб отмстить, как Орест, поразивший Эгисфа, которым
Был умерщвлен злоковарно его многославный родитель.
Так и тебе, мой возлюбленный друг, столь прекрасно созревший,
Должно быть твердым, чтоб имя твое и потомки хвалили.
И кто знает? Быть может, если бы миф развивался далее по этому пути, Клитемнестра превратилась бы в добродетельную супругу, подобно Исиде в параллельном египетском мифе, в котором Осирис соответствует Агамемнону, Сет-Тифон – Эгисфу, а Гор – Оресту. Но наш миф был заблаговременно захвачен другой религиозно-нравственной силой, которая вернула его к первоначальной резкости, чтобы сделать его носителем новой идеи. Читатель знает уже, что этой силой была религия Аполлона.
* * *
Как мы уже видели, Аполлон признавал право души убитого на кровавую месть в ее полном объеме, без ограничений. Именно для выражения этого «без ограничений» миф о мести Ореста в его первоначальном виде был как нельзя более приспособлен. Агамемнона убила его собственная жена, носителем долга мести был его сын, который, таким образом, чтобы отомстить за отца, должен был убить свою мать – и тем не менее он от этого долга не освобождается. Мало того, чтобы не оставалось никаких сомнений, дельфийский миф заставляет подросшего Ореста обратиться к самому богу с вопросом, что ему делать, и бог под угрозой страшных кар приказывает ему отомстить за отца. Этим отношение Аполлона к вопросу о кровавой мести было выражено как нельзя ярче.
Его органом в этом случае, как и во всех других родственных ему, была лирическая поэзия VII–V веков; первое место занимает здесь «Орестея» Стесихора, пространная поэма (в двух книгах) лирико-эпического характера. Она нам не сохранена, но ее содержание тем не менее может быть восстановлено на основании следов как в литературных, так и в изобразительных памятниках. Вот оно.
Клитемнестра дала себя обольстить Эгисфу и с ним вместе задумала убийство Агамемнона, живя в Лаконике, в городе Амиклах близ Спарты. У Эгисфа, однако, главным побуждением была не любовь и не жажда власти: на нем лежал долг кровавой мести за своих маленьких братьев, варварски убитых отцом Агамемнона. Их тени требуют возмездия: за убийцу, которого уже нет, должен пасть его сын. Преступление было совершено непосредственно после того, как Агамемнон со своим верным глашатаем Талфибием вернулся из-под Трои: когда он вошел в купель, чтобы омыться после долгого пути, Клитемнестра надела на него длинный плащ наподобие рубашки без рукавов, чтобы он не мог защищаться, а затем секирой убила его. Эгисф непосредственного участия в преступлении не принимал – он действовал через Клитемнестру. Поэт Аполлона нарочно выдвигает на первый план ее, чтобы объектом кровавой мести для сына была родная мать.
Сын этот был тогда еще малолетним. Разумеется, Эгисф его бы не пощадил, его, в котором он должен был видеть будущего мстителя за смерть отца и постоянную угрозу для себя. К счастью, кормилица мальчика вовремя тайно увела его и передала Талфибию, а этот увез его из страны к давнишнему кунаку Агамемнона – царю фокейской Крисы у подножия Парнаса; тот и воспитал его вместе с собственным сыном Пиладом. Когда он вырос, он обратился к дельфийскому богу с вопросом, что ему делать; бог пригрозил ему страшным наказанием в случае, если бы он уклонился от долга кровавой мести, и велел ему хитростью бороться с силой. После этого ответа Орест с Пиладом и Талфибием отправились в Амиклы.
В это время и Клитемнестре приснился страшный сон: ей привиделся змей с окровавленной головой, и этот змей внезапно превратился в царя Агамемнона. Встревоженная сном, виновником которого она считает своего покойного мужа, она посылает свою дочь Электру – вот где эта героиня впервые появляется – вместе со старой кормилицей принести умилостивительные возлияния на его могилу. И вот у могилы Агамемнона, гневная тень которого незримо стоит в центре событий, происходит тайный разговор между братом и сестрой; цель его – открыть трем посланцам дельфийского бога доступ в царские палаты. Это удается; увидев Эгисфа на престоле своего отца, Орест бросается на него с мечом в руке. Тщетно царские телохранители спешат на помощь: Пилад не дает им приблизиться. Тогда Клитемнестра с секирой в руках – той самой, которой она некогда убила мужа, – заступается за Эгисфа; но Талфибий вырывает ее из ее рук, и Орест, покончив с Эгисфом, тут же убивает и свою мать.
И разумеется, это не конец: миф должен был ответить на вопрос, каким образом, при безусловности долга кровавой мести, раз совершенное убийство не является первым звеном в целой цепи убийств. И мы знаем уже, в каком смысле ответ будет дан.
Убийство матери сыном вызывает из преисподней богинь-мстительниц Эриний; они преследуют убийцу, не давая ему покоя: он бежит на север, к храму того бога, который руководил его душой. И Аполлон не оставил его: очистив его, он дал ему лук и стрелы, чтобы защищаться от преследования Эриний. Преисподняя бессильна против стрел, от которых некогда погиб великий Змей-Пифон: Эринии вернулись в свою мрачную обитель, и Орест окончательно занял престол своего отца.
* * *
Кто возьмет на себя труд внимательно сравнить этот дельфийский вариант с гомеровским, тому бросится в глаза, помимо важной этической разницы, и не менее важная эстетическая. Только здесь, в дельфийском варианте, миф об Оресте получил трагическую окраску. В гомеровском ее не было: Орест, возмужав, возвращается, убивает убийцу своего отца и обольстителя своей матери и получает царство и славу; это очень почтенно, но и очень прямолинейно: конфликта нет, а значит, нет и трагедии. В дельфийской редакции не то: если долг благочестия по отношению к отцу может быть исполнен не иначе как путем матереубийства, то этим самым дан зародыш мучительного конфликта, потрясающей трагедии.
При всем том нельзя скрывать от себя, что гомеровский вариант нашему чувству ближе. Убийство сыном убийцы его отца и обольстителя его матери – если вообще может быть справедливое убийство, то именно это. Но привнесение матереубийства совершенно меняет дело. Когда голос отца взывает «отомсти», а голос матери – «пощади», то для нас второй голос заглушает первый. Почему же эллины судили иначе? Были они менее чувствительны к голосу матери? Нет; но они были более чувствительны к голосу отца.
В этом действительно вся суть. У нас – я говорю об интеллигенции – нет прежде всего того религиозного фундамента, на котором построена трагедия Ореста. Мы вообще плохо верим в переживание отделенной от тела души; а поскольку верим, представляем ее себе в таком состоянии, в котором ни исполнение мести не может увеличить ее блаженства, ни ее неисполнение – ее страданий.
Но постараемся хотя бы усилием фантазии на время проникнуться воззрениями Аполлоновой религии. Пусть на время для нас будет реальностью эта душа убитого отца: она омрачена и опечалена, и эта печаль будет продолжаться до тех пор, пока кровь убийцы не будет принесена ей в жертву. Итак, отец взывает о прекращении могущего стать вечным страдания; мать – о продлении на несколько лет скоротечной земной жизни. Удивительно ли, что в этом конфликте побеждает первый голос, а не второй? Что именно за эту победу потомки Ореста в Афинах на все время получили имя «добрых сыновей» (Евпатридов)?
Следует, однако, обратить внимание еще на одно обстоятельство. Как читатель мог убедиться, дельфийская Орестея впервые вводит в миф личность Электры как сестры Ореста. В сущности оба эти имени возникли одновременно, как только миф о смерти Агамемнона вошел в кругозор религии Аполлона: Зевсу-Агамемнону естественно был дан сыном Аполлон-Орест: действительно, «Орест» (от ὄρoς «гора») – не более как эпитет Аполлона, владельца святой горы Парнаса; Электра же, «лучезарная», – столь же естественный эпитет его сестры Артемиды. Религия Аполлона дельфийского уже зарождалась, когда возникла «Одиссея» и последние наслоения «Илиады»; неудивительно поэтому, что в них попало имя Ореста. Могла попасть и Электра; ее роль и в дельфийской Орестее так незначительна, что ее отсутствие в «Одиссее» может быть делом пустой случайности.
Как бы то ни было, а в том виде, который получила Орестея в дельфийской легенде, она так и просилась в трагедию. Она и попала в нее, когда настало время – и прежде всего в трагедию Эсхила.
* * *
Точнее – в трилогию: по своему обыкновению Эсхил сделал судьбу Ореста предметом трех продолжающих друг друга драм, которые по исключительно счастливой случайности нам сохранились все. Это – «Агамемнон», «Хоэфоры» и «Евмениды», поставленные в 458 г. в качестве одной из последних трилогий старого поэта.
Не имея основания изменять родины Агамемнона в угоду покровительствуемой Дельфами Спарте, Эсхил оставляет его царем золотых Микен, возвращаясь этим к Гомеру; но в дальнейшем он следует дельфийской традиции, как более трагической. Убийство Агамемнона происходит в его дворце, у купели, с помощью предательского плаща, руками Клитемнестры – Эгисф приходит лишь тогда, когда все дело уже сделано. Какие же поводы были у Клитемнестры? По ее словам, она мстила прежде всего за смерть дочери Ифигении, которую Агамемнон заклал в Авлиде, чтобы умилостивить ее кровью разгневанную Артемиду и вымолить у нее попутный ветер под Трою. Побочным поводом была ревность: в привезенной Агамемноном пленнице Кассандре она почуяла соперницу – справедливо ли или нет, этого поэт не говорит. Но второю и, пожалуй, главною причиною была ее любовь к Эгисфу, который пользовался ею как орудием собственной мести.
Этим убийство Агамемнона введено в цепь преступлений, превративших дом Атридов в дом ужасов. Атрей, брат Фиеста, был мужем Аэропы. Ее обольстил Фиест. Мстя Фиесту, Атрей заманил его к себе в дом и там угостил плотью его, Фиеста, младенцев-детей – знаменитый «Фиестов пир», от которого солнце отвернулось. Теперь в отомщение за это неслыханное дело, сын Атрея Агамемнон гибнет по замыслу последнего Фиестова сына Эгисфа. Видно, дух-мститель (Аластор) поселился в доме Атридов; каких жертв потребует он еще?
Своего мужа Клитемнестра принесла в жертву своему любовнику: своего сына она ему принести в жертву не решилась. Мать в ней заговорила, и она сама еще до возвращения мужа отправила малолетнего Ореста к его другу и зятю Строфию, царю приморской Крисы под Парнасом. Это – чисто эсхиловская черта: не кормилица, как в дельфийской Орестее, а сама Клитемнестра спасает Ореста от Эгисфа. В этом ее первая материнская непоследовательность. Вторую она проявляет после убийства под влиянием упреков хора, старых царских советников. Когда они указывают ей на Аластора, она поражена; ей вмиг становится ясной ее чисто страдательная роль как орудия в руках этого страшного духа. Она согласна отдать ему все, провести дальнейшую жизнь в бедности, лишь бы он успокоился и отказался от новых жертв.
Но с приходом Эгисфа это настроение исчезает, прежняя преступная самоуверенность к ней возвращается. Она продолжает жить царицей и лишь в ночной тишине приносит тайные жертвы богиням преисподней – Эриниям.
Проходят года; наступает для Ореста пора юности. Он обращается к Аполлону в Дельфы; тот велит ему под угрозой кары отомстить за отца. Начинается вторая драма – «Хоэфоры» (т. е. «приносительницы возлияний»).
Приснился Клитемнестре страшный сон – будто она своей грудью кормит маленького змея и этот змей впивается в ее грудь и вместе с молоком высасывает ее кровь. Приписывая этот сон гневу супруга, она посылает на его курган свою дочь Электру и прислужниц с возлияниями. Принося таковые, Электра находит на кургане срезанную прядь волос и отпечаток чьей-то ноги. Голос сердца ей говорит, что и то и другое оставил ее брат Орест. Она права: еще до ее прихода на могиле отца был Орест с Пиладом; шествие прислужниц заставило их отойти в сторону, но теперь Орест, тайно следивший за всем, внезапно выходит к сестре и открывается ей. Встреча брата и сестры описана кратко; главное – это долг плача и долг мести. Первый исполняется с той обстоятельностью, с которой Эсхил любил относиться к религиозным обрядам; второму посвящена вторая половина трагедии. В ней Электра уже никакого участия не принимает: она была нужна только для подготовительных действий.
Орест и Пилад стучатся в дверь дома Атридов, требуя, чтобы к ним вышла царица. Она выходит. Они называют себя пришельцами из парнасской страны; им поручено передать весть о смерти Ореста. При этой вести внезапно пробуждаются добрые чувства в Клитемнестре: та же материнская непоследовательность, которая некогда заставила ее спасти Ореста, теперь наполняет ее душу искренним материнским горем. Но это не всё. Орест был для нее не только сыном – он был последним звеном, соединявшим ее с миром чести и добра; с его помощью она надеялась когда-нибудь – как, в этом она не отдавала себе отчета – освободиться от той «кровавой грязи», которая ее все более и более засасывала. Теперь все кончено.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.