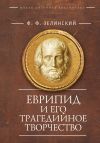Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 33 страниц)
III
«Царь Эдип» был не единственной и, по всей видимости, не первой трагедией Софокла, посвященной идее рока: она стояла в центре также его «Ларисейцев» и «Смерти Одиссея».
Там была описана гибель аргосского царя Акрисия, согласно пророчеству, от руки сына своей дочери Данаи. Чего только не делал жизнелюбивый царь, чтобы избегнуть этой смерти! Он заключил свою дочь в недоступный терем; но Зевс навестил ее в виде золотого дождя и сделал матерью Персея. Он бросил младенца в ларец и отдал его на произвол моря; но волны пригнали его к острову Серифу, и он был спасен. Много спустя они встретились в фессалийской Ларисе, куда одинокого Акрисия загнал все тот же страх смерти; они узнали друг друга, благородный Персей успокоил своего деда и убедил его вернуться в Аргос. Но как раз тогда ларисейцы устроили у себя игры; Персей принял в них участие и нечаянно диском убил Акрисия.
Нас несколько расхолаживает это «нечаянно»; хотя, конечно, не обладая самой драмой, нельзя судить о том, насколько поэту удалось игру случайности подчинить беспощадной воле Миры. Трагичнее во всяком случае по самому характеру своей фабулы была «Смерть Одиссея» (Ὀδυσσεὺς ἀκανθοπλήξ). Одиссею было предсказано в Додоне, что ему предстоит «смерть от сына». На этом основании он держал Телемаха вдали от себя. Однажды он узнал, что на остров высадились пираты. Он вышел против них и был смертельно ранен их предводителем. Умирая, он призвал его к себе и, сообщив ему данный ему оракул, – очевидно, не сбывшийся, – наказал ему:
И додонского владыки славословья прекрати!
Его противник, однако, разочаровал его, объяснив ему, что он – его сын от Цирцеи Телегон, отправившийся искать своего отца.
Но как бы то ни было, эти попытки трагического претворения идеи рока далеко оставила за собой истинно дельфийская трагедия Софокла «Царь Эдип». В трагедию рока поэт ее превратил тем, что вырвал ее из трилогической связи, сосредоточив весь свой и наш интерес на личности Эдипа. У Эсхила он был лишь передаточным звеном в цепи Аластора, начавшейся с неповиновения Лаия и кончившейся взаимоубийством последних Лабдакидов; у Софокла не то.
Правда, с Лаия и у него начинается фабула трагедии, а именно с данного ему оракула,
Что смерть он примет от десницы сына,
Рожденного в законе им и мной, —
как потом рассказывала Иокаста. Это – знакомый нам уже обусловленный фатализм: сына он мог родить, но мог и не родить. Но сын родился, и с минуты его рождения рок навис и над ним. И вот начинаются меры, сначала отца, а затем и сына, чтобы уйти от объявленной Аполлоном Зевсовой воли.
Меры отца нам уже известны: ребенку он прокалывает ножки и велит рабу-пастуху бросить его на пустынном склоне Киферона. Киферон избран именно как нелюдимое место, а не потому, что там был заповедный луг Геры: эта богиня в нашей трагедии так же упразднена, как и у Эсхила. Но раб-пастух «из жалости» передает его коринфскому пастуху (Евфорбу); тот, ничего об этом не говоря своему фиванскому товарищу, дарит его своему бездетному царю Полибу. Так Эдип вырос коринфским царевичем. Что оба пастуха стали отныне приближенными каждый своего царя, в этом ничего удивительного нет: оба были соучастниками важной тайны, а времена были простые.
Но вот, когда Эдип был уже молодым человеком, а Полиб и его жена Меропа состарились, во время пирушки какой-то сын вельможи (Эдип позднее подчеркивал, что этот его товарищ был очень пьян) бросил царевичу в лицо упрек, что он – не настоящий сын своего отца. На следующий день оскорбленный обратился к родителям с вопросом и с жалобой. Те обидчика наказали, Эдипа же успокоили. Все же оскорбление получило огласку; стали распространяться злорадные сплетни. Чтобы положить им предел, Эдип отправляется в Дельфы: пусть непреложное свидетельство бога заставит замолчать злонамеренные наветы людей.
Весь этот эпизод – новшество Софокла; чтобы его оценить, мы должны принять на веру его указание, что переговоры Эдипа с родителями вырвали из его души всякое сомнение в том, что он их сын. И поэт прекрасно обосновал эту его уверенность: когда, много позднее, Эдип слышит из уст Евфорба ясное доказательство того, что он не сын Полиба, ему все-таки не верится, он с отчаянием спрашивает:
Из рук чужих? И так любил? Так нежно?
Этого, кажется, достаточно для того, кто одарен живым сердцем в груди. На одной чашке весов нежная родительская любовь Полиба, на другой – брошенное с пьяных глаз бранное слово. Диво ли, что первая победила?
Нет-нет: отправляясь в Дельфы, Эдип не сомневается в том, что он сын Полиба; он хочет только, чтобы Аполлон это торжественно подтвердил и этим пристыдил его врагов. Так поступали и в исторические времена: когда в Спарте возникли сомнения относительно законности происхождения царя Демарата, послали в Дельфы вопросить бога, и его ответ решил дело, – правда, этот раз в отрицательном смысле.
Впрочем, Эдипу дельфийский бог на его вопрос ничего не ответил, зато он предсказал ему, что ему суждено убить своего отца и жениться на своей матери. Это уже не обусловленный фатализм, а тот безусловный, который, согласно вышеразвитой формуле, получается из обусловленного как его беспощадно логическое развитие, при включении в цепь предопределенных событий свободной человеческой личности. Эта безусловность не ощущалась как таковая, пока предметом внимания бога и нашего был Лаий, а Эдип был лишь орудием его обусловленной гибели; но она получилась тотчас же, как только центр тяжести был с Лаия перемещен на Эдипа. Это перемещение было именно делом Софокла, впервые сделавшего Эдипа, а не род Лабдакидов вообще героем своей трагедии. Оттого-то он, повторяя мотив Лаия, отправил Эдипа в Дельфы, чтобы он и сам знал о тяготеющем над ним роке. Делал все от него зависящее для избежания его и тем не менее пал его жертвой.
Итак, ему суждено убить отца и жениться на матери. Это значит – повторяю, что со стороны Эдипа в этом никакого сомнения быть не могло, – убить Полиба и жениться на Меропе. Отсюда вывод один: нельзя возвращаться в Коринф. Эдип так и решил поступить. Он идет куда глаза глядят по дороге, ведущей на восток. На распутье – дельфийском распутье, как видит читатель, – с ним встречается старик на повозке с глашатаем и еще тремя спутниками. Возникает спор, затем дело доходит до насилия – пятеро против одного. Тем позволительнее этому одному защищаться всеми средствами; четверых он убивает, пятый спасается бегством. В героической Греции при полной необеспеченности больших дорог такие столкновения были явлением повседневным; они едва обременяли память молодого витязя и уж никак не тяготили его совести. Покончив с этим приключением – одним из многих, – Эдип пошел дальше.
Остановимся, однако. Как видно из сказанного, Софокл первый перенес столкновение отца и сына с потнийского распутья на дельфийское; это было прямым последствием отправления Эдипа в Дельфы. Но как попал туда Лаий? Это у Софокла ясно сказано: он хотел и сам вопросить оракул. О чем? Не все ли равно? Мало ли какая могла встретиться надобность в государственной ли, или в частной жизни! Последователь Софокла Еврипид призадумался и над этим вопросом и ответил на него так: он хотел узнать, подлинно ли погиб его младенец-сын («Финикиянки»). Но Софокл, повторяю, не счел нужным об этом распространяться.
Итак, Эдип со спокойной душой пошел дальше, через орхоменское царство в Фивы; здесь он застает Сфинкса. Откуда и как явился он? В киклической «Эдиподее» мотивировка имелась: хищную певицу послала Гера, оскорбленная нечестивым поступком Лаия. В трагедии Софокла Гера отсутствует и Лаий уже убит; старая мотивировка покинута, новой не дано. Это любопытно; вспоминается критика Толстого на шекспировского «Короля Лира» в сравнении с драмой его предшественника. Но стоит ли об этом рассуждать? Мотивировки нет, да и не нужно. Мы знаем ведь: Мира управляет событиями – она и Сфинкса наслала на Фивы, дабы исполнилось слово. И этот Сфинкс уже не просто хищник – он предлагает загадки и ставит свое собственное самоуничтожение в зависимость от их разрешения. Наш поэт и здесь заменил киклическую концепцию дельфийской и обогатил аттическую сцену двумя внушительными, глубокомысленными образами: загадочный Сфинкс, мудрый Эдип. Вскоре придумали даже, по замыслу очень недурно, и тексты как самой загадки, так и ее решения. Сфинкс предлагает следующее:
Есть существо на земле: и двуногим, и четвероногим
Может являться оно, и трехногим, храня свое имя.
Нет ему равного в этом во всех животворных стихиях.
Все же заметь: чем больше опор его тело находит,
Тем в его собственных членах слабее движения сила.
И Эдип отвечает:
Внемли на гибель себе, злоименная смерти певица,
Голосу речи моей, козней пределу твоих.
То существо – человек. Бессловесный и слабый младенец
Четвероногим ползет в первом году по земле.
<Дни неудержно текут, наливается тело младое;
Вот уж двуногим идет поступью верною он.>
Далее – старость приспеет, берет он и третью опору, —
Посох надежный, – и им стан свой поникший крепит.
Так ли представляя себе дело Софокл, мы не знаем. Но как бы то ни было, загадку Сфинкса Эдип разрешил; хищница бросилась в пропасть, а Эдипу досталась награда, обещанная правителем Креонтом освободителю города, – рука царственной вдовы и держава. «Сын Полиба» стал царем фиванским и мужем Иокасты, своей неузнанной родной матери.
Около пятнадцати лет прожил он в счастливом браке с ней, прижив за это время четверых детей. Старшей была дочь; ее мать, с тайной мыслью о давно погибшем первенце, назвала загадочным именем, «взамен рожденной» – Антигоной; второй явилась опять дочь, которую благодарный отец назвал по имени бога фиванской реки Исменой. Потом настало завершение счастья, один за другим два сына; им Эдип дал подобающие царевичам имена Полиника и Этеокла – «Велегнева» и «Истослава». Страна процветала, граждане боготворили своего мудрого и великодушного царя. Одна только Мира, забытая, но неумолимая, по-прежнему стояла в тени, вперяя в счастливцев свой неусыпный взор.
Наконец, настало и ее время: над Фивами разразилась чума. Здесь – начало нашей трагедии.
* * *
В Греции было принято по поводу каждого тяжелого несчастья, свидетельствующего о гневе богов, обращаться за советом в Дельфы. Совет был обыкновенно сакрального характера: бог указывал тех богов и героев, в честь которых надлежало или возобновить забытый старый культ, или учредить новый. В данном случае это было тем более уместно, что чума еще со времени «Илиады» считалась аполлоновским бичом. Было поэтому вполне естественно, что Эдип отправил в Дельфы «феора»; эту почетную службу он возложил, что тоже было вполне естественно, на второго после него вельможу в государстве, на Креонта.
Заметим между скобок, что весь мотив чумы был нововведением Софокла; читатель увидит, как мастерски поэт воспользовался всеми его последствиями для душевной драмы героя.
Еще до возвращения Креонта трогательная «гикесия» граждан посещает Эдипа – с этой красивой живой картины и начинается действие трагедии. Ее драматургическая цель – представить нам воочию размеры постигшего Фивы бедствия и в то же время убедить нас в безграничном доверии народа к его любвеобильному, великодушному царю. Этой сценой заранее устраняется всякая возможность допустить какую-либо «вину» со стороны героя: он чист и безупречен, как золото.
И вот, наконец, является Креонт. Весть из Дельфов он принес – хорошую, как он объявляет, но все же не совсем такую, какой ждал Эдип. Ни старых, ни новых священнодействий бог не требует, царская казна может остаться нетронутой; он велит:
Заразу града, вскормленную соком
Земли фиванской, истребить, не дав
Ей разрастись неисцелимой язвой,
Изгнанием иль кровью кровь смывая, —
Ту кровь, что град обуревает ваш.
Приказ довольно туманен, но ведь Креонт, конечно, совещался с кем-нибудь из дельфийской коллегии «эксегетов», обязанностью которых было толковать ответы Пифии. Он поясняет, что бог велит отомстить за кровь Лаия, предшественника Эдипа, павшего на пути в Дельфы незадолго до его воцарения. Тогда Сфинкс заставил забыть об этом священном долге; но теперь вопли неотомщенной души достигли, наконец, до поверхности земли и отравили ее. Из расспросов выясняется далее, что один свидетель его смерти уцелел, но свидетель жалкий, о котором Креонт не может говорить без презрения:
Разбойники, – так молвил он, – сразили
Паломника несметных силой рук.
Остановимся здесь на минуту: мастерство Софокла в психологической мотивировке сказывается в этой маленькой черте с особой силой. Ведь если бы при намеке Креонта на гибель Лаия Эдипу припомнилось его собственное приключение на дельфийском распутье – это было необязательно: мы ведь видели, что это было для тех времен самое заурядное приключение, о котором не грешно было через пятнадцать лет позабыть, – но если бы даже оно ему припомнилось: показание единственного свидетеля, что Лаия убили «разбойники силою несметных рук», тотчас должно было заставить его вновь погрузиться под порог сознания. Разбойники, – значит, не он, не Эдип. Но как же, можно спросить, получилась эта ложь? Очень естественно. Граждане разорвали бы на части малодушного раба, если бы он признался им, что они вчетвером не могли спасти царя от руки одинокого путника. Только тогда мог он рассчитывать на прощение, если убийство Лаия было делом рук целой шайки разбойников.
Поверил ли ему трезвый Креонт, мы не знаем; но увлекающийся Эдип ему не только поверил – его показание стало для него поводом к новому подозрению, которому предстояло дать свои плоды лишь в следующем действии. Древнегреческие разбойники, подобно итальянским bravi не очень отдаленной эпохи, чаще всего служили тому, кому было выгодно купить их кинжалы. Кому же было выгодно убить Лаия? Кто унаследовал его державу и владел бы ею поныне, если бы не неожиданный приход Эдипа? Царь испытующе смотрит на своего шурина… Подозрение длится не более минуты, Креонт сразу устраняет его. Все же оно запало в душу Эдипа и, как сказано только что, всплывет наружу в следующем действии.
Пока же он весь проникнут сознанием своего долга мести. Он милостиво отпускает гикесию, приказывает собрать народ для выслушания его царского манифеста, а сам тем временем с Креонтом удаляется во дворец. Этому своему ближайшему советнику он открывает свое сердце: как обнаружить столь древнее преступление? Совет Креонта один: полагаться и далее на божью милость. Пусть то, что оставил недоговоренным Аполлон, доскажет его пророк на земле – слепой старец Тиресий. За ним и посылает Эдип вестника – сначала одного, а затем, ввиду странной медлительности Тиресия, еще одного.
Таков был совет Креонта – прошу запомнить, того самого Креонта, который принес Эдипу волю Аполлона, явленную в Дельфах.
Пока все это происходит за сценой, на сцену собирается созванный Эдипом народ, т. е., согласно обычаю трагедии, его символические представители, пятнадцать фиванских вельмож. Пролог кончен. Начинается парод.
* * *
Мольбы, плач о чуме и опять мольбы; это – музыкальный отзвук обуявшего город бедствия, трехчленная симфония, призывающая все силы нашей симпатии на свою среднюю, жалобную часть. Знатоки Фукидида охотно сравнят ее с величавым в своей спокойной объективности описанием афинской чумы во второй книге его исторического произведения, и это сравнение убедит их, что именно эта знаменитая чума и вдохновила нашего поэта обогатить свое творение этим благодарным мотивом. И они вспомнят также о том, кто был главной жертвой этой исторической чумы, – избраннике Миры, великодушном отпрыске «проклятого» рода Алкмеонидов Перикле.
И вот он сам – нет, его героический первообраз Эдип является перед нами; является для того, чтобы прочесть народу свой царский манифест. В нем он силою тех богов, которым он столько раз поручал благосостояние своей общины, заклинает всех знающих спасти эту общину выдачей убийцы, и призывает эту самую силу на голову этого убийцы в том случае, если б то его заклятие оказалось тщетным:
Убийца тот, кто б ни был он, повсюду
В земле, что скиптру моему подвластна,
От общества сограждан отлучен.
Нет в ней ему ни крова, ни привета,
Ни общей с вами жертвы и молитвы,
Ни окропления священных уз.
Вы гнать его повинны все, как скверну
Земли родимой, – так мне бог пифийский
В пророчестве недавнем возвестил.
Мира приподнимает покрывало со своего мраморного лика, и мы чувствуем на себе ее леденящий взор: заставив чистого юношу стать бессознательно отцеубийцей и кровосмесителем, она теперь заставляет его столь же бессознательно проклясть себя своими собственными устами.
Голос царя прозвучал и умолк; отклика ему нет. Но вот приходит, наконец, тот, в чьей душе сокровенные начертания Миры нашли свое самое чистое и четкое отражение, – пророк Тиресий. Он давно уже не жилец в мире людей: приобщенный небесной мудрости, открывающейся ему в воздушных кругах летающей птицы и в пламенных скрижалях горящей жертвы, он лишь изредка спускается к согражданам, чтобы возвестить им условия божьей благодати или приметы божьего гнева – в пределах, дозволенных Фебом. Он и стар и слеп; скоро его совсем не станет, его душа сойдет в подземную обитель, сохраняя и там ту высокую сознательность, которая его отличала при жизни, и Цирцея скажет про него Одиссею:
Он лишь в Аиде с умом, а другие тенями витают.
Но пока он еще на земле, ему не чужда та страсть, про которую наш поэт сказал в другом месте («Эдип Колонский»):
Ведь нет для гнева старости иной,
Чем смерть одна: лишь мертвые безбольны.
Тиресий вспыльчив. Не будь он таким, он не пришел бы к тому, кому он своим знанием уже не может помочь. Настойчивость Эдипа, пославшего ему после его первого отказа второго гонца, ожесточила его: «А, ты хочешь узнать во что бы то ни стало – хорошо, узнаешь!» Но Эдип встречает его с таким благородным увлечением, его речь дышит такой искренней любовью к отчизне, что он опять раскаивается в своем приходе. Нет, пусть Мира сама довершает свое дело, а он этому человеку не палач.
Тщетное раскаяние! Он сам и гнев его – лишь орудия в руках Миры. Когда разъяренный его повторным непонятным отказом Эдип его самого называет участником в убийстве Лаия, он не может стерпеть, он с высоты своего пророческого знания возвращает царю его обвинение. Да, тайный убийца – не кто иной как сам Эдип; его и только его имеет в виду Аполлон.
Это имя мгновенно освещает Эдипу весь окружающий его мрак. Вспомним скитания его дум. Лаий погиб от шайки разбойников; это лживое показание – для него исходная точка. Их руку направляло, очевидно, фиванское золото; но откуда лилось оно? Минутное подозрение против Креонта было взято назад. Теперь Тиресий называет убийцей его, Эдипа. Себя он чувствует невиновным: что общего между ним и шайкой разбойников? Но для чего же тогда обвинение? Очевидно, для того чтобы принудить его уйти из страны и оставить власть… кому? И вдруг в этих сумерках ясная точка – ссылка на Аполлона и его вещание. Кто это вещание принес из Дельфов? Креонт. Кто советовал послать за Тиресием, чтобы истолковать его? Креонт. Кто будет царем, если Эдипа не станет? Креонт. Такое совпадение улик не может быть случайным; точно прозрев, Эдип бросает прорицателю в лицо укоризну:
Креонта ль слышу вымысел – иль твой?
Пусть теперь вещатель раскрывает всю правду; Эдип глух для нее. Спаянные жаром гнева, эти три улики окружили его ум непроницаемой броней, все стрелы пророчеств от нее отпрянут.
Теперь центр внимания Эдипа перемещается. До сих пор он, благочестиво приняв на веру оракул Аполлона, старался исполнить его волю, чтобы спасти Фивы от чумы. Теперь этот оракул представляется ему выдумкой Креонта и Тиресия: они вдвоем решили воспользоваться всенародным бичом для того, чтобы, изгнав его, коринфского пришельца, удовлетворить свои собственные честолюбивые вожделения. Пусть же город ждет по-прежнему избавления от чумы; о ней потом. Теперь же необходимо обезвредить этот нечестивый заговор.
Не слишком ли поспешна эта уверенность? Нет. В ее основе лежит несокрушимая дилемма: либо Креонт с Тиресием – заговорщики, либо Эдип – цареубийца. Чем невозможнее второе, тем несомненнее первое.
Повторяю: центр внимания переместился. Движущей силой первого действия был оракул Аполлона об избавлении Фив от чумы; движущей силой второго будет раскрытие и обезврежение мнимого заговора против царской власти Эдипа.
* * *
На рубеже между обоими действиями – хорическая песнь. В ней первая пара строф нас озадачивает: ставя вопрос, кто указанный Дельфами убийца, и представляя себе его рыщущим по горам и лесам, она соответствует настроению, вызванному манифестом Эдипа, и не считается с тем перемещением центра тяжести, о котором речь была только что. Это – одна из условностей хорической техники. Действие состояло из двух неравных по объему и несхожих по настроению половин: манифеста Эдипа и сцены с Тиресием; из них первый отразился в первой, вторая – во второй паре строф. Так и в «Аянте-биченосце» первый стасим – этот раз даже весь, – оплакивающий безумие героя, соответствовал более раннему моменту первого действия, а не тому, которым действие кончалось.
Песнь умолкает; является Креонт. Он узнал о взводимом на него обвинении и пришел объясниться и потребовать объяснений. Мы знакомимся ближе с этой интересной фигурой, проходящей через всю фиванскую трилогию; здесь перед нами честный гражданин и родственник, строгий и холодный. Великодушный и увлекающийся Эдип стоит рядом с ним, как Тассо рядом с Антонио в трагедии Гете; мы чувствуем, придет время, когда этот самый Эдип, сломленный несчастьем и ужасом, будет искать опоры и утешения на груди этого своего шурина. Но теперь они – враги: Эдип, в силу своей вышеуказанной психологической дилеммы, не может отказаться от своего обвинения; Креонт, ни в чем не чувствуя себя виновным, не может его признать справедливым. Спор, все более разгораясь, достигает своей высоты в «агонистических» речах обоих противников, к которым споролюбивые афиняне прислушивались с гораздо большим интересом, чем мы. Оба доведены до исступления; в решающую минуту примирительницей появляется Иокаста.
Не без трепета ожидали зрители выступления этой несчастной женщины, бессознательной носительницы величайших ужасов, какие только может себе представить человеческий ум. Тем более заслуживает одобрения такт, обнаруженный поэтом при выборе момента ее появления. Естественная посредница между мужем и братом, она спокойно и любовно прекращает их спор и этим заручается нашими симпатиями прежде, чем мы успели подумать о ее неестественных отношениях к герою трагедии.
Креонт дает клятву в своей невиновности; этим он, по аполлоновскому праву, освобождает себя от человеческого суда, и Иокаста своим нравственным авторитетом заставляет Эдипа уважать это право. Для этого ей вовсе не нужно знать возникновение спора; но, положив ему конец, она интересуется и его началом. «Он назвал меня убийцей Лаия»
– «Кто? Креонт?» – «Не собственными устами:
Кудесника он подослал злодея.
Здесь Иокаста вспыхивает; начинается знаменитая на все времена «сцена двойного признания». Чтобы понять и оценить ее, мы должны ответить на два вопроса: 1) каков был характер Иокасты? 2) каково было душевное настроение Эдипа после сцены с Тиресием и Креонтом?
Супружеские отношения Иокасты к Лаию были в корень отравлены неестественным запретом ей быть матерью; виновен был в этом запрете жестокий и бессмысленный оракул, согласно которому сын Лаия должен был сделаться его убийцей. Сын все-таки родился; Иокаста беспрекословно по требованию отца собственными руками отдала его палачу на медленную, мучительную смерть. Будучи оскорблена в своих самых священных чувствах, она тем не менее терпела всё, пока имела возможность считать оракул достоверным. Но вот Лаий умирает, – так сказал очевидец, – «от шайки разбойников»; оракул оказался лживым. С этих пор она ненавидит оракулы всей той жгучей ненавистью, на какую только способна женщина, мстящая за гибель своего ребенка. Она делается женой Эдипа – слава богам, наконец, можно и ей «жить просто», не чувствуя над собой тяготения рока. О том, что и Эдипу дан зловещий оракул, она ничего не знает, так как он, раз решив не возвращаться в Коринф при жизни Полиба и Меропы, чувствует себя спокойным и не считает нужным рассказывать жене о том, что его беспокоило раньше; с другой стороны, и она, по весьма понятному соображению, решила предать забвению все случившееся при Лаии и не рассказывать своему молодому мужу мрачной истории своего несчастного первого материнства.
Но вот на безоблачном до сих пор небе появляется туча – жестокая ссора между Эдипом и Креонтом, едва не кончившаяся смертью последнего. «В чем дело? Кто виноват?» – спрашивает она мужа и слышит ответ:
Кудесника он подослал злодея.
Этого для нее достаточно. Она не хочет более ничего слышать; опять пророчества, уже раз уничтожившие ее счастье! «Не верь пророчествам!» – говорит она мужу и в доказательство – поверяет ему тайну, которую до тех пор ревниво охраняла.
Эдип в сущности в этом доказательстве не нуждался: он и сам не был склонен принимать на веру слова Тиресия. Уверенный, с одной стороны, что он сын Полиба, с другой – что Лаия убили разбойники, он в этих словах видит интригу, направленную к тому, чтобы вырвать власть из его рук и вернуть ее своему человеку Креонту; как царь пришлый, он не мог не иметь оснований к такому подозрению. Отсюда та неумолимая дилемма, о которой речь была выше: «либо Креонт – заговорщик, либо я – цареубийца». Поддержи его хор – спокойствие бы к нему вернулось. Но нет – хор требует отпущения Креонта. Эдип, помня о своей дилемме, с горечью отвечает ему:
Так знай же твердо: этой просьбой для меня
Ты смерти просишь иль изгнанья из страны.
А когда хор настаивает на своем желании, он в силу той же дилеммы, снисходя к его просьбам, говорит:
Свободен он! Пусть лучше я погибну
Иль из земли в бесчестье удалюсь.
Его уверенность расшатана тем, что ее не разделяет хор; его гложет смутное чувство: «Оправдывая Креонта, я наполовину признал цареубийцей себя».
В этом настроении он слышит признание Иокасты о данном Лаию оракуле… Будь его мысли свободны, данное Лаию пророчество «ты падешь от сына» напомнило бы ему то, которое было дано ему: «ты убьешь отца». Но нет: его мысли всё вращаются вокруг одной точки: «Неужели я – убийца Лаия?» О его убийстве он знал пока только одну подробность, и эта подробность его выгораживала: «Лаий убит шайкой разбойников». Но вот Иокаста совершенно нечаянно сообщает ему другую: убийство Лаия произошло
У распутья,
Где две дороги с третьею сошлись.
По этой внешней и наглядной примете в его памяти восстает давно забытая картина: его собственная встреча с незнакомым старцем и его слугами у дельфийского распутья. Он с судорожной торопливостью расспрашивает жену о других приметах, которые ей были известны: какое распутье, когда, какого возраста и вида был Лаий? Сколько было у него спутников? Стоит обратить внимание на последний вопрос:
С немногими ль пошел он, иль с отрядом
Телохранителей, как вождь и царь?
Ему так хотелось бы, чтобы она ответила: «с отрядом»; это бы выгородило его. Но нет: Иокаста, сама того не подозревая, каждым новым ответом только увеличивает число обвиняющих его улик. Всё совпадает, всё; одно только показание его спасает: Лаия убила шайка, а он, Эдип, был один. Только… достоверно ли это показание? Уверенность Эдипа расшатана; необходимо допросить свидетеля.
Позволю себе тут маленькое отступление. Рационалистическая критика не пощадила этой черты: Эдип кончает тем, говорит она, с чего ему следовало начать; раз убийство Лаия имело только одного очевидца, то этот очевидец должен был быть допрошен первым делом. Несомненно, так поступил бы в наши дни всякий разумный следователь; но рационалистическая критика слишком робка. Она должна бы была оспаривать благоразумие первых же действий Эдипа. Грянула чума – он посылает в Дельфы! Он должен был бы пригласить врачей, построить бараки, позаботиться о тщательной изолировке и дезинфекции; так, несомненно, поступил бы в наши дни всякий разумный санитар. Но в том-то и дело, что наши дни – не те дни, не дни аполлоновской жизни. Тогда еще люди чувствовали непосредственно бога над собой. Чума – от гнева Аполлона; постараемся же снискать его милость. О загадочном преступлении знает тот же Аполлон; спроси же его или его вещателя: что в сравнении с ними какой-нибудь жалкий раб-очевидец! Эдип обращается к нему только теперь, так как только теперь его вера в Аполлона и его пророка расшатана.
Но отношение Иокасты к этому рабу-очевидцу особого рода. Она ведь знает то, чего не знает Эдип: что этот раб, спутник ее мужа в его последней поездке, еще много раньше приобрел его доверие тем, что отнес на Киферон его и ее младенца. Ненавидимый ею, он после смерти Лаия не сразу решился вернуться. Вернувшись наконец, он увидел царем Эдипа и узнал в нем, конечно, убийцу Лаия. Он упросил свою госпожу отослать его подальше, на окраинные пастбища. И она охотно исполнила его просьбу; еще охотнее она предала бы его смерти, если бы не видела в нем раба, подневольного исполнителя господской воли.
Так-то центр тяжести вторично перемещается. Вопрос о мнимом заговоре Тиресия и Креонта оставлен, и притом окончательно; его затмил другой вопрос: Эдип ли убийца Лаия, или кто-нибудь другой? Если Эдип, то он, значит, проклиная убийцу Лаия, сам себя проклял; это – так ужасно, что для других ужасов пока еще места нет. Вопрос поставлен пока только о цареубийстве, не об отцеубийстве и кровосмешении. Уверенность Эдипа, что он сын Полиба и Меропы, пока еще ничем не поколеблена.
Хорическая песнь переносит нас из героической эпохи в современную Софоклу; в ней благочестивый поэт еще раз засвидетельствовал свою верность до гроба тому богу, который был вдохновителем его жизни, – Аполлону. Гневное слово Иокасты против дельфийских вещаний дало поэту лишь повод; сколько пришлось ему выслушать таких слов в первые годы пелопоннесской войны, во время великого мора, когда люди, по словам Фукидида, «ввиду тщетности своих молитв, обращений к оракулу и тому подобных действий под конец отказались от них, побежденные горем». Та же эпоха, по словам того же Фукидида, «впервые открыла дверь великим беззакониям в государстве»; отсюда усердный призыв поэта-учителя:
Чтить Законы, что в небесной выси
Из лона Правды самой взошли;
Их край родной – ясный свет эфира;
Олимп им отец; родил
Не смертного разум их;
Не он в забвения мгле их схоронить властен.
Отсюда его глубокомысленная молитва богу сохранить силу «бодрящей народ борьбе»; и отсюда в особенности его грустные размышления о судьбе, ожидающей людей, если восторжествует недоверие к дельфийским вещаниям:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.