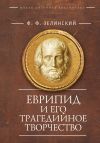Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 33 страниц)
Но нам нет надобности теряться в догадках. Одной из излюбленных софокловских фигур был Одиссей, жизнь которого он обработал всю, от его идиллического молодого брака в «Неистовом Одиссее» до его смерти. Его деяниям, благородным и жестоким, нет конца; и вот мы видим, как он сам в последней посвященной ему драме, в «Филоктете», старается объединить все многообразные проявления его богатой и сложной души под одним основным аспектом, старается найти – мы теперь прямо-таки можем сказать, пользуясь терминологией Тэна, – его facultémaîtresse.
Ту работу, которою сам поэт в данном случае пошел навстречу своей критике… или, быть может, ответил на нее – ведь ничто не мешает допустить, что он и здесь, так же как в «Эдипе Колонском», имеет в виду реальные упреки и недоумения, – эту работу в других случаях критика обязана сделать за него и, конечно, в указанном им направлении. И действительно, мы можем убедиться, что и характер Креонта во всех фиванских драмах выдержан в духе строгого единства; и кто ее уловил, того уже не смутит несомненный факт, что образ действий этого героя нам в «Царе Эдипе» кажется гораздо более симпатичным, чем в остальных двух драмах фиванской трилогии.
Возьмем еще Неоптолема, тоже одну из излюбленных фигур Софокла; мы видим его в «Скиросцах», в «Неоптолеме», в сохраненном «Филоктете», а также, вероятно, и в потерянном, затем в «Еврипиле», в «Приаме», в «Поликсене» и в «Гермионе», драме его смерти. Перед нами предстанут самые разнообразные деяния – и привлекательные, и отталкивающие; есть ли возможность их объединить? Да, есть; facultémaîtresse Неоптолема – его безграничная любовь к своему отцу, к тому Ахиллу, которого он никогда не видел, но слава которого окружает и его главу ослепительным ореолом. Ради него он оставляет свой Скирос и идет под Трою; ради него он едва не ссорится со своими новыми товарищами, не соглашающимися выдать ему доспехи его отца; ради него он выступает против Телефида Еврипила, нарушившего обет, данный некогда Телефом Ахиллу; ради него он убивает Приама, опутавшего его отца обманным браком с Поликсеной; ради него он эту его роковую невесту отправляет к нему в царство теней; ради него он, наконец, гибнет в Дельфах, требуя Аполлона к ответу за его смерть.
Да, я думаю, мы можем выставить как правило: единство характера соблюдено Софоклом для одного и того же героя во всех драмах, где он выступал. Это не значит, чтобы не было исключений, – мы знаем уже, политика заставляла иногда делать таковые. Но это именно исключения; правило как таковое остается в силе.
§ 6. Сущность Софокловой трагедииНо что такое после всего сказанного софокловская трагедия?
К этому вопросу можно подойти с двух различных сторон. Либо мы постараемся найти определение, под которое подойдут все софокловские трагедии, и тогда оно будет поневоле очень расплывчатым; либо мы сосредоточимся на действительно трагических трагедиях, и тогда придется поставить предварительный вопрос, что мы желаем разуметь под таковыми.
Пойдем сначала по первому пути; требуется такое определение, под которое подходили бы и «Антигона», и «Тиро́», и Царь Эдип», и «Пелей», и «Терей», и «Эдип в Колоне» (трилогии мы оставляем в стороне как нехарактерные для Софокла), – т. е. и идейные, и безыдейные, и патетические, и этические, и ужасные, и благоговейные. При такой постановке вопроса мы внутренне объединяющего определения не найдем; придется ограничиться внешне определяющим и сказать: «Софокловская трагедия – это лирико-драматическая поэма приблизительно в полторы тысячи стихов, охватывающая единое и законченное действие, с самобытной завязкой и развязкой, и состоящая из чередующихся хорических и диалогических сцен». Не думаю, чтобы в это определение можно было внести другие черты, кроме еще более внешних.
Разумеется, это определение не имеет другой ценности, кроме сортировочной. Оставляя этот неблагодарный путь и направляясь по второму, мы должны сначала установить главные типы софокловской трагедии и затем спросить себя, какой из них мы признаем наиболее трагическим.
Начнем с того, самым ярким представителем которого была «Тиро́» (Первая). Став от Посидона матерью близнецов, Тиро их бросила, чтобы скрыть свой девичий позор, и они выросли пастухами. На Тиро действительно обрушилось много горя, но не по этой причине, а от злобы ее мачехи Сидеро́. И вот когда ее страдания достигли своей крайней степени, она взмолилась к Посидону и он послал ей избавителей в лице ее подросших сыновей, которых она только теперь признала. Было бы рискованно искать в этой трагедии какой-нибудь нравственной идеи; конечно, Сидеро была злой, Тиро, надо полагать, – доброй, и хор имел полное основание молиться,
Чтобы, оставивши злых, к обездоленным счастье вернулось.
Но, во-первых, это слишком общо, а во-вторых, даже и не главное; главное – это признание матерью своих некогда брошенных детей, ἀναγνωρισμός, этот живучий мотив, здесь впервые введенный Софоклом в трагедию и затем перешедший в комедию нравов, в которой он удержался вплоть до Островского («Без вины виноватые»). Тут действительно была такая перипетия, от которой замирало сердце и могучая волна симпатии разливалась повсюду. Но эта симпатия была вызвана самим сцеплением внешних обстоятельств, которое мы только потому не называем случайным, что верующий поэт представлял его последствием божьей воли и божьего промысла. Для большей убедительности сопоставим «Тиро» с «Электрой». И здесь мы имеем ἀναγνωρισμός – признание Электрой своего брата Ореста; но здесь он имеет только эпизодическое значение, отступая на задний план перед трагической сценой возмездия. В «Тиро», напротив, именно в нем центр тяжести, и его последствие – наказание злой мачехи обоими сыновьями Тиро – в сравнении с ним представляется не усилением, а ослаблением напряжения: она ведь мстителям не мать и не бабка, а просто зловредный чужеродный нарост на их доме.
И вот почему мы эту «Тиро», в противоположность ко всем сохраненным трагедиям и большинству потерянных, назвали безыдейной, вовсе не желая этим уронить эту, вероятно, очень красивую и эффектную драму, а просто выделяя ее, в отличие от указанных, в особый тип. Характерная особенность этого типа заключается, согласно сказанному, в чудесном сцеплении внешних обстоятельств, причем и еще раз повторяю, что это чудесное сцепление должно быть главным двигателем нашей симпатии для того, чтобы мы могли отнести данную трагедию к нашему типу; в качестве побочного мотива мы имеем его во многих трагедиях. С этой оговоркой мы относим к типу «Тиро» следующие трагедии: «Александра», «Собрание ахейцев», «Алета», «Евриала», «Креусу», «Эгея», «Алеадов» – причем, конечно, за полноту и точность списка не стоим.
Возьмем затем «Неистового Афаманта»: впавший в безумие герой убивает собственного сына Леарха – со вторым его мать Ино́ бросается в море, после чего боги превращают их в морских божеств. Поскольку дело касается страдалицы-матери, мы имеем трагедию благодати вроде «Эдипа Колонского»; но ведь не она героиня, а несчастный убийца Афамант: интерес трагедии, ее потрясающее действие заключается именно в том, что он под наитием какой-то страшной силы разрушает то, что для него было самым дорогим, – тут действительно каждому зрителю станет страшно за себя и за все основы своего счастья. Это – трагедия патологическая, подобно «Вакханкам» Еврипида; к тому же типу принадлежит и «Терей», поскольку Прокна в вакхическом безумии совершает дело мести; других мы назвать не можем. А в трагичности подобных патологических трагедий нас вполне убедят сохраненные «Вакханки». Некогда вихрь такого безумия пронесся по всей Элладе вследствие гнева Диониса; для его умилостивления пророки Аполлона учредили эти самые сценические игры, на которых присутствовали зрители Софокла.
Идем далее; находим «Ифигению». Это – дочь державнейшего в Элладе царя Агамемнона, собравшего эллинскую рать против Трои; она растет при матери роскошным цветком в ожидании того дня, который ее сделает властной царицей в доме ее мужа. Кто им только будет?.. И вот этот день настает: супругом ей избран самый могучий из молодых царей Ахилл. Посланцы ее отца пришли за ней из стана; там, в стане, должна состояться свадьба. Радостно следует она за ними; в радостном раздумье остается ее мать; микенские девушки поют веселую свадебную песнь в честь уведенной подруги… Зритель, конечно, с болью в сердце следит за этой возрастающей радостью: он ведь знает, что деву ждет в Авлиде не свадьба, а смерть на костре в угоду разгневанной Артемиде; и, конечно, поэт, насколько мы его знаем, сумел тревожными знамениями «предварить катастрофу» – сном ли Ифигении, птицей ли на «странном месте». Но радость всё поборола – и вот теперь наступает катастрофа: истинная весть из Авлиды о том ужасе, который там свершился. В чем здесь трагизм? Нравственной идеи нет: чем же провинилась эта ласковая дева, кроме разве того, что была слишком счастлива! Но и рока нет: человеческий расчет, человеческий обман вырывает ее из рук матери. И все же эта трагедия действует на нас, мы тронуты судьбой девы, мы сочувствуем ее несчастной матери, для которой такая радость сменилась таким горем. Положительно, тут страдание как таковое на нас действует, вызывая у нас могучую струю сострадания; перед нами – трагедия патетическая в тесном смысле этого слова. Таковой же была и «Поликсена» (если судить по родственным «Троянкам» Еврипида), и «Синон» (такая же смена крайней радости крайним горем), и «Приам».
Новый тип – «Пелей». Кто такой Пелей? Сын Эака, вместе со своим братом Теламоном убивший, по наущению ревнивой матери, побочного сына своего отца, красавца Фока; в этом его преступление, но это было так давно. Он же, искупив это почти невольное преступление долгим изгнанием, как герой чести заслужил милость богов, и они выдали за него морскую богиню Фетиду; в этом его слава; но и это давно уже стало прошлым, бессмертная нереида вернулась в подводный чертог своего отца. Он же стал отцом Ахилла, лучшего героя во всей греческой рати; в этом – его счастье; но Ахилл давно уже лежит в могиле, оставив ему только свою Брисеиду как верную пестунью. И вот он живет изгнанником у хороших людей и медленно угасает, окруженный воспоминаниями и о преступной, и о славной, и о счастливой поре своей жизни. Это – этическая трагедия, драматизованная элегия. Она не волнует нашей груди, но проникает наше сердце живейшим чувством участия. Мы озираемся на себя: кто вправе жаловаться, когда даже такая яркая жизнь так тускло закатывается? К тому же типу сам Аристотель причисляет «Фтиоток»; думаю, что к нему же принадлежала и «Навсикая» с «Феакийцами»; идиллия по настроению родственна элегии.
И, наконец, есть ряд трагедий, объединенных не трагическим, а гражданским мотивом – мотивом суда. Здесь ведь венец человеческой мудрости; мудрость возвышала гомеровских судей до тех пор, пока бог в лице Аполлона не потребовал себе этой обузы как слишком тяжелой для человеческих сил и не ввел в судебное разбирательство обязательной клятвы сторон. Софокл был за нее: он охотно изображал в своих трагедиях близорукость человеческого суда. В «Посольстве о Елене» неразумная толпа троян выступает судьей между Менелаем и Парисом и объявляет черное белым; в «Паламеде» ахейские судьи на основании неопровержимых с виду улик обвиняют невинного – и тот же суд повторяется и в «Навплии-пловце», если только это не была та же трагедия. Наоборот, руководимые божьей мудростью судьи правильно решают тяжбу Ясона с Ээтом («Скифы») и Ореста с Фоантом («Хрис»). Но чем важнее была клятва как голос правды, тем страшнее была вина того, кто ею злоупотреблял; в «Аянте Локрийском» поэт изобразил внушительную трагедию клятвопреступления, кончающуюся грозной карой преступника в пророчестве боговдохновенной Кассандры.
* * *
За выделением этих типов, а также тех довольно многочисленных трагедий, о характере которых мы ничего сказать не можем, – мы получаем разряд, тоже довольно многочисленный, таких трагедий, в центре которых лежит идея – чаще всего нравственная, но не исключая и сверхнравственной идеи рока, о которой речь будет особо. Мы не усомнимся, думается мне, назвать эти трагедии наиболее трагическими: только они дают нам конфликт, – будь то конфликт свободной человеческой воли с исполином-роком или же, чаще, конфликт двух нравственных сил в груди самого человека.
И вот мы заглядываем в эту человеческую грудь; мы отвлекаемся от тех счастливцев и в высокой и в скромной доле, жизнь которых равномерно течет по одному и тому же направлению, увлекаемая согласными силами их души. Мы берем человека в тот момент его жизни, когда две властные силы вступают в борьбу между собой; с этого момента начинается его трагедия.
Одна из этих сил – многообразная любовь. Как уже было сказано, Софоклу принадлежит честь введения в круг нравственных сил и той ее разновидности, которую внушает Эрот; благодаря ему она стала «в кругу высших держав судить» («Антигона»).
Это – Медея в «Колхидянках», это – Ипподамия в «Эномае», которой из двух принадлежат замечательные, никогда до того не раздававшиеся слова:
Она – лихая смерть; она – и жизнь
Нетленная; она – безумья пламя;
Она – желанье чистое и грусть.
В ней всё найдешь ты: дельное стремленье,
Истому неги и насилья страсть…
А впрочем, они родственны друг другу. Обе любят того, которого дочерний долг запрещает любить; обе, уступая страсти, изменяют долгу, обе становятся преступницами: брат Медеи падает в доме отца под ее коварными ударами; отец Ипподамии гибнет жертвой хитрости, в которой участвовала его дочь. В багровой заре отцовского проклятья закатывается солнце этого дня; каков будет его восход?
Все это однако – любовь девы, живущей во власти отца; любовь мужней жены изображала «Федра» – в конфликте, значит, с долгом верности. И «смерть пожинается на ниве греха», – чтобы напомнить слова Эсхила.
Мужчина сам от себя зависит; его любовь может вступить в конфликт только с долгом перед тем, от кого зависит ее предмет. Так, в божьей сфере Иксион дерзнул полюбить Геру, супругу его очистителя и благодетеля Зевса («Иксион»); так, в человеческой Александр похитил Елену и этим осквернил трапезу своего хозяина Менелая («Похищение Елены»). Там кара быстро настигла преступника; здесь «медленно мельницы мелют богов, но старательно мелют».
Вообще же жатва Эрота в трагедии Софокла еще не очень обильна; в особенности еще отсутствует то, что можно было бы назвать «оправданием любви», если только этого пробела не заполняла какая-нибудь из менее известных нам по содержанию трагедий.
В супружестве любовь течет по законному руслу, перейдя от Афродиты и Эрота под власть брачной Геры; но и здесь она может вступить в конфликт с другим, более священным долгом. Из любви к новой жене Афамант («Увенчанный») и Финей забыли о священной любви к детям от первого брака; тот же мотив мы имеем в виде побочного и в «Федре». Правда, их отчасти извиняет то, что они были введены в заблуждение клятвой, но именно только отчасти; их легковерие объясняется тем, что их ослепила любовь.
Изнанка любви – ревность. Но это – черта варварская, носительницей которой могла быть только варварка Медея в «Зельекопах», Клитемнестра – и та мстит не за одну только измену мужа: на ней, как она говорит, лежит долг крови за ее закланную дочь Ифигению. А правду ли она говорит – это мы знали бы, если бы нам была сохранена ее трагедия («Клитемнестра»). Истинные гречанки – это Деянира в «Трахинянках», это Алфесибея в «Алкмеоне»; за первую мстит судьба, за вторую ее родственники – вопреки воле той и другой.
Священнее в глазах эллина Софокловой эпохи та любовь, которая внушена голосом крови: любовь к родителям, к родным, к детям. Как быть, если эти святые чувства вступают в борьбу одно с другим? Тиро (Вторая) любила своих детей, но она же их умертвила, узнав, что им суждено стать убийцами ее отца; она оправдывала, вероятно, свой поступок заявлением, что детей она может родить и других, но другого отца ей даже боги дать не могут (сравни замечательный «закон» Антигоны). В силу того же закона, надо полагать, и Алфея прокляла своего сына, после того как он убил ее братьев («Мелеагр»). Но в таком конфликте трудно уцелеть человеческому сердцу: Алфея покончила с собой после своей бедственной мести; думаю, что и Тиро недолго пережила свое самоотвержение.
Итак, любовь к родителям священнее любви к детям… хотя и эта священнее собственной жизни. Но что, если и там возникает раздор чувств? Феникс, мстя за мать, оскорбил отца – за то он проклят и изгнан. Орест и Алкмеон, напротив, мстя за отца, убили свою мать («Электра», «Эпигоны») – в этом они оправданы свидетельством бога… Впрочем, так поэт судил только в «дельфийский» период своего творчества; на старости лет он создал «Хриса» и «Алета» во исправление «Электры» и «Алкмеона» во исправление «Эпигонов», водворяя в обеих трагедиях Эринию в ее правах.
В том же роде конфликт в «Еврисаке»: сын Аянта привязан судьбою своего детства и к деду Теламону, и к дяде Тевкру, а они – враги, и он должен выбирать между ними.
Но вот любовь выше любви и к родителям, и к детям, и к жене; это – любовь к отечеству. И конечно, певец саламинского пеана это знал лучше, чем кто-либо иной. Пусть же Деидамия заключает в свои объятия отрока-сына Неоптолема – он последует голосу Феникса, зовущего его под Трою, на помощь своим («Скиросцы»). И пусть молодая Лаодамия изнывает в слезах о Протесилае, покинувшем ее после брачной ночи, – он не откажется от того рокового для него поединка, который обеспечит победу его народу («Пастухи»). Иначе поступил Навплий: мстя за невинно убитого сына, он обрек гибели многострадальную рать своего отечества («Навплий-Возжигатель»); но мы не можем указать, чем кончилась его месть в этой мрачной трагедии.
Но выше всех все-таки стоит божество и долг человека по отношению к нему. Астиоха была троянкой, сестрой Приама, и все же она согрешила, отправив своего сына на помощь своим землякам и родственникам, так как она этим заставила его нарушить обет, данный за него его отцом Телефом («Еврипил»). И Неоптолем погиб, когда безмерная любовь к его отцу Ахиллу подвинула его на богоборственный вызов его убийце Аполлону («Гермиона»), – «по-смертному мысли, кто смертным рожден». И Лаокоонт ведь из любви к родине решил обнаружить нерушимую глубь своего пророческого знания – но ослепленной родине он не помог и сам погиб со своим домом.
Такова многообразная любовь; и действительно, за вычетом внушенных ею конфликтов уже немного осталось. Осталось, впрочем, человеческое самосознание и самомнение. Софокл создал две дивных трагедии гордости в борьбе с божеством – гордости, внушенной человеку самыми драгоценными его творениями, мужчине – его поэзией и женщине – ее детьми: он написал о мужской гордости «Фамира», о женской – «Ниобею».
* * *
Вот это, значит, истинно трагические трагедии, те, которые дают нам возможность говорить о трагической вине и трагической каре. И всё же – есть и помимо формы нечто общее между ними и теми, о которых как о лишенных идеи в принятом нами трагическом смысле была речь в предшествовавшем рассуждении; мы его не уловили при разборе самих трагедий, но мы уловим его, думается мне, если обратимся от них к душе воспринимающего их действие человека.
Не забудем: трагедия – это священнодействие; трагедия – это молитва. Она возникла из обрядности Диониса тогда, когда умеряющая религия Аполлона в лице его пророков – традиция сосредоточивает их по своему обыкновению в одном, в Мелампе, – очистила ее от излишеств, грозивших разрушить гражданскую жизнь эллинов вихрем разнузданных страстей. Она дала отдушину напору чувств, бурно клокочущих в душе человека; она бросила их возбуждающую силу как видение на сцену театра Диониса, дабы они успокоились и улеглись в созерцающей это видение душе. Так-то трагедия стала священнодействием, стала молитвой.
Молитвой… Спросим себя, чего хочет Гретхен, припавшая в молитве к образу Скорбящей: «О склони, Многострадальная, Твой лик милостиво к моей нужде!» …Чуда не будет, совершившееся не вернется в небытие. Но Та, чей образ висит перед нею, тоже некогда страдала; святостью своих страданий Она освятила страдания также и других. И вот теперь эта былинка в урагане жизни, эта насмерть обиженная девушка припадает к образу Той, Которая своими страданиями переродила мир; понимаем мы, что значит это искание сближения, это трогательное: «Я страдаю, но ведь и Ты страдала!» Она хочет раствориться в Ней, приобщиться Ее величию, Ее святости; хочет очистить свои страдания возведением их к Ней. Ибо в этом очищении – облагорожение, освящение, отрада.
И вот трагедия – тоже молитва. В этом видении, которое поэт показывает нам со сцены Диониса, он являет нам праобраз наших страданий, но только поднятых на святую высоту героизма. Таковы они все: Эдип, Деянира, Антигона; растворяйте свои страдания в их страданиях, ибо они – вы.
Tat twam asi! – да, это говорит нам эллинская трагедия; но при этом она показывает нам не бессловесную и неразумную скотину, подобно обессиливающей и принижающей религии Будды, а самые высокие, самые сильные образы, которые она только могла создать: «Эдип, Антигона – tat twam asi, это – ты». И мы приобщаемся их героизму, мы очищаем наши страдания, наши страсти, созерцая их в этих их героических праобразах.
Бытовая трагедия – та действительно поступает по завету Будды; она выводит нам мелких, жалких людишек, она с большим искусством расписывает их всеми красками действительности, дабы мы уверовали, что они – мы, и этим победоносно опошляет все, что еще было хорошего и возвышенного в наших чувствах. «Это для того, чтобы мы исправились», – говорят ее неисправимые защитники.
Нет исправления там, где нет очищения; и нет очищения, где нет свежего ветра, веющего с ясных высот героизма. Это прекрасно знали те десятки тысяч афинян, которые к первой четверти Элафеболиона, закалив свою душу в горниле дионисического настроения, шли смотреть трагедии своих поэтов со склонов Акрополя. Два бога тогда властвовали над этой их душой: отец бурной страсти Дионис и ее очиститель Аполлон.
Среди этих десятков тысяч находился во вторую половину IV века и Аристотель. И он сопровождал кумир Диониса из его афинского храма в Академию, тогда уже освященную именем его учителя Платона; и он испытал на себе чары дионисического настроения, прежде чем смотреть трагедии афинских корифеев, которые тогда уже успели войти в «репертуар». И когда он призадумался над вопросом, что такое трагедия, – то и он не мог найти другого объединяющего определения, кроме формального – несколько более краткого, чем предложенное нами выше. Но он тотчас нашел его, как только он от сущности самой трагедии обратился к ее действию на его сердце: «…путем сострадания и страха производящая очищение (κάϑαρσις) этих и им подобных страстей».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.