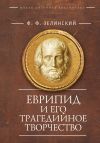Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 33 страниц)
Меркнет в почестях народных
Бога-песнопевца лучезарный лик.
Конец благочестью!
Героям трагедии до этого еще далеко; даже Иокаста, испуганная тревогой Эдипа, его мучительными вопросами: «Я ли его убил, или не я?» – даже она сочла за лучшее обратиться со смиренной молитвой к вершителю их общей судьбы Аполлону. Возжигается огонь на жертвеннике перед его кумиром, легкий дым ладана уносит на своих крыльях молитву Иокасты; когда он рассеивается, перед ней стоит новое лицо – то самое, которое традиция знает под именем Евфорба.
Здесь одно из благодарнейших мест трагедии вообще – перипетия, усиленная трагической иронией. Подобное же место мы имеем и в «Электре»; это – то, где преступная царица молит того же Аполлона ниспослать ей милостивое разрешение ее страшного ночного видения и Аполлон ей в ответ посылает мнимого гонца с известием – увы! – вымышленным – о смерти ее врага. Но там событиями руководила, по крайней мере отчасти, человеческая интрига; здесь полновластно царит Мира. В Евфорбе фальши нет; он, некогда отнесший младенца Эдипа своему царю Полибу, теперь пришел к этому самому Эдипу с известием о смерти этого самого Полиба. Это грустно, но все же не слишком: он ведь был очень стар. Зато вот что отрадно: Эдип народной волей избран наследником престола.
К его удивлению, Иокасте грустная часть его вести еще отраднее, чем та другая. Умер Полиб, и притом естественной смертью, – тот самый Полиб, который, согласно данному ее мужу оракулу, должен был пасть от его руки:
А? Где вы ныне? Где вы,
Вещания богов?
Она посылает за Эдипом; тот потрясен известием о смерти отца, так горячо его любившего, но мало-помалу и он чувствует, что вместе с ним сошел в могилу и страшный кошмар отцеубийства. И все-таки при мысли о предстоящем возвращении в Коринф он содрогается. Нет-нет: ведь в оракуле есть и другая половина – грех с матерью, – с Меропой, значит, – а Меропа еще жива. Да ведь с первой половиной опровергнута и вторая! Да, конечно… а все-таки страшно. Нет-нет; в Коринф он не вернется.
Евфорб вмешивается в разговор; сделав Эдипа коринфским царевичем, он потерял бы все плоды своих усилий, если бы тот теперь отказался стать коринфским царем. В чем же помеха? В боязни греха с матерью, Меропой. Только-то? Тогда горю помочь не трудно. Узнай же, дитя: Меропа тебе не мать.
Вот – величие Миры. Евфорб каждое слово и этого откровения и всех следующих произносит с явным и сознательным намерением освободить Эдипа от страха, окончательно рассеять кошмар его жизни. Да, да, сомневаться тут нечего: и Меропа не мать, и Полиб не отец; нашел младенца он, Евфорб, нашел на Кифероне с проколотыми ножками; т. е., собственно, не нашел, а принял от другого человека, называвшего себя пастухом Лаия. На Эдипа все это производит ошеломляющее действие: он чувствует, как внезапно заколебалась та почва, на которой он так разумно построил все здание своей жизни; какое-то море поглотило ее, и его уносят куда-то в неизвестность волны этого моря. Но тут же стоит другое лицо, Иокаста. И для нее никакой неизвестности нет. Подкинутый младенец, Киферон, проколотые ножки, пастух Лаия – что слово, то улика, одна яснее другой. Да, теперь она знает всё: Эдип, ее муж, – он же и ее сын.
С этим сознанием жизнь невозможна. Но пусть хоть Эдип живет, пусть хоть он ничего не узнает. Это – ее последнее желание, это – смысл ее последней, предсмертной борьбы с сыном:
Довольно, что страдаю я.
Всякое слово бледнеет перед этой сценой, едва ли не самой потрясающей из всех, когда-либо созданных творческим умом поэтов.
Эдип вырывается; упорство жены он приписывает гордости родовитой царицы, ее боязни оказаться женой низкорожденного мужа. Она в отчаянии уходит; он же, свыкнувшись со своим новым положением, упивается своеобразным обаянием его неизвестности:
Я – сын Судьбы! От матери своей —
Она добра ко мне была – позора
Я не приму.
Обуреваемый волнами, он бросается с нежностью сына к мраморным коленям Миры – и скоро застынет на них.
* * *
Мастерство перипетии у Софокла отчасти было обусловлено тем, что он, в сравнении с Эсхилом, любил удваивать число ее орудий. Так, в «Хоэфорах» Эсхила один Орест был для Клитемнестры вестником из Фокиды о (мнимой) смерти ее сына; Софокл удвоил эту роль, поручив Талфибию принести самое известие, а Оресту – мнимый прах умершего. То же самое и здесь. У предшественников Софокла, начиная уже с киклической «Эдиподеи», один только конюх, нашедший младенца Эдипа, мог ему раскрыть тайну его происхождения; у Софокла эта роль удвоена. Евфорб не знает происхождения Эдипа; он знает только, что он не был сыном тому Полибу, который его усыновил. Равным образом и пастух Лаия, отнесший младенца на Киферон, знал только, что он был сыном Лаия, но не знал, что он стал коринфским царевичем. Истина может обнаружиться только сопоставлением показаний того и другого.
И она обнаруживается теперь. За пастухом было послано еще раньше, после сцены двойного признания; было послано для того, чтоб он или повторил свое показание об убийстве Лаия шайкой разбойников, или отрекся от него. Теперь все это уже забыто. Центр тяжести еще раз переместился. Вопрос, «он ли убийца Лаия», потерял для Эдипа интерес при наличности другого, более близкого, – «кто его родители?»
Об этом свидетельствует и хорическая песнь, отделяющая третье действие от четвертого; ее тема – те слова, которые стоят в начале антистрофы: «Кто тебе мать – кто, малютка?» Киферон, подобно всем горам, место священное; здесь природа не осквернена прикосновением человека, здесь всё еще нимфы-ореады, вечно юные дочери Зевса, ведут по ночам свои хороводы. Здесь нередко пастухи находили младенца дивной красоты, которого там оставила мать-нимфа, не пожелавшая отделиться от своих девственных подруг. Выросши под чудесным покровительством своего отца, этот ребенок затем рядом необыкновенных подвигов доказывал свое божественное происхождение. Не следует ли допустить того же и для Эдипа?
Старцы развивают эту мысль в светлой, чарующей картине; это – последний проблеск счастья в жизни нашего героя. А затем – приход пастуха Лаия, последнего орудия Миры, – очная ставка его с Евфорбом – приговор. Опять звучит песнь хора; в ее грустных заунывных напевах мы слышим похоронный плач о славе и величии фиванского царя.
* * *
Победа осталась за Мирой – да, но только победа внешняя. Эдип все еще тот, каким он предстал перед нами в первых сценах, – истинное воплощение силы и великодушия. То, что он сотворил невольно, он называет и считает своими деяниями, полная ответственность за которые лежит на нем. Пускай мятежная Иокаста гневно возвращает богам напрасный дар жизни; Эдип решил нести до конца бремя, которое они на него возложили, никого не обвиняя, кроме себя. Как убийца Лаия, он должен оставить страну; но эта кара, казавшаяся ему хуже смерти, недостаточна теперь, когда он уличил себя в других, гораздо более ужасных преступлениях. За них он обрек себя самой жалкой участи, сохранив жизнь и лишив себя вместе с тем источника всех радостей жизни – света дня:
Какими б я дерзнул очами
Взглянуть на Лаия средь теней,
Взглянуть на мать несчастную… пред ними
Я так виновен, что вины своей
И тысячью смертей не искупил бы.
Он уйдет за пределы страны слепым и беспомощным бедняком и будет жить подаянием людей, которым не будет страшно его прикосновение, – до тех пор, пока богам преисподней не будет угодно отозвать его к себе. Так искупает Эдип грехи своей жизни.
Действительно, к этому исходу направлена вся трагедия. Уже оракул Аполлона требовал изгнания убийцы Лаия из страны; то же самое предсказывал и Тиресий – и притом на этот самый день, непосредственно после раскрытия тайны:
И час придет – двойным разя ударом,
Тебя изгонит из земли фиванской
Железною стопой Проклятья дух.
Где не найдешь ты гавани стенаньям?
Где не ответит криком Киферон,
Когда поймешь…
ужас своего брака, как видно из дальнейшего. Этой решимости исполнен и сам Эдип:
Покинуть хочет он и дом и землю,
Проклятию послушный своему.
Все ж без опоры, без проводника
Не обойтись ему…
Ясный призыв охотнику взять на себя тяжелую обязанность проводника слепого скитальца – и нам приятно думать, что этому призыву последовал тот самый старый пастух, который уже раз отнес Эдипа, когда он был еще младенцем, на роковую гору. Наконец, и трогательная сцена его прощания с девочками-дочерьми только тогда имеет смысл и основание, если за ней следовал уход Эдипа в изгнание. Повторяю, вся трагедия направлена к этому исходу.
Но лет через двадцать с лишком после своего «Царя Эдипа» Софокл написал продолжение к нему – «Эдипа в Колоне». В этом продолжении предполагается иное сцепление предшествующих действию событий, более соответствующее киклической «Фиваиде». А именно: Эдип по раскрытии ужасов оставался в Фивах и был изгнан лишь много спустя своими подросшими сыновьями; тогда он и удалился, сопровождаемый своею дочерью Антигоной. И вот, чтобы привести в соответствие исход «Царя Эдипа» с этими предположениями «Эдипа Колонского», в первую из обеих трагедий был вставлен вариант, согласно которому Креонт не разрешил Эдипу отправиться в изгнание тотчас же и заставил его остаться во дворце вплоть до нового повеления со стороны Аполлона.
С развитием действия в подлинной трагедии этот вариант не вяжется. Пророчество Тиресия и самопроклятие Эдипа должно быть исполнено: примирившись с Креонтом и простившись с дочерьми, благородный отверженец Миры покидал свою новообретенную родину, оставляя всех присутствующих под гнетом неразрешимого вопроса: «За что?»
IV
За что?
Об этом вопросе у нас еще будет речь; отделаться от него не так-то легко. И, быть может, на него скорее можно будет ответить, если мы сначала проследим идею, легшую в основу «Царю Эдипу», в других, более поздних трагедиях, – но, конечно, не в тех, которые посвящены самому Эдипу: их, после софокловской, и читать не хочется.
Но вот возмужавшая мысль новой Европы создала свою трагедию рока и – хотя и бессознательно – противопоставила ее античной: Эдип возродился в Макбете Шекспира. Великодушный, доблестный, мудрый вождь и правитель, спаситель своей родины – делается преступником, делается цареубийцей и почти отцеубийцей в силу полученного им предсказания; эта основная идея осталась неизменной. Угодно проследить, как она была осуществлена христианским поэтом?
Да не смутит нас прежде всего то обстоятельство, что органом рока у Шекспира выступают три ведьмы. Уже для ранних христиан лучезарный бог, пророчествующий в Дельфах, превратился в дельфийского дьявола; неудивительно, что и его девственные пифии не избегли соответствующей участи. Огрубев и опошлившись во всех других отношениях, они в той области, которая важна для нас, остались теми же – остались пророчицами:
Если вам дано
В посев времен проникнуть вещим взором
И отличить живучие колосья
От тех, которым гибель суждена… —
так обращается к ним Банко, и так себе их представлял поэт. Но читатель отметил это «если»: их вещая сила не была общепризнанна, они должны ее доказать. Они приветствуют героя таном Гламисским – да, он им был, и знать это было нетрудно. Но они же приветствуют его таном Кавдорским, а носитель этого имени был жив и в цвете лет; и они тут же того же Макбета приветствуют как будущего короля – и то и другое одинаково сказочно. Очевидно, они бредят, и нечего ломать голову над их безумными предсказаниями. Проходит несколько минут, являются посланцы короля благодарить Макбета за его услуги престолу —
И как залог дальнейшей, высшей чести,
Он поручил мне объявить тебя
Кавдорским таном. Будь же счастлив, тан,
И в новом блеске; он – всецело твой.
Второй привет – а он был пророчеством – оправдался; остался третий.
Не будь его, доблестный спаситель родины так и состарился бы в своем новом танстве под теплыми лучами королевской милости – в этом порукой его прошлая, рыцарски безупречная жизнь. Но нет, он есть – и вызванная им картина, зароненная во впечатлительную душу героя, действует на нее с силой внушения. Правда, поэт, чтобы сделать более правдоподобным превращение верного вассала в цареубийцу, дал этому внушению помощницу в виде честолюбивой жены героя и этим создал одну их своих самых незабвенных фигур; но мрачная хозяйка Инвернесского замка только олицетворяет собой честолюбивую сторону макбетовской души, ту, которая ведет победоносную борьбу с его рыцарской верностью. И не она, не леди Макбет, вызывает перед его воспаленные взоры призрачный кинжал:
То не кинжал ли пред собой я вижу,
И рукояткою ко мне? О, дай
Схватить тебя! Но нет, рука не емлет
Тебя, а взору виден ты, как прежде…
Ты указуешь мне мой путь: таким
И я хотел орудовать кинжалом…
Ты здесь еще, и на клинке твоем
Зарделись капли крови, коих раньше
Там не было.
Да, он указует ему путь крови и с неудержимой силой увлекает его на этот путь; когда взойдет солнце следующего дня, оно увидит честного вассала убийцей – и королем.
Но это только начало; путь крови сам собою увлекает его все дальше и дальше. И вот, наконец, мера полна; один за другим все его оставляют и идут туда, где водружен стяг возмездья. Макбет ищет сам помощи у тех, которые его толкнули на роковой путь. Они готовы ему помочь; что может быть утешительнее предсказания «окровавленного младенца»:
Лей кровь как воду, жги, дерзай,
Врагов угрозы презирай!
Всех отразит Макбета трон,
Кто только женщиной рожден.
Теперь, действительно, можно «спать назло раскатам грома!» И эти раскаты раздаются – всё ближе и ближе. Настал день битвы; молодой сын вождя врагов выступает против Макбета и падает от его руки:
Ты был рожден женою!
Пусть меч сверкает – мне не страшен он
В руках того, кто женщиной рожден.
Но вот он встречается с самым грозным из своих противников – с Макдуфом. Они сражаются – вся злоба мстителя напрасна. Макбет смеется:
Ты тратишь труд свой по-пустому. Воздух
С такой же пользой рассекать ты мог бы
Своим мечом, с какой – меня. Пускай
Он поражает тех, что уязвимы.
Носитель я завороженной жизни:
Никто, рожденный женщиною, мне
Не страшен.
Но Макдуф, торжествуя, отвечает:
Да? Отчайся ж в ворожбе!
И пусть тот ангел, коему ты служишь,
Тебе расскажет, как до срока Макдуф
Из чрева мертвой матери своей
Был вырезан!
Макбет
Будь проклят твой язык!
Он лучшей части мужества меня
Лишил! Насмешники в аду, зачем
Вам верил я! Двусмысленною речью
Вы соблазнять нас любите – и слово
Свое ушам лишь сдерживать охочи,
А не надежде нашей. Не хочу
С тобою биться!
Но путь уже отрезан. Лишенный лучшей части своего мужества, затравленный волк все-таки вынужден выдержать последний бой – и погибнуть в нем.
Дважды развит тот же мотив претворенного рока. Не потому делается Макбет королем, что ему так рок судил, а потому, что, зная об этом решении и веря в него, он смело вступает на единственный путь, ведущий к суженой цели, на путь цареубийства. И не потому падает он от руки Макдуфа, что рок судил ему принять смерть от не рожденного женщиной, а опять-таки потому, что, зная об этом решении и веря в него, он теряет все свое мужество при встрече с врагом, вырезанным некогда из тела своей матери. Для Софокла рок – трансцендентный момент; зная о нем, Эдип всеми своими силами с ним борется, сохраняя в этой борьбе всю свободу своей воли. Повторяю: независимость свободной человеческой воли от рока – основной догмат античного ведовства. Для Шекспира, напротив, рок – психологический момент; он действует не сам по себе, а через нашу веру в него, так как эта вера влияет на нашу волю, покоряя и отравляя ее. И мне вспоминается распространенный предрассудок, будто античный мир «преклонялся перед роком». Что за заблуждение – даже если признать Софоклову трагедию, о которой идет речь, показателем всего античного мира! Который из двух преклоняется перед роком – Эдип ли, ведущий с ним борьбу до последней минуты, или Макбет, дающий ему тлетворную власть над своей душой, совестью, волей?
Да, это любопытное претворение античного рока в новейшей душе – этот рок-внушение, – любопытное и далеко не единственное. Так и Грозному у А. Толстого звездочеты предсказывают смерть в Кириллин день, и это предсказание – прямое воспроизведение роковых для Цезаря Мартовских ид, вплоть до зловещего «Кириллин день еще не миновал!» И все-таки он гибнет в указанный день не потому, что он был ему назначен роком, а потому, что, зная об этом назначении и веря в него, он своим страхом и волнением разрушает последние силы своего организма. Еще шаг дальше – и мы получим князя Мышкина у Достоевского, которому Аглая Ивановна предсказала, что он разобьет фарфоровую вазу, и который действительно разбивает ее, разбивает потому, что предсказание действует на его болезненно расслабленную волю силою внушения.
Где нет богов, там реют привиденья, скажем мы и здесь. Внушения новейшего волюнтаризма – это именно такие привидения, целыми роями заполнившие наш обезбоженный мир. И мы с чувством облегчения спасаемся от них к мраморному образу античной Миры; она, правда, своей тяжелой рукой разбивала иногда жизнь человека, но зато она оставляла неприкосновенным его драгоценное достояние – его свободную волю.
* * *
А впрочем, говоря о Макбете и о психологическом роке, мы как-то незаметно потеряли из виду наш основной вопрос, вопрос «За что?» Это потому, что в судьбе Макбета мы ясно различаем его вину; эта вина состоит в том, что, подчинив свою волю року, он сознательно содействовал его исполнению. Внушение не освобождает человека от ответственности – так рассуждаем мы, т. е. большинство из нас. А кто рассуждает иначе, тот вообще устраняет ответственность и в поэзии, и в жизни, так что с его точки зрения вопрос «За что?» и подавно не может быть поставлен.
Но психологический рок Шекспира – не единственное претворение античного рока в новейшей душе. Есть и другое; только его трагедия еще не написана. Будет ли она когда-нибудь написана? Не знаю. Пока же приходится считаться с тем слабым и бледным ее предварением, которое нам подарила предтеча новой поэзии. Это – трагедия имманентного рока «Призраки» Ибсена.
Мы все уважаем Ибсена, и многие из нас его любят. Но те, кто его любит, должны признать, что они его любят без взаимности. Жгучая любовь колонского соловья и эйвонского лебедя создала сочные, цветущие образы Эдипа и Макбета; под холодным, бесстрастным взором норвежского поэта-мыслителя могла вырасти лишь хилая и зябкая былинка – Освальд Альвинг.
Тут перед нами весь персонал античной трагедии рока: Лаий, Иокаста, Эдип… даже старец Тиресий возродился, но только для того, чтобы окончательно впасть во второе детство и бродить ничего не понимающей тенью среди живых и понимающих людей. А впрочем, он для нашей трагедии не нужен. Лаий – это камергер Альвинг; он уже десятый год в могиле, и на сцене только его призраки – два призрака, сын и дочь. Отцеубийства и греха с матерью нет и не будет; для наших донельзя истонченных нервов достаточно и самых легких раздражений. Осталось лишь маленькое кровосмешение, сводные брат и сестра, да и это более в виде предположения. А впрочем, и оно не нужно, как не нужна и вся фигура этой черствой, себялюбивой сестры. Нужны только двое: Елена Альвинг и ее сын Освальд; вся эта трагедия имманентного рока – не что иное как продленная через три действия сцена двойного признания.
Елена Альвинг признается – и притом дважды – в грустной тайне своего брака. В первом признании она, как истая питомица этой тусклой, насыщенной призраками норвежской атмосферы, видит в своем покойном муже только беспутного и развратного бражника, от тлетворного влияния которого она сочла долгом удалить своего подрастающего сына. Удалить за море, на юг, в ясную, солнечную атмосферу, из которой он вынес и принес на родину новое для ее туманов понятие. Да, представьте себе, сударыня, не в строгой и холодной корректности суть нравственной жизни, и не должно считать непременно развратниками тех, к кому этого мерила приложить нельзя. Там, в стране солнца, признается другое мерило нравственной жизни, и это мерило…
«Любовь», – подскажет читатель, и подскажет невпопад. Он ведь предупрежден – перед ним не Софокл и не Шекспир.
Нет, не любовь, а только жизнерадостность. «О, матушка, эта жизнерадостность! О ней у нас дома так мало знают – я ее никогда не чувствую, когда я дома. Да, и затем – трудорадостность. Да впрочем, это почти что одно и то же. И о ней вы здесь ничего не знаете. Вас здесь учили веровать, что труд – это проклятие и кара за грехи, и что жизнь – это нечто жалкое, и что чем скорее она кончится, тем лучше. А там люди и знать не хотят о подобных вещах. Там простое существование ощущается как восторг и счастье. Матушка, разве ты не заметила, что все мои произведения имеют своим содержанием жизнерадостность? Там – и свет, и солнце, и воскресный воздух. И вот почему мне страшно оставаться с тобой на родине. Почему? Я боюсь, что все то, что во мне клокочет, здесь выродится в безнравственность!»
Эти слова Освальда открывают Елене Альвинг глаза также и на ее прошлое: теперь она знает, почему ее муж стал безнравственным. Теперь ее признание о нем уже иначе звучит. Она начинает его – пусть это случайное совпадение, оно тем более знаменательно – почти так же, как и Иокаста свое: «А теперь я сниму с твоей души тяжелую обузу, мой бедный, измученный сын».
Да, некогда и его отец был жизнерадостным молодым человеком – от него так и веяло весной на каждого, кто с ним встречался. Но судьба забросила его в мещанскую среду; вместо радости – удовольствия, вместо цели жизни – должность, вместо труда – занятия, вместо товарищей – собутыльники. И в довершение всего – холодная, корректная жена, знавшая только обязанности, свои и его. Так-то случилось то, что должно было случиться: жизнерадостность, клокотавшая в груди поручика Альвинга, выродилась в безнравственность. «Освальд, твой отец уже был сломленным человеком, когда ты увидел свет».
Своим откровением несчастная мать думала снять обузу раскаяния с души своего сына: он ведь себя и свои невинные удовольствия считал виною той загадочной болезни, которая чем далее, тем более подтачивала его силы, его трудоспособность и довела до того, что он, как узник через решетку, смотрел, вздыхая, на жизнерадостность и трудорадостность других. Увы! Она этим откровением только закрепила незыблемо приговор его врачей – в современности ведь им принадлежит роль дельфийского оракула, роль вещателей и толкователей имманентного рока.
Займемся и его признанием. Он вел радостную, деятельную жизнь – жизнь живописца, там, далеко, в стране солнца. Но вот головные боли, уменьшенная трудоспособность, невозможность сосредоточить свои представления… Обращение к врачу, к великому врачу; его совсем к делу не идущие вопросы, его приговор: «Уже с вашего рождения имеете вы это червивое место…»; да-да, именно червивое, vermoulu. И почему? «Грехи отцов взыщутся с детей». Но ведь это нелепость. Мать ему всегда изображала отца как образец строгой добродетели! Да? Что ж, тогда придется допустить другую причину. Но ведь он сам никогда не вел распутной жизни! Ну, не распутную, но все же веселую; с иного и этого достаточно. Сам, значит, виноват!
Так можно было представлять себе дело прежде и надеяться на исцеление. Но признание матери подтвердило тот прежний, страшный приговор. Червоточина с самого рождения – он ведь родился сыном сломленного человека[14]14
И тем не менее этот сломленный человек несколько лет позже дает жизнь сводной сестре Освальда, здоровой и жизнерадостной, хотя и бессердечной Регине. Так как это ничем не объяснено, то в этом следует признать основную ошибку этой в остальном очень продуманной трагедии.
[Закрыть]. Теперь нет более никакой надежды. И вот эта болезнь разрастается на наших глазах. Сначала вялость, утомленность, сонливость при полной бессоннице, затем неудержимая страсть к опьяняющим напиткам. Затем все усиливающееся чувство томительного, безотчетного страха. И боли – здесь, здесь, во лбу. Там сидит болезнь, страшная болезнь, унаследованная от отца… Не кричи! Я не выношу крика. Да, матушка, она сидит здесь, как в засаде, и может вырваться в любое время, в любой час. О, если бы это была обыкновенная, смертельная болезнь! Я ведь смерти не боюсь, хотя и желал бы еще пожить. Но это! Это так ужасно, так отвратительно. Опять стать ребенком, которого кормят. И этот вечный страх; этот страх…
…Матушка, дай мне солнце!
Рок настиг свою жертву.
* * *
О нет, конечно: мы не преклоняемся перед роком, подобно этому наивному античному миру. Мы с ним справились, но – увы! – справились так же успешно, как гетевский ученик волшебника справился с чудовищным помелом-водоносом. Молотом своего рационализма мы разбили на части мраморный образ античной Миры; но эти части теперь живут каждая своей жизнью и удесятеренной отравой отравляют нашу. Алкоголизм, венеризм, бугорчатка, помешательство – они ведь не с открытым забралом сражаются с нами: эти змеи охотнее всего скрываются в корзине роз. И вот вырастает младенец, зачатый, казалось бы, в самом радостном упоении самой здоровой, зиждительной любви, – и с ним вместе, и в нем самом растет и вселённая в него змея. Расширяется червоточина в его бедном, ни в чем не повинном теле. И нигде-нигде нет спасения и безопасности: полное здоровье брачущихся не обеспечивает от призрака старинной вины отца или деда, который может возродиться во внуке или правнуке и отравить жизнь и ему, и его родителям – и за что?
За что?.. Да, вот он опять всплыл наружу, наш основной, неразрешенный вопрос. И в одном должен убедиться каждый: он относится не к одной только античной трагедии рока. Кто пожелает ее уронить, спрашивая нас: «За что страдает Эдип?» – тех мы переспросим: «А за что страдает Освальд Альвинг?» Аспект изменился, суть осталась неизменной.
И будем откровенны: к лучшему ли изменился аспект?
Ведь если и поныне судьба Эдипа заставляет дрожать отзывчивые струны нашей души, то, конечно, не потому, чтобы мы верили в тот трансцендентный рок, который в софокловской трагедии выставлен великим противником героя. Нет; мы считаемся с ним, как с символом, – сам он не реален, но зато глубоко реально то страшное, неисповедимое нечто, символом которого он является. Это-то страшное нечто в силу своей неотъемлемой и непосредственно ощущаемой реальности заставляет нас относиться и к символизирующему его трансцендентному року Софокла как к чему-то реальному… Я говорю, конечно, о нашей современной публике, а не о публике Софокла и о нем самом. Для него и для нее этот трансцендентный рок был непосредственно реален, как была непосредственно реальна и та трансцендентная богиня Деметра, которой мы поклоняемся только в таинственном шуме колосьев, «когда волнуется желтеющая нива».
Признаем же и здесь – этого требует объективность – потенциальное превосходство античного человека; оно состоит в той способности к художественной трансцендентализации, которая у нас атрофирована. Имманентный рок в ибсеновском смысле открыли не мы; его прекрасно знали и античные люди, уже начиная с очень древних времен, и он был логической предпосылкой их биологического аристократизма. Но в трагедию и в царство Диониса этот червь с его червоточиной не допускался. Как под влиянием дионисического настроения человек с его силами и страстями преобразовывался и дорастал до размеров героя, так и противник, с которым он боролся, должен был быть достойным его. Так-то перед дионисически настроенным человеком вырастал в тумане исполинский образ Миры, руководящей жизнью человека вопреки его свободной воле. Это – тот образ, к которому Шиллер обратился со словами:
Ты возвышаешь мой дух, ниспровергая меня, —
словами, как нельзя лучше выражающими двойное действие трагедии. Про имманентный рок Ибсена никто того не скажет: он только ниспровергает, а не возвышает нас.
Но для этого двойного действия необходимо, чтобы идея рока чувствовалась во всей своей чистоте; а это возможно только под условием, чтобы была устранена всякая примесь нравственной вины героя, все то, что способно направить ответ на вопрос «За что?» по пути близорукой так называемой поэтической справедливости. Чего только не говорили про эту нравственную вину Эдипа! Он вспыльчив, он опрометчив, он легкомысленен; раз ему было предсказано, что он убьет отца и женится на матери, то он должен был остерегаться враждебной встречи со всяким старцем, брака со всякой немолодой женщиной… Он, убежденный, что его родители – Полиб с Меропой в Коринфе! По-видимому, уже Софоклу пришлось иметь дело с такими ценителями его искусства; как будто против них направлена самозащита Эдипа в его посмертной драме:
Ответствуй мне: когда отцу вещанье
Лихую смерть от сына предрекло —
В каком грехе тогда повинен был я?
Ни от отца тогда еще не принял
Зародыша грядущей жизни я,
Ни от нее, от матери моей!
Затем, родившись, бедственный подвижник,
Отца я встретил – и убил, не зная,
Ни что творю я, ни над кем творю;
И ты в грехе меня коришь невольном?..
Скажи мне, праведник: когда б тебя —
Вот здесь, вот ныне, подойдя внезапно,
Убить задумал враг, – его ты стал бы
Выпытывать, и кто он, и откуда,
И не отец ли он тебе – иль быстро
Мечом удар предупредил меча?
В новейшее время такого рода художественно-нравственные рассуждения внушили Фр. Ницше его гневную отповедь (т. I, перевод под моей редакцией): «…Четвертый мучится над разрешением вопроса, почему судьба обрекла Эдипа на столь ужасные поступки, как убийство отца и женитьба на родной матери. Где же тут “вина”? Где “поэтическая” справедливость? Внезапно ему все становится понятным: ведь Эдип был, собственно, страстный малый, не сдерживаемый христианской кротостью… “Будьте кротки! – вот чему, вероятно, хотел учить Софокл, – иначе вы женитесь на своих матерях и убьете своих отцов”».
И, конечно, Ницше вполне прав. И он еще более прав, когда он в своем собственном объяснении переводит весь вопрос с этической области в область эстетическую «И вот наука, – говорит он («Рождение трагедии», перевод под моей редакцией), – гонимая вперед своей мощной мечтою, спешит неудержимо к своим границам, – и здесь-то и терпит крушение ее скрытый в существе логики оптимизм. Ибо окружность науки имеет бесконечное множество точек, и в то время, когда совершенно еще нельзя предвидеть, каким путем когда-либо ее круг мог бы быть окончательно измерен, – благородный и одаренный человек еще до средины своего существования неизбежно наталкивается на такие пограничные точки окружности и с них вперяет взор в неуяснимое. Когда он здесь к ужасу своему увидит, что логика у этих границ свертывается в кольцо и в конце концов впивается в свой собственный хвост, тогда прорывается новая форма познания – трагическое познание, которое, чтобы быть хотя бы только выносимым, нуждается в защите и целебном средстве искусства».
Идея рока – одна из точек этой окружности. Здесь этическая логика оптимизма, основанная на равновесии вины и кары и возлагающая бремя новой вины на нарушителя этого равновесия, безнадежно терпит крушение – равновесие нарушено, и тем не менее его нарушитель не подлежит ответственности, ибо он – рок. И мы, видя, как наше логическое познание, отброшенное от этих незыблемых граней, свертывается в кольцо, вперяем наш страдальческий взор в пространство и с мучительным напряжением ждем нового познания взамен старого этико-логического, которое нас оставило.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.