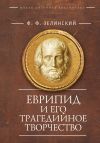Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 33 страниц)
Есть и древо у нас – равного нет в Азии дальней…
И все же можно спросить: забыт ли при этом центральный мотив нашей трагедии, мотив благодати? Нет, не забыт. Весь этот гимн ведет к одной общей мысли – к той, что аттическая земля пользуется особой милостью богов, и тех ласковых, идиллических, о которых говорится в первой паре строф, и тех грозных и могучих, которым посвящена последняя. Таковы силы, охраняющие Аттику, – и в их-то сонм суждено вступить и Эдипу, согласно дарованной ему богами благодати.
* * *
Но в ожидании того уже недалекого времени, когда Эдип будет охранять Аттику, – придется охранять его.
Появляется Креонт с отрядом воинов. Вначале он пытается притворно-ласковой речью склонить Эдипа вернуться на родину, рассчитывая на то, что он не знает о постановлении относительно его недопущения в фиванскую землю. Когда же Эдип его уличает, он прибегает к нравственному насилию: Исмену он уже раньше схватил при ее выходе из рощи Евменид, теперь он в присутствии отца схватывает и Антигону и велит ратникам увести обеих сестер по дороге в Фивы. Когда и это не действует на Эдипа, он пытается схватить и его, заменяя нравственное насилие физическим. Но вовремя явившийся Тезей заступается за своего гостя; во главе своей дружины он отправляется преследовать ратников, уводящих обеих дев, оставляя пока Креонта у себя заложником. Успех ему сопутствует, и он скоро возвращает Эдипу его дочерей.
Как мы уже видели, эти сцены характерны для трагедии гикесии как для таковой; поскольку «Эдип в Колоне» является таковой, они не могли в нем отсутствовать. Дарованная просителю помощь только тогда оказывается действительной, когда попытка врага-насильника обидеть его терпит крушение. При важности гикесии в греческой жизни с ее еще зачаточным международным правом – таким сценам был обеспечен интерес зрителей; а присущий им нравственный элемент вполне оправдывал усердие, с которым поэты-учителя, не боясь повторять себя и других, в разных образах драматизировали этот трогательный и благодарный мотив.
Но всё же мы видим в «Эдипе Колонском» как целом – трагедию не гикесии, а благодати. Вообще говоря, этот последний мотив в наших сценах отсутствует: ни Креонт, приглашая Эдипа в Фивы, не говорит ему о той благодати, которая делает его столь ценным союзником, – это действительно было бы неполитично, – ни равным образом Эдип, умоляя о защите, не ссылается на тот чудесный дар, который он приносит стране, – это было бы излишне, так как его жалоба достаточно оправдана его характером как просителя. Да, несомненно: в силу драматургической логики мотив благодати отсутствует в наших сценах. Но зато не отсутствует мотив скверны; как уже было сказано, он в последний раз заявляет о себе в устах врага, Креонта.
Его положение было действительно трудное; захваченный на месте преступления в тот момент, когда он пытался силою увести просителя из страны, оказавшей ему убежище, – что мог он ответить на строгий вопрос царя оскорбленной его насилием общины? Только одно: что именно этот проситель был недостоин обещанной ему помощи, недостоин потому, что он был – нечист. Собственно говоря, Эдип уже ответил на это обвинение; это было тогда, когда оно раздалось против него из уст хора. Теперь Софокл заставляет его ответить на него вторично и более обстоятельно: отсюда видно, какое огромное значение он придавал выяснению этого вопроса. Действительно, им определяется весь смысл «Эдипа Колонского» как трагедии благодати; мы поэтому вернемся к нему в заключительной главе.
Мимоходом укажу еще на сходство наших сцен с «Филоктетом» в том его месте, где Одиссей отнимает лук у лемносского отшельника, желая этим заставить его вернуться к своим. Момент нравственного насилия один и тот же, усугубляя этим сходство между обоими героями, а также и между их мучителями – Одиссеем там и Креонтом здесь. В обеих трагедиях насильник извиняется, что он взял на себя этот труд по поручению своих, в обеих он ссылается на Зевса, вдохновителя сильных, в обеих он пытается к нравственному насилию прибавить еще и физическое. При незначительном временном расстоянии, отделяющем обе трагедии, можно смело утверждать, что поэт перенес мотив из одной трагедии в другую – на что условия драматического творчества давали ему полное право.
* * *
А впрочем, для всех этих сцен с Креонтом – если не считать отдельных мест – рассудительный толкователь Софокла не будет требовать от читателя другого интереса кроме исторического. Другое дело – следующие теперь сцены с Полиником. В них сосредоточен весь драматический пафос нашей трагедии. Мы их тоже ждали после возвещения Исмены; как Этеокл и Полиник были равносильными противниками, так и посольства их к отцу должны были быть событиями параллельными и, так сказать, симметричными. Но вместо симметрии поэт применил градацию. Этеокл вместо себя послал Креонта – Полиник является лично; посол Этеокла приводит отряд воинов – Полиник приходит один; посол Этеокла пускает в ход насилие и коварство – из уст Полиника отец услышал одни только просьбы. В этом сказалось лишний раз мастерство поэта: ослабление средств – усиление действия.
Все же Полиник прибег к одном средству принуждения, на которое ему давало право его одиночество, – к гикесии: он припал просителем к алтарю колонского Посидона. Но этой мерой он хочет обеспечить себе только возможность беседы с отцом, не более. Будучи сам принят в Афинах Тезеем на основании гикесии, Эдип менее всего вправе отказать другому гикету: как ему ни тягостно это свидание – он соглашается.
Тягостно свидание – с кем? С сыном! Надо проникнуться античным «филономизмом», античным чувством полной солидарности и почти тождественности отца и сына, чтобы понять всю горечь этого сопоставления. То, что обычно бывает для отца-старца утешением в крайнем горе, приход сына, то для этого старца само по себе становится крайним горем. Вот где сказывается полная безотрадность жизни.
И вот причина, почему именно в этом месте своей драмы девяностолетний поэт вставил одну из своих самых чудных хорических песней – песнь «Кто за грани предельных лет». Эта песнь обыкновенно понимается как самое красноречивое свидетельство античного и особенно трагического пессимизма; по праву ли – это вопрос, который может быть разрешен лишь в связи с трагическим миросозерцанием вообще. Оставляем его в стороне; во всяком случае здесь цель поэта – создать настроение, подходящее для безутешности следующей сцены свидания отца с сыном.
Приходит, наконец, возвещенный Тезеем проситель, Полиник, как это заранее знали все. Слово, с которым он обращается сначала к сестрам, затем к отцу, представляет некоторое внешнее сходство с первой речью Креонта. Но именно только внешнее: речь Креонта была притворной, мы это знаем, да и сам Эдип этого от себя не скрывал. Напротив, здесь мы имеем неподдельное, искреннее раскаяние. Чем это раскаяние вызвано – это другой вопрос: тем ли, что этот сын теперь впервые своими глазами видит, что он сделал. Или тем, что он и сам за истекшее время испытал долю изгнанника, – но в том, что он говорит искренно, даже его отец не сомневается.
Я сам за грех казню себя, отец;
Но правду ведь людская мудрость молвит:
Во всяком деле у престола Зевса
В его совете Милость восседает…
И вот во имя этой Милости он просит отца простить его, присоединиться к нему, бросить на колеблющуюся чашку его правого дела ту всепобеждающую благодать, которую боги даровали ему… Правого дела? Да, конечно: ведь он – старший брат и по праву первородства должен был занимать престол; к тому же он был изгнан, и притом не открыто, а путем тайных козней и партийных интриг. Но это его обидчику не сойдет безнаказанно, о нет: за него Адраст и его вассалы-воины, среди них:
Тот, что зарево пожара
Возжечь поклялся в Фивах…
Вот оно, значит, правое дело.
Мы здесь должны несколько дополнить даваемую самим поэтом характеристику. Эдип настроен недружелюбно против своего родного города, спора нет. Отдавая себя во власть Афин, он этим самым обеспечивает им защиту от своей родины; он знает, что фиванцам, благодаря его чудесной силе, придется испытать поражение в аттической земле и «напоить своей горячей кровью его холодный прах». До этого предела он считает законным свой гнев против изгнавшей его родины – но не дальше. То же, о чем мечтает Полиник, – уже не оборонительная война, а наступательная против города Кадма, война, имеющая своей целью его уничтожение… Вот, думается мне, что ответил бы Эдип тому, кто стал бы утверждать естественность и необходимость солидарности между ним и его сыном, солидарности, обусловленной одинаковым гневом против обидчиков в стенах семивратного города.
Но до этого дело не доходит; мысли Эдипа идут по иному пути. За что борется его сын? За власть, купленную ценою его изгнания. Он вспоминает об этом изгнании, вся его горечь еще раз представляется его душе. Нет, примирение невозможно: то проклятие, которое он произнес некогда, будучи несчастным богоотверженным грешником, – его он с удесятеренной силой повторяет теперь, когда боги его возвеличили и сделали сосудом своей благодати:
Ты не добудешь родины желанной,
В гористый Аргос не вернешься ты.
Братоубийственной враждой пылая,
Падешь и ты – и он, обидчик твой…
Иди, иди и возвести кадмейцам
И доблестным союзникам твоим,
Какою лаской сыновей любимых
В последний путь благословил Эдип.
Таково последнее слово Эдипа своему сыну – слово, раздающееся на рубеже рощи Эриний, под густым покровом туч, предвестниц предстоящей грозы. С этим словом в душе его сын отправится под Фивы и погибнет там, убитый проклятием своего отца.
Итак, перед нами убийство? Нет, самоубийство.
Античный филономизм естественно ведет к такому пониманию: отказывая сыну в прощении, Эдип поступает так же, как Аянт, отказывающий в прощении самому себе. Он порывает этим все нити, связывающие его с жизнью; отныне ему нечего более делать на земле, он готов для того мистического акта, который сделает его духом-хранителем приютившей его страны.
Последняя сцена – маленькая сцена Полиника с Антигоной – только подтверждает бесповоротность исхода предыдущей. В то же время она написана для того, чтобы служить мостом между этой драмой и «Антигоной», закрепляя задним числом трилогическую связь между тремя фиванскими драмами, насколько это теперь еще было возможно.
* * *
Следующая крупная сцена – тот самый мистический акт, о котором была речь только что, цель и исход всей трагедии. Он состоит из двух частей: первая разыгрывается перед нашими глазами, о второй мы слышим из уст обычного в подобных случаях «вестника».
Припомним еще раз данный Эдипу во дни оны Аполлоном оракул. Он войдет нечаянно в рощу Евменид; он станет сосудом божьей благодати; наконец, в-третьих, его призовет «необманное знамение»:
Земли внезапный трепет, грома гул
Иль пламень ясный Зевсовой зарницы.
О наступлении первой приметы он узнал от колонского незнакомца, и ее последствием были те сцены, которые характеризуют нашу трагедию как трагедию «гикесии»; об осуществлении также и второго обещания его известила Исмена. И его последствием были параллельные сцены с Креонтом и с Полиником, противопоставление скверны и благодати. Теперь очередь за третьим.
Наступает гроза. Ее приближение возвещается тревожной песнью хора. Необыкновенная, видно, это гроза; хору становится страшно, на одну минуту он готов даже отнять свое доверие и свою любовь у этого слепого скитальца, которого он так радушно принял, забыв о тяготеющей над ним скверне. Но Эдип понял, что это – боги преисподней зовут его к себе. Вперемежку с раскатами грома раздается его умоляющий голос: пусть еще раз – в последний раз – призовут к нему Тезея, чтобы он мог оставить ему спасительные для страны заветы, прежде чем его навеки осенит каменистый покров этой страны.
Является Тезей. Вторично он оказывается прозорливее колонских селян: грозное небесное знамение не расшатало его безграничного доверия к его гостю:
В твоих устах вещаний клад нелживых:
Тебе я верю; молви, что мне делать.
Там, в эфире, после содроганий отбушевавшей грозы, расстилается беспредельная синева южного неба; здесь, в сердце Эдипа, после бурной сцены с Полиником царит безоблачная ясность предсмертного настроения, ясность, невольно передающаяся и прочим участвующим, и нам, читателям. Все деяния, все страдания стали прошлым; прошлым стал и последний призыв жизни, раздавшийся из уст воителя-сына, и болезненный отклик, который этот призыв встретил в омраченной душе отца. Все запечатленное страстью, движением, жизнью отошло в прошлое; то, в чем теперь живет Эдип, запечатлено ясной недвижностью вечности. Это – он сам; это – святая Аттика, представшая теперь перед его глазами в лице этого рыцарского царя Тезея, но созерцаемая им под печатью вечности в непрерывной веренице ее сменяющих друг друга государей; это – горящее над его головой недвижно-ясное сияние благодати.
Да, то, что мы теперь услышим и увидим, – нечто единственное в своем роде. Свершится чудо, мы это знаем; но чудеснее самого чуда та торжественно-благоговейная атмосфера, которая уже теперь нас охватила, которая из себя создает чудо как свой естественный плод. Есть всё еще люди, охотно противополагающие «язычеству» христианство; пусть они внимательно прочтут нашу сцену и посмотрят, куда денется перегородка, разделяющая эти два миросозерцания.
Мы слышим предварительный наказ Эдипа Тезею – предварительный, ибо окончательный не будет иметь посторонних свидетелей. Тот подземный терем, в который он будет принят весь как он есть, не изведав смерти, – его он должен сам найти, движимый живущей в его груди божьей волей. Присутствовать при его окончательном исчезновении может один только Тезей; и он никому не должен выдавать тайны, кроме сына, при приближении смерти; тогда осеняющая его гостя благодать будет обеспечена его стране.
Безусловно ли? С точки зрения религии – да. Но религиозное сознание V века в лице лучших людей того времени стремится чем далее, тем более заменить самодовлеющую как скверну, так и благодать такою, которая обусловливалась бы порочною или благою волею человека. Нечего говорить, что такие попытки достойны самого живого к ним внимания историка морали. С этой точки зрения и предсмертное слово Эдипа заслуживает нашего особого сочувствия. Благодать обещана, обратно она взята не будет; такова непреложная воля Аполлона. Но Эдип теперь сам – дух высшего разряда. Прощаясь с Афинами, он наказывает им быть достойными той милости, которая сейчас разольется над ними, и жить, чуждаясь греха. Лишь с этим наставлением его благословляющий привет кончен.
Остается – уйти:
А ныне – в путь. Торопит божья воля:
Идти пора, не вправе медлить мы.
Вы, дети, следуйте за мной. Доныне
Вы темный путь указывали мне;
Теперь же я вам проводник чудесный.
Идите, не касайтесь; дайте мне
Тот холм священный самому найти,
Где рок мне сень укромную готовит.
Сюда, друзья! Сюда идти велит мне
Гермес-вожатый и богиня мглы.
О свет бессветный! Некогда своим ведь
Я звал тебя. Теперь в последний раз
Меня твой луч ласкает; в безднах ада
Отныне скрою душу я свою.
Хозяин дорогой! Навеки счастлив
Будь ты, и люди, и земля твоя;
А в счастия сиянье не забудьте,
Друзья, и мне честь памяти воздать.
Это – последнее, что мы слышим из уст Эдипа на сцене; остальное нам доскажет «вестник», появляющийся после тревожно-благоговейной молитвы хора подземным силам. С неизбежной условностью этого вестника придется, разумеется, примириться; в данном случае его задача была особенно трудна. Он должен был рассказать о том, что видел, и дать догадаться о том, чего он видеть не должен был и не мог.
Действительно, из этих двух частей состоит закулисная сцена исчезновения Эдипа.
В первой мы видим его несколько поодаль от рощи Евменид, в обществе Тезея и дочерей; здесь происходит последнее омовение Эдипа – при жизни еще, так как смерть ему не суждено испытать. Интересно, что ближайшей святыней, из которой ему приносят воды для омовения, оказывается не роща Евменид, а храм Деметры Хлои; в его, значит, сфере находилась могила Эдипа. Нам вспоминается этеонский миф о похоронах этого героя, согласно которому он тоже стал «просителем Деметры»; это совпадение лишний раз подтверждает зависимость колонской легенды от этеонской, о которой речь была выше.
После омовения – второй призыв подземных богов (первым была чудесная гроза на сцене): подземный гром. Это значит – надо прощаться с детьми. Все ярче и ярче сияние над головой Эдипа: к небесной благодати присоединяется земная, это чисто софокловский голос нежной человеческой любви:
Эдип же, зов нерадостный услышав,
Сложивши руки над главами их,
Сказал им: «Дети, час настал мой ныне.
Уж нет у вас отца; прошли навеки
Для вас ухода тягостные дни.
Немало мук я причинил вам, знаю —
Одним лишь словом искупляю их:
Такой любви не встретите нигде вы,
Какую к вам родитель ваш питал»…
Тот ли это еще Эдип, из уст которого под мрачным сводом грозовых туч раздавалось слово проклятия против согрешившего, но кающегося сына? Нет: тот отошел в прошлое. Над главой же этого под ясной синевой вечности сияет благодать – и сияет любовь.
И вот каковым он должен остаться и в нашей благоговейной памяти – и он, и его творец, девяностолетний Софокл.
Третий призыв – этот раз уже явственный голос из недр земли – вырывает дочерей из рук Эдипа; пора кончить сцену прощания, мать-Земля властно требует себе своего избранника. Эдип поручает обеих дев великодушию Тезея и затем, сопутствуемый им одним, идет дальше, к месту, о котором вестник умалчивает. Здесь – вторая, тайная часть сцены. Эдип указывает своему хозяину обрядность своего мистического культа – все мистические культы предполагались происшедшими таким образом, – а затем:
Отойдя немного,
Вспять обернулись мы и видим – странник
Исчез, а царь рукою заслоняет
Глаза, как будто страх невыносимый
Привиделся ему. Прождав немного,
Молитву сотворил он и послал
Привет совместный и богам Олимпа,
И матери-Земле. Какою смертью
Погиб тот муж – сказать никто не может,
Опричь царя Тезея. Не перун
Его унес, летучий пламень Зевса,
Не черной вьюги бурное крыло.
Нет, видно, вестник, от богов небесных
Ниспосланный, его увел; иль бездна
Бессветная, обитель утомленных,
Разверзлась ласково у ног его.
Ушел же он без стона и без боли,
С чудесной благодатью, как никто.
Сам Гермес, видно, вестник Олимпа и в то же время проводник душ в подземный мир, явился обоим мужам; земля разверзлась при его появлении и навеки приобщила Эдипа к тем благотворным силам, которые, незримые и могучие, живут и действуют в ее недрах.
* * *
Для нас трагедия здесь кончена; для античного зрителя и читателя – нет. Гибель многострадального героя должна быть почтена плачем; его мы слышим в «сцене пафоса» обеих дочерей. Ей ставит предел появление Тезея; итог происшедшему он подводит в веских словах, поставленных нами во главу нашего рассуждения:
Прекратите ваш, плач, дорогие: чей гроб
Под землей благодать осенила, о том
Горевать не велит Немезида.
Но поэт вспомнил еще раз свою любимую трагедию «Антигону»: желая подготовить ее, он влагает в уста дочерей Эдипа просьбу, чтобы их отправили в Фивы. Тезей согласен; и тут только трагедия кончена.
IV
Если смотреть на внешнюю связь событий, то можно будет сказать, что «Эдип в Колоне» продолжает «Царя Эдипа». Так, очевидно, судили все те, кто соединял эти две трагедии с «Антигоной» в одну «фиванскую трилогию». Но если отвлечься от внешности фабул и заглянуть в смысл трагедий, то придется признать, что «Эдип в Колоне» не продолжение «Царя Эдипа», а стоит параллельно с ним, опровергая и упраздняя его. Та была «трагедия рока», эта – «трагедия благодати», а благодать опровергает и упраздняет рок. Если мы не знали на основании других соображений, что между обоими «Эдипами» лежит промежуток времени в двадцать лет, мы могли бы это заключить из их внутренней непримиримости. Одна и та же судьба одного и того же человека рассматривается здесь и там; но там – под аспектом безжалостного рока, здесь – под аспектом примиряющей и уравновешивающей благодати.
На этом прежде всего следует остановиться.
Действительно, мы знаем: переход от трилогического принципа Эсхила к новому, так сказать, генологическому (heno-), создал для Софокла необходимость дать так называемой «трагической вине» место в предшествующей действию части фабулы. Это правило в сохраненных трагедиях не допускает исключений, что дает нам право считать его софокловским вообще. Если теперь спросить себя, в чем заключается «трагическая вина» «Царя Эдипа», то всякий скажет: в отцеубийстве и кровосмешении героя, которые представлены совершившимися фактами в ту минуту, когда трагедия начинается. И возражать против этого, разумеется, невозможно. Но если поставить тот же вопрос по отношению к «Эдипу в Колоне» – ответ придется дать тот же: его трагическая вина – то же отцеубийство и кровосмешение, которые, вместе взятые, дают тот важный для развития действия «мотив скверны», противоположный мотиву благодати. Итак, задача поставлена и там и здесь одинаково; разрешается она различно.
Впрочем, прежде чем остановиться на этом различии, полезно указать на сходство: и здесь и там одинаково отрицается всякая виновность Эдипа. По отношению к «Царю Эдипу» это все еще часто оспаривается, хотя и неосновательно; по отношению же к «Эдипу в Колоне» и спора никакого возникнуть не может, так как сам поэт устами своего героя достаточно осветил этот вопрос, и притом дважды. Итак, одно решение и здесь и там одинаково устраняется: такое, при котором несчастье Эдипа явилось бы заслуженной карой за его прегрешения.
А если так, то чем же представится нам «трагическая вина» (в условном значении этого термина) Эдипа?
По «Царю Эдипу» – роковым деянием; деянием ее называет сам Эдип, и, поскольку она таковое, он сам себя за нее карает. Сравните замечательное место:
Мое решенье… Нет, оставь советы,
Оставь упреки: лучше не найти!
Скажи, какими б я дерзнул очами
Взглянуть на Лаия среди теней.
Взглянуть на мать несчастную… а с ними
Такие мной совершены деянья —
Не искупить и тысячей смертей.
Но в то же время она – деяние роковое и потому расплывающееся в идее рока вообще, т. е. в идее либо поднравственной, либо сверхнравственной, но уже во всяком случае не нравственной. В этом отношении трагедия «Царь Эдип» стоит особняком или почти что: поэт сознательно покидает круг нравственного миросозерцания, смыкающий прегрешение с возмездием; и сознательно пребывает вне его, в эмпирее чистой эстетики.
Но блеск этого эмпирея слишком ослепителен. Наступила и для Софокла старость, хотя и позже, чем для других смертных; орлиный взор семидесятилетнего мужа потух, затуманенный девяностой зимой его жизни. Он стосковался по том уютном нравственном круге, смыкающем прегрешение с возмездием; вернув ему своего Эдипа, он получил новую, религиозно-нравственную концепцию его судьбы.
Эдип ни в чем не виновен; это остается неприкосновенным и подчеркивается, как мы видели, больше прежнего. А чтобы никто в этом не сомневался, из его трагической вины устраняется всякая примесь деяния, хотя бы и рокового; вышеприведенному месту из «Царя Эдипа» противопоставляются резко противоречащие ему слова:
Свои деянья, если молвить правду,
Я претерпел скорее, чем свершил.
Не деянья, значит, а страдание – такова новая концепция. Не только слепота, изгнание, нищенство – нет: и отцеубийство с кровосмешением были страданиями, а не деяниями.
И в этом с известной точки зрения нельзя не признать прогресса; он состоит в постепенном сужении и упразднении понятия самодовлеющей скверны, о которой у нас речь была выше. Если в сравнительно ранних «Трахинянках» отсутствие сознательности рассматривалось еще только как смягчающее обстоятельство:
Но если кто невольно согрешил,
Того прощают – и тебе простится, —
то в своей «Тиро́» поэт уже решительно заявляет:
Тот не дурен, кто согрешил невольно.
Но если так, то за что же Эдип тогда сам себя казнил ослеплением? И здесь понадобилась ретрактация. В «Царе Эдипе» герой отстаивает нравственную необходимость этого поступка:
И я, бесчестью сам себя обрекший,
Дерзнул бы взор на Фивы свой поднять?
Нет-нет. Мне жаль, что не могу и слуха
В ушах своих родник засыпать я;
Тогда бы тело жалкое свое
Я отовсюду оградил; я был бы
И слеп, и глух, и уж ничто б о горе
Напоминать мне не могло моем.
Здесь он берет эти слова назад, так же как и неприемлемое и для нас понятие «пятна несчастья» (κηλὶς συμφoρᾶς), содержащее в себе в скрытом виде понятие самодовлеющей скверны. Нет, его самоослепление не было нравственно необходимым поступком, оно состоялось под влиянием отчаяния:
Прошли года; остыл душевный жар:
Я понял, что раскаяньем безмерным
Жесточе жизнь разрушил я свою,
Чем юности моей грехом невольным.
А чтобы возвысить эту новую концепцию над субъективизмом единоличного суждения замешанного и придать ей объективный характер, поэт влагает ее в уста и Антигоне в том увещательном слове, с которым она обращается к отцу, заступаясь за брата:
Забудь на миг о нынешних невзгодах;
Припомни день, когда удар сугубый —
От матери и от отца – ты принял:
Печален страсти яростной исход!
Так учит страшный памятник и вечный —
Угасший свет истерзанных очей.
С эстетической точки зрения можно пожалеть об этой ретрактации; но для поэта она была долгом совести. Нельзя было допустить разумное и справедливое самоосуждение Эдипа; нельзя было равным образом вплести его самоослепление в цепь роковых событий, так как року нет места в управляемом правосудными и милостивыми богами мире. Оставалось одно – представить его актом отчаяния, что поэт и сделал.
Акт отчаяния – почти то же, что акт невольный; самоослепление Эдипа прибавляется к его невольному отцеубийству и невольному кровосмешению как третье несчастье героя, отягчающее чашку весов божьей вины… Божьей вины? Это ли не кощунство?
Мы стоим тут на пороге замечательной религиозной концепции. Проблема Иова не раз уже и раньше мелькала перед сознанием эллинов; бедственная участь благочестивого царя Креза глубоко потрясла их совесть, заставляя искать примирения на почве нравственного миросозерцания. За что безвинно пострадал Крез? Мыслители в духе Эсхила могли, основываясь на древнем филономизме, утверждать, что он искупил своим страданием грех своего родоначальника Кандавла; но Вакхилид пошел по иному пути. Страдание Креза было лишь испытанием; Аполлон с лихвой вознаградил его за потерю царства и нравственные мучения на костре, перенеся его с семьей в свой земной рай в стране гиперборейцев. Не боится долгов тот, кто в каждую данную минуту может их уплатить. Берем назад выражение «божья вина», заменяем его выражением «божий долг» перед смертными – долг сверхсостоятельного должника.
Наслав на Эдипа не заслуженные им несчастья, боги становятся его должниками. Пусть он не тревожится, его стоны и слезы зачтутся ему, ничто не пропадет даром. Тяжеле и тяжеле станет чаша божьего долга – а она же и чаша воздаяния, чаша благодати.
И вы, смертные, взирая на участь царственного скитальца, не довольствуйтесь грустной моралью, которую ваш поэт вам преподнес в конце своего «Царя Эдипа»:
Жди же, смертный, в каждой жизни завершающего дня.
Не считай счастливым мужа под улыбкой божества
Раньше, чем стопой безбольной рубежа коснется он.
Знайте, и ваши стоны и слезы вам зачтутся: чем выше вокруг вас вздымаются валы бедствий, тем ярче засияет для вас по окончании вашей краткой земной жизни заря благодати.
Да, изменилось настроение нашего поэта. Когда-то его душа черпала мужественную свежесть в порывах бури рока; теперь она устала, ей отрадно отдохнуть под сенью благодати. Везде правосудие, везде равновесие; можно смело довериться руке божества – если она незаслуженно повергнет тебя, она еще выше тебя поднимет.
И нам интересен образ этого старца, в восьмидесятые годы своей жизни исправляющего трагедии более ранних лет и приводящего их в соответствие со своим новым и окончательным миросозерцанием. Здесь роковые деяния и незаслуженные муки «Царя Эдипа» – пусть они вторично предстанут перед нами под аспектом божьего долга, погашаемого божьей благодатью. Там – в «Трахинянках» – мрачная смерть на костре героя из героев Геракла; некогда поэт находил удовлетворение в несокрушимой отваге этого мужа, ничего не требующего от жизни, кроме того, что он сам себе мог дать, – теперь он и над его кончиной возжег ореол благодати («Филоктет»):
Трудов я много перенес – за то
И доблести венец стяжал бессмертный;
Его и ныне видишь ты на мне.
Там, наоборот – в «Электре», в «Эпигонах» – дерзновенный юноша, поднявший свою руку на священную жизнь своей матери и оставшийся тем не менее безнаказанным, так как его подвинула божья воля. И это нужно исправить – пусть его преследуют Эринии в дальние земли, пусть он лишь ценой долгих скитаний и страшных опасностей добудет обратно престол своего отца («Хрис», «Алет», «Алкмеон»).
И это – только то, что мы случайно можем установить; кто знает, сколько других примеров для нас пропало. Что сказать об этой исправительной деятельности поэта в его глубокой старости, деятельности, к которой я недаром применил заимствованный у блаженного Августина термин «ретрактации»? Так престарелый Гете освободил своего Фауста от страстной горечи его земных исканий благоуханием ангельских роз; так и Рихард Вагнер к концу своей жизни осветил шопенгауэровскую мрачность своих «Нибелунгов» зарей благодати в своем предсмертном «Парсифале» и, «сломленный, поник у подножия креста», как гневно воскликнул молодой еще Ницше.
Я только ставлю вопрос; пусть на него ответят ровесники «Эдипа в Колоне» и его поэта.
* * *
Все же справедливость требует признать, что герой Софокловой трагедии мало похож на убеленного сединой Фауста или на молодого подвижника предсмертной драмы Вагнера. В последнее время получила известность строгая его характеристика, данная Эрвином Роде: «Неправильно думать, будто усугубленная добродетель доставляет Эдипу бессмертие в назидание и утешение другим, таким же добродетельным. Мы видим его безвинно страдающим, да, но и ожесточенным в его раздражительно-резком темпераменте, мстительным, неумолимым и полным самомнения, не просветленным испытанными несчастьями, а одичалым. Достаточно беспристрастного чтения драмы, чтобы убедиться, что этот дикий, гневный, безжалостный старец, жестоко проклинающий своих сыновей, мстительно предвкушающий несчастье своего родного города, – отнюдь не причастен тому “глубокому божьему миру”, той “просветленности благочестивого страдальца”, которые традиционная литературная критика хотела бы усмотреть у него. Поэт, не привыкший завешивать от себя жизненную действительность приторно-успокоительными фразами, ясно замечал, что несчастье и нужда не “просветляют” человека, а понижают его благородство. Его Эдип благочестив, это верно (хотя он был таковым и раньше, в “Царе Эдипе”), но он “одичал”, совсем как Филоктет в его бедствиях». Все это правда – если не считать последних, предсмертных сцен – и Роде справедливо восстал против неисторической христианизации софокловского героя. И все-таки я скажу: христианское понимание благодати – предел того развития, на пути которого находился Софокл. Понятие благодати не им создано; мы знаем, оно возникло на почве героизации. За что доставалась человеку героизация? За то, что он был сродни богам; что он сражался под Троей; что он основал город; что он вообще был могуч после смерти и заявлял о своей мощи разными злоключениями, которые он посылал на строптивый город. Где тут было нравственное начало? Нигде. Здесь не то: Эдип сподобляется быть сосудом благодати за то, что он безвинно перенес страдания – перенес их так, как сказано:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.