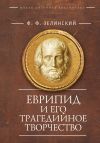Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 33 страниц)
Остановимся немного на этом изложении. Первое, что нам бросается в глаза, – это то, что понимание чести здесь такое же, как в «Илиаде». Она отождествляется со своим внешним символом, с доспехами Ахилла. Как Ахилл некогда счел себя обесчещенным вследствие отнятия у него пленницы, почтенного ему дара от войска, так и теперь Аянт считает свою честь потерянной вследствие того, что ему не достались доспехи Ахилла, назначенные «лучшему» из ахейцев. А так как честь была содержанием всей его жизни, то он не в состоянии пережить ее потерю. Последовательность полная; ничего нового новый момент Аянту не открывает. Он остается тем же, чем был и раньше.
А теперь перейдем к «Малой Илиаде», дополняя и тут эксцерпт Прокла посторонним источником, а именно схолиастом на Аристофана («Всадники»). Разногласие начинается с того момента, когда после произнесения обоими соперниками своих речей ахейские вожди совещаются о приговоре. Нестор советует отправить разведчиков под троянскую стену и подслушать, что говорят враги. Там, на стене, благодаря перемирию, собрались троянские девушки; естественно, что они говорят о событиях в греческом стане, о споре из-за доспехов. Одна вступается за Аянта:
Поднял Ахилла-героя и вынес из сечи кровавой
Только Аянт; Одиссей же коснуться его убоялся.
Но другая, по внушению Афины, ей ответила:
Что говоришь ты? К чему неразумное молвишь ты слово?
Ношу снесет и жена, если муж ее сильный возложит.
Согласно этому бессознательному приговору троянок, ахейские вожди присуждают доспехи Одиссею. «Аянт впадает в безумие: он производит резню среди стад ахейской добычи и затем сам себя убивает». Эти последние слова Прокла понятны только в том случае, если развить их в соответствии с трагедией Софокла: Аянт, впав в безумие, режет быков и баранов ахейской добычи, воображая, что он убивает своих обидчиков-ахейцев, а затем, прозрев, убивает самого себя. Другими словами: между обидным для Аянта приговором вождей и его самоубийством поэт «Малой Илиады» вставил еще одно звено, которого не знает поэт «Эфиопиды», и это звено – позорный поступок самого Аянта. Приговор вождей отнял у Аянта только внешнюю честь, олицетворенную в доспехах Ахилла; это было обидой, но не более – и за эту обиду он решил отомстить своим врагам, но не лишить себя жизни. План мести, однако, не удается: исступленный герой обращает свой ретивый меч против беззащитных животных. Этим он опозорил себя – именно он себя, а не другие его; отныне он стал посмешищем для своих товарищей. Вот этого-то позора, этой потери внутренней чести он не может вынести: прозрев, он сам с собою кончает.
«Малая Илиада» – сравнительно поздняя поэма; она была составлена около середины седьмого века до Р. Х., в эпоху наибольшего влияния Дельфов и религии Аполлона. Поэтому вполне возможно допустить, что ее поэт ввел этот новый элемент, чтобы на нем произвести метаморфозу понятия чести, оторвать ее от внешнего символа и перенести в самое сердце, в самую душу человека. Но, конечно, не обладая самой поэмой, трудно утверждать наверное, какие были замыслы у ее поэта. А впрочем, даже если бы наше предположение оказалось ошибочным, все-таки то построение эволюции чести, которое мы здесь допускаем, остается в силе; придется только критический пункт отнести к более позднему времени и приписать ту заслугу, о которой идет речь, уже не автору «Малой Илиады», а Софоклу.
* * *
К нему мы сейчас перейдем; хронологическая последовательность требует, чтобы мы сначала коснулись двух других поэтов, писавших раньше Софокла; это были Пиндар и Эсхил. Из них Пиндар, несомненно, примыкает к «Эфиопиде», а не к «Малой Илиаде». На первый взгляд это может показаться странным: ведь он был певцом Аполлона, пророком аполлоновской религии и морали. Да, конечно; но в то же время он был другом рыцарской Эгины и упоминал об Аянте в одах, посвященных эгинетам; а эти последние благоговели перед памятью своих родных героев-эакидов, к числу которых принадлежал и Аянт. Вполне понятно поэтому, что вариант, согласно которому Аянт опозорил себя бессмысленным актом мести, был для Пиндара неприемлемым. Мало того, даже вариант «Эфиопиды», согласно которому Аянт был обижен приговором товарищей-вождей, показался Пиндару нуждающимся в поправке. Быть не может, чтобы это был открытый, искренний, честный приговор. «Речи – лакомство для завистливых; зависть же всегда уязвляет одних только добрых, против худых она не выступает. Зависть сразила и Теламонова сына, заставив его броситься на свой меч. Да, безъязычного мужа, хотя и с храбрым сердцем, забвение окутывает в прискорбном споре; зато лоснящейся лжи предложена величайшая награда. Так и тогда данайцы в тайных голосах почтили Одиссея; Аянт же, лишенный золотых доспехов, добровольно пошел навстречу смерти».
«В тайных голосах» – что это значит? Всегда в истории развития государств тайное голосование было оплотом демократической свободы; и всегда оно именно поэтому было ненавистно аристократам. Одиссея поэты охотно изображают «угодником народа»; не хочет ли Пиндар сказать, что именно он ввел здесь тайное голосование? И не хочет ли поэт-аристократ именно указанием на неправедный суд, свершившийся под покровом тайны, заклеймить это антипатичное ему учреждение? Это вполне возможно; но возможно также, что поэт имеет в виду тайные злоупотребления, допущенные судьями и давшие Одиссею незаконный перевес, – злоупотребления, лежавшие, разумеется, на ответственности Атридов как председателей суда. Так во всяком случае понял дело Софокл, как видно из сцены спора Тевкра и Менелая:
Тевкр. Судом кривым ты оскорбил его.
Менелай. Вините судей; я тут непричастен.
Тевкр. Всегда злодейство тайною красно!
Во всяком случае для нас это – темное место.
* * *
Но Пиндар вообще не идет дальше кратких намеков, из которых вышеприведенный – самый интересный. Гораздо более красноречивым свидетелем был бы для нас Эсхил, если бы его поэтическая обработка предания о смерти Аянта нам была сохранена. По своему обыкновению он посвятил ему трагическую трилогию, из которой мы с уверенностью можем назвать первые две драмы и с большим правдоподобием – третью. Сохранившиеся отрывки немногочисленны, но не лишены интереса: к ним можно присоединить два-три намека грамматиков. Посмотрим, насколько они дают нам возможность восстановить фабулу Эсхиловой «Аянтиды».
Первой частью была трагедия, озаглавленная «Суд о доспехах» (Ὅπλων κρίσις). К ее восстановлению мы привлекаем – кроме скудных греческих источников – еще отрывки, правда, тоже скудные, драмы «Armorum judicium» римского трагика Пакувия. Но уже из греческих источников видно, что в трагедии выступала Фетида: красивое место из ее речи мы приведем ниже. Кроме него сохранилось, благодаря пародии Аристофана («Ахарняне») приветствие этой богини лицом, которое – как замечает схолиаст на это место – предлагает ей предоставить суд вышедшим вместе с нею из морской глубины нереидам:
Ты в сонме дев, Нереем порожденных,
Почтеннейшая, старшая сестра…
Конечно, Фетида отказалась, ссылаясь, вероятно, на то, что судить человека могут только лучшие из равных ему, как это установила позднее Афина в «Евменидах» того же поэта.
По-видимому, из этого ответа Фетиды нам сохранены два стиха в переделке Пакувия:
Кто ближе всех к соперникам стоит,
Тем и суда я власть предоставляю.
Так устанавливается суд из лучших ахейских вождей. Но всё же и нереиды не могли быть вызваны без причины; полагаю, что они образовали хор трагедии. И здесь аналогией могут служить только что названные «Евмениды»: судят Ореста ареопагиты, но хор образуют не они, а те богини, которые дали свое имя трагедии.
Итак, установление суда Фетидой – первая часть трагедии; к ней принадлежат еще следующие стихи, тоже известные в переводе Пакувия:
Ты справедливо требованье ставишь: Пусть пред судом присягу даст судья.
О том, как любил наш поэт освящать формальности судопроизводства своих времен ореолом героической эпохи, тоже свидетельствуют всё те же «Евмениды»; здесь требование ставил, надо полагать, Аянт, а Фетида, установительница суда, признала его справедливым.
Вторую и главную часть трагедии составлял самый суд – и прежде всего речи Аянта и Одиссея. Это, к слову сказать, знаменитая на все времена тема: самая пространная ее разработка нам сохранена в «Метаморфозах» Овидия. Нам она неприятна: ласковая красота гомеровских героев теряет от того, что каждый выставляет на вид собственные достоинства и старается унизить своего соперника. Делать нечего: тут сказался, в противоположность к наивной Ионии, характер споролюбивых Афин.
Первым говорил Аянт. О чем? Обо всем, начиная с происхождения. Своим он похвалиться может; сопернику он припоминает дурную славу, ходившую о его матери:
К себе Сизиф приблизил Антиклею —
Да, мать твою, что родила тебя.
Гомер об этом ничего не знает, но позднейшие любили сопоставлять хитроумного Одиссея с первопреступником Сизифом, коринфским царем, и сочинили вариант согласно которому мать Одиссея, прежде чем выйти за Лаэрта, отдалась Сизифу, гостившему как раз у ее отца Автолика. Софокл в своей трагедии тоже использовал в драматических целях эту черту послегомеровского предания.
Вообще речь Аянта дышит гордостью и презрением к противнику:
Кто ж тебя сочтет достойным, чтобы в спор с тобой вступить! —
говорит он ему (у Пакувия). А впрочем, слов он не тратит: красноречие ему не дано, рукою он сильнее, чем языком; к тому же:
Простою речью Правда говорит.
Другое дело – Одиссей. Из его речи у Эсхила нам ничего не сохранено, но всё же – на основании позднейших обработок – мы можем быть уверены, что он в эту важную минуту своей жизни всецело воспользовался тем даром, которым его облагодетельствовала природа.
Судьи потрясены; они не решаются произнести своего приговора. Тогда кто-то предлагает исход из затруднения: опросить пленных троян, кто из обоих противников причинил их родине наиболее вреда. Призывается старший между ними. В чем дело? – спрашивает он; и слышит ответ:
Ужели ты не знал
Про суд наш об Ахилловых доспехах?
Почетное поручение не радует пленника. Высказаться в пользу одного – значит навлечь на себя гнев другого. Вполне понятно, что председатель суда Агамемнон хочет снять с себя эту обузу:
Предпочел ты в безопасном месте оставаться; нам
Должность ты свою вручаешь!
Тщетно возражает царь, что гнев оскорбленного может обратиться только на поручителей, а не на орудие; испытанный жизнью пленник недоверчив:
Если в пса ты пустишь камнем – не тебя он будет грызть:
Он набросится на самый камень, что ушиб его.
Средство одно: надо устроить так, чтобы гнев побежденного перестал быть страшен для судей-пленников. Агамемнон на это согласен:
Приговор без затруднений правый изрекут они
И на неприятном месте: мы свободу им дадим!
Этим сопротивление пленников, понятно, сломлено; троянец возвращается к своим и через некоторое время выносит их вердикт: наиболее опасным врагом признан Одиссей. Это еще не окончательный приговор, а только материал для такового: судить все же должен установленный Фетидой суд. Его последние колебания побеждает, – если судить по намеку в трагедии Софокла, – Менелай предложением, чтобы подача голосов была тайная. Оно принимается: большинством голосов победа и доспехи присуждены Одиссею.
Последняя часть трагедии – действие приговора на соперников, особенно на Аянта. Оно может быть высказано в одном слове: он уничтожен. Со злобой смотрит он Одиссею вслед:
Его я спас, чтоб от него погибнуть!
Собственная его участь для него ясна: он этого удара не переживет:
Какая ценность в жизни, если горя
Она полна?
А для него радости уже невозможны:
Нет для души свободной палача
Столь бешеного, как бесчестья жало.
Ему я жертвой обречен. Клеймо
Неизгладимого позора вечно
Меня терзает: пыткой исступленья
Оно все чувства, что в глуби заветной
Души моей покоились, срывает
И на поверхность яростно влечет.
Тщетно стараются нереиды утешить и успокоить его; он прощается с ними и идет принять смерть от собственной руки.
Таково содержание «Суда о доспехах». Гораздо менее нам известно о второй трагедии Эсхиловой трилогии, о «Фракиянках». По содержанию она соответствовала «Аянту» Софокла, но это-то и затрудняет дело восстановления: нужно быть очень осторожным, чтобы не приписать Эсхилу того, что могло быть и собственным домыслом его последователя. Одно мы знаем наверное: у Эсхила самоубийство Аянта, – в отличие от Софокла, но в соответствии с обычаем трагедии, – происходит за сценой. Кроме того, Эсхил воспользовался еще одной чертой сказания об Аянте, одинаково отсутствующей как у Гомера, так и у Софокла. Эта черта – параллель к тому рассказу о зачатии Аянта, который мы привели выше, следуя Пиндару. Здесь Геракл, пророча Теламону о будущем величии его сына, говорит, что он будет несокрушимым, подобно тому льву (немейскому), шкура которого его покрывает. Так вот, продолжая далее в том же направлении, рассказывали, что Геракл, вернувшись с похода вместе с Теламоном, застал в его доме новорожденного Аянта; лаская младенца, он закутал его в львиную шкуру, которою он был покрыт, и вследствие этого тело Аянта стало неуязвимым. Гомер, повторяю, этой неуязвимости Аянта не знает; не признает ее и Софокл – оба были в известных пределах рационалистами. Но Эсхил любил чудесное и охотно сохранил за своим Аянтом эту черту предания. И вот его Аянт решил покончить с собою, но ему не удается пронзить себя мечом: сталь только гнется, не будучи в состоянии рассечь его неуязвимую кожу. Его мучения увеличиваются этою невозможностью освободиться от ненавистной ему жизни. Наконец, милосердная «богиня» указала ему уязвимое место его тела – подмышкой, куда не проник защищающий покров львиной шкуры. Таким образом Аянту удалось умертвить себя.
Все это происходило за сценой и было содержанием обычного в подобных случаях рассказа «вестника». Кому же рассказывал об этом вестник? Прежде всего, как это в обычае у трагиков, хору; хор же трагедии состоял, как показывает ее заглавие, из фракиянок, т. е., судя по схолии на Софоклова «Аянта», из фракийских пленниц Аянта. Это несомненно; но почти несомненно и то, что выдающееся участие в действии принимал и сводный брат Аянта Тевкр. От других предположений осторожнее будет воздержаться.
Наконец, третьей трагедией трилогии вряд ли могла быть другая, кроме «Саламинянок». Правда, о ней мы ничего не знаем, кроме заглавия; но никакое другое продолжение описанных во «Фракиянках» событий немыслимо, кроме того, на которое в «Аянте» Софокла указывает Тевкр:
Отец наш общий Теламон – не правда ль,
Сколь ласковым, сколь милостивым взором
Меня он примет, если одиноким
К нему вернусь, тебя оставив здесь?..
Из трусости, из жалкого бессилья —
Так скажет он – тебя я предал, брат;
А то и с умыслом, – чтоб после смерти
Твоей и дом, и царство захватить.
Он вспыльчив был всегда; теперь и старость
Его гнетет и поводом ничтожным
Склоняет к гневу; в завершенье землю
Покину я, взамен свободной доли
Рабом поставленный из уст отца.
С другой стороны, Тевкр принадлежал к тем героям Эсхила, которыми он наиболее гордился, как видно из его слов в «Лягушках» Аристофана (говорится о Гомере):
Ему следовал я, и в мечтаньях своих создавал богатырскую доблесть
И Патроклов и Тевкров, ретивых как львы, в назидание гражданам нашим,
Чтоб стремились на них походить и они, когда голос трубы призовет их.
И, наконец, мы знаем, что Пакувий, – правда, скорее по Софоклу, – в своем «Тевкре» описал именно те события, о которых пророчит сам себе герой. Его трагедия, – из нее сохранилось сравнительно немало отрывков, – пользовалась в Риме большой славой; еще Цицерон («Об ораторе») с наслаждением вспоминает виденное им представление, как у Теламона горели глаза в то время, когда он отвергал своего побочного сына за его мнимое предательство. Отзвуки этой трагедии мы находим в заключительных стихах оды Горация к Планку:
Покидал ведь отца с Саламином
Тевкр непреклонный – и все же листвою
Тополя кудри, вином увлажненные, бодро венчал он.
Так огорченных друзей утешая:
Други! Куда нас направит – отца оно ласковей – счастье,
Смело туда мы пойдем без оглядки.
Нет вам беды, пока Тевкр ваш правитель и Тевкр ваш гадатель.
Слово вещал непреложное Феб нам,
Что нам на новой земле Саламин обновленный воскреснет.
О храбрецы! Ведь немало невзгод мы
Вместе изведали! Ныне вином прогоняйте заботы,
Завтра – вперед в беспредельное море!
* * *
Если бросить взгляд назад на восстановленную нами по мере возможности «Аянтиду» Эсхила, то вне всякого сомнения окажется один результат: в построении фабулы поэт примыкает к «Эфиопиде», а не к «Малой Илиаде». И у него причиной самоубийства героя является только поражение в суде о доспехах, а не позорное нападение на ахейские стада; и у него приговор в суде произносится на основании решения троянских пленников, а не троянских девушек на стене города. А это значит, что в самом понимании чести в этой трилогии Эсхил стоит на гомеровской почве, отождествляя честь с ее внешним символом. Припомню сохраненные нам счастливой случайностью предсмертные слова Аянта:
Нет для души свободной палача
Столь бешеного, как бесчестья жало.
Бесчестье же в данном случае состояло исключительно в утрате доспехов Ахилла, объявленных наградой «лучшему» из ахейцев. Все же я недаром прибавил оговорку: «в этой трилогии»; было бы ошибочно полагать, что поэт вообще не возвысился над внешним пониманием чести. Против этого предположения протестует один из величайших созданных им образов – образ царя-прорицателя Амфиарая, о котором он говорит в своих «Семи вождях»:
Он быть желает лучшим, не казаться.
«Семь вождей» была последней трагедией его «Фиваиды», поставленной в 467 году; следует ли допустить, что «Аянтида» была поставлена раньше? На это указывает одно обстоятельство: нереиды, составлявшие хор «Суда о доспехах», появляются вместе с Фетидой, приводящей в движение действие, – другими словами, трагедия начиналась с появления хора, без пролога, как в древнейших трагедиях Эсхила: «Персах» и «Просительницах». Не следует ли допустить, что «Аянтида» была поставлена непосредственно после Саламинской победы в 480 году? Мне кажется, это вполне вероятно: ведь победа была одержана у того же самого острова, родным героем которого был Аянт. Теперь прошу припомнить молитву спартанского царя Архидама перед осадой Платей в начале пелопоннесской войны (у Фукидида): «Боги и герои, блюдущие платейскую землю… В этой земле наши отцы, помолившись вам, одолели персов, и вы предоставили ее благосклонною эллинам для брани». Не ясно ли, что и перед Саламинским сражением эллины помолились саламинским богам и героям и, главным образом, Аянту, чтобы они предоставили свой остров и его воды благосклонными эллинам для их брани с персами? И что, стало быть, сама победа должна была быть приписана благословению – скажу больше: содействию Аянта, «оплота ахейцев»? Эсхил, сам сражавшийся под Саламином, должен был почувствовать потребность воздать и со своей стороны благодарность своему покровителю Аянту. Думаю, что лучшего повода для создания «Аянтиды» и представить себе нельзя. А если это так, то примкнуть к «Эфиопиде» было для Эсхила так же обязательно, как и для Пиндара: раз трилогия была создана в честь Аянта, то ни о каком позорящем поступке героя, ни о какой потере внутренней чести не могло быть и речи. Религиозный интерес поэта-жреца стоял выше интереса нравственного: «Аянтида» Эсхила не была трагедией чести, это была лишь трагедия жизни саламинского героя.
Не могу не указать тут на еще одну черту, получающую при указанных условиях неожиданное и очень красивое освещение. Как известно, дельфийский Аполлон в освободительной войне играл очень двусмысленную роль, сочувствуя персам и запугивая эллинов своими прорицаниями: лишь после блестящих греческих побед он вновь присоединился к своим. Теперь сравним начало «Аянтиды» с ее концом. Началом была – после вступительной песни нереид – речь Фетиды, посвященная памяти сына, которого убил стрелою Париса Аполлон. Из нее нам сохранились следующие прекрасные стихи, в которых Фетида вспоминала о своей свадьбе с Пелеем, почтенной самими богами и в их числе – прорицателем Фебом:
От сына – счастье предвещал мне он:
И долголетен будет, и свободен
От всех болезней он… Чего-чего
Не говорил он про судьбу мою,
Взлелеянную божией любовью!
И в завершенье даже гимн священный
Пропел он льстиво, радуя меня.
И мнила я: глагол правдивый Феба
Пророческой исполнен благодати.
И что же? Мой певец, мой сотрапезник,
Мой прорицатель – собственной рукою
Убил коварно сына моего!
За эти слова Платон в своем «Государстве» упрекает Эсхила, находя их несовместимыми с благочестием, что вполне понятно, так как его точка зрения – абсолютная, а не историческая. Но последней трагедией трилогии были «Саламинянки» – и теперь мы можем утверждать с уверенностью, что они были посвящены прославлению острова и его святынь. Требовалось божество для их освящения, подобно Афине в «Евменидах»; кто же им был? Вспомним вышеприведенные стихи Горация:
Слово вещал непреложное Феб нам,
Что нам на новой земле Саламин обновленный воскреснет.
Итак, сам Аполлон являлся к концу трагедии; он в самом Саламине учреждал культ павшего на чужбине Аянта, он утешал отверженного отцом Тевкра предсказанием, что ему суждено основать новый Саламин на острове Кипре, – и вряд ли умолчал о славе, которая предстояла Аянтову Саламину в грядущем столкновении Востока с Западом. И здесь, таким образом, тот же благоговейно-примирительный конец, что и в «Евменидах».
Это – по части фабулы. Что же касается характеристики, то уже было указано на разницу между ласковыми образами наших героев у Гомера и строгим впечатлением, которое они производят у Эсхила. То добродушие, которым отличается Аянт у Гомера, здесь уже исчезло. То же самое относится и к его отцу Теламону. У Гомера он любовно относился к своему побочному сыну Тевкру; если верить Эсхилу – или, что одно и то же, зависящему от него Софоклу, – то последний:
Не видывал… ласки
И при улыбке счастья от него.
Причина, однако, и здесь та же: у Эсхила и Теламон, и Аянт прежде всего – саламинские «герои» в сакральном смысле слова. Это не сразу покажется вразумительным; но у греков во все времена «герои» представлялись суровыми и мстительными – пережиток первобытного анимизма с его догматом о враждебной силе отделенной от тела души. Вот, к слову сказать, почему и у Софокла Эдип в «Эдипе Колонском» представлен столь суровым и угрюмым в сравнении с «Царем Эдипом»: в последнем поэт имел дело с фиванским царем, в первом – с колонским «героем».
Этого необходимо было коснуться, так как в обрисовке характера своего героя Софокл находился под влиянием своего великого предшественника; но в понимании самой идеи трагедии он пошел своей дорогой, примыкая в построении фабулы не к «Эфиопиде», а к «Малой Илиаде». «Аянтида» Эсхила была величавой жертвой благодарности, принесенной поэтом-жрецом герою-хранителю саламинских вод. «Аянт» Софокла был прежде всего «трагедией чести».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.