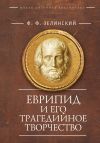Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 33 страниц)
Там в огневой заре
Вознесся муж о медном щите к богам
Над Эты вершиной.
При всем том это был умирающий миф. Религия Аполлона не призвала его к новой жизни, подобно мифам об Аянте, Филоктете, Агамемноне; исказив его, она обрекла его на исчезновение.
Действительно, после эпоса «о взятии Эхалии» движение нашего мифа прекращается. Ни лирика, ни ранняя трагедия его не приняли в свое русло. Первым, давшим новую его обработку, был Софокл. Но и он не пожелал восстановить доаполлоновскую форму мифа о богочеловеке, намеченном роком спасителе царства богов: он изобразил Геракла как героя «трагедии верности».
III
Мы в Трахине, в том доме, в котором Деянира с детьми нашла себе убежище как гостья царя Кеика, после того как загадочное для нее убийство ее мужем Ифита заставило всю семью покинуть аргосский Тиринф. Этих детей у нее несколько; сколько именно – этого поэт себе и нам не выяснил. Судя по стиху 54, все они живут при Деянире; но по стиху 1153 одни остались при своей бабке Алкмене в Тиринфе, другие у родных в Фивах, и только старший Гилл (Hyllos) последовал за матерью в Трахин. Это, если угодно, противоречие, но неважное; для трагедии имеет значение только Гилл, по возрасту эфеб, опора своей матери. Геракла вот уже пятнадцать месяцев как в Трахине нет. Где он – не знает никто.
Время предрассветное; из дому выходит Деянира, с ней ее старушка-няня. Для чего выходит она? Зрителям это было ясно по ее игре; нам об этом предоставлено догадываться. Думаю, что для своей женской работы. Так ведь и Андромаха в «Илиаде», и Пенелопа в «Одиссее» коротают тоскливое время разлуки с мужьями. Конечно, этой работе было место скорее внутри дома; но это уже неизбежная условность трагедии, которая лишена возможности изображать внутренние покои. Ее работа – драгоценный плащ, будущий дар ее Гераклу. Не мудрено, что мысли о нем не оставляют ее; чувство осиротелости и однообразная «песня ткацкого челнока» поневоле влияют на ее настроение. Она чувствует себя глубоко несчастной; мало того, ей кажется, что она никогда счастлива не была. В такие минуты человек охотно вспоминает о своем прошлом, ища грустного утешения в сознании, что ему не за что благодарить судьбу.
И вот перед ее глазами проходят: сватовство Ахелоя, ее освобождение Гераклом, ее тоскливая жизнь в Тиринфе при вечных отлучках мужа, вассала презренного царя Еврисфея. Уже близок был покой по окончании этой службы; но вот – убийство Ифита, изгнание, новая, особенно мучительная и тревожная отлучка Геракла. Он оставил ей, уходя, завещание, сказав, что оно должно вступить в силу, если он по истечении пятнадцати месяцев не вернется. Она считает… да, ровно пятнадцать месяцев с тех пор прошло, и его все еще нет. Силы оставляют ее; она с рыданием опускается на свое сидение.
Такова ее дума. Критики усмотрели в ней сходство с прологами Еврипида, упустив из виду одно решающее обстоятельство – что в прологах Еврипида говорящий обращается к публике, нарушая иллюзию, между тем как Деянира обращается к самой себе. И еще одно упустили они из виду – богатый внутренний драматизм этого монолога. А впрочем, именно в нашей трагедии они очень многое упустили из виду.
К ней подходит ее кормилица – один из излюбленных типов древней трагедии. У нее есть слово утешения: если долгое отсутствие Геракла томит Деяниру, почему бы не послать на поиски отца одного из сыновей, – например, Гилла?.. Едва успела она произнести его имя, как является он сам. Такое совпадение имело в глазах древних особое значение, служа как бы доказательством, что сами боги одобряют задуманное дело и что оно, следовательно, будет иметь успех. Но Гилл явился с вестью: он был в гавани, он узнал, что Геракл отслужил год своей рабской службы у лидийской царицы Омфалы – Деянира вспыхивает при этом позорящем слове, – что он теперь свободен и воюет с царем Евритом на Евбее. Все это маловразумительно, но Деянира слышит только одно: поход, война, опасность. Ей опять вспоминается завещание Геракла и роковой пятнадцатимесячный срок, именно сегодня истекший. Да, старушка была права: необходимо Гиллу отправиться на поиски отца.
Эта ее готовность не лишена знаменательности: она даже не задумывается об опасностях, угрожающих ее молодому сыну на этом пути. Нам вспоминается, как отнеслась другая супруга-мать, Пенелопа, к отъезду своего сына, который ведь тоже отправился, подобно Гиллу, на поиски отца («Одиссея»):
О, для чего не сказал мне никто, что отплыть он замыслил!
Или тогда б, отложивши отъезд, он остался со мною,
Или сама б я осталася мертвою в этом жилище.
Это говорится не в упрек Деянире, а чтобы подчеркнуть ее характер как супруги и только супруги – каковой она и была в первоначальном мифе, не знавшем ее детей.
Гилл охотно отправляется; Деянира опять одна. Тем временем солнце окончательно взошло; к тоскующей приходят ее новые по други, трахинские девушки, составляющие хор. Особой мотивировки их прихода нет, как нет ее и в «Электре»; зрители не были особенно требовательны относительно этой необходимой условности греческой трагедии. Они приветствуют взошедшее солнце, они хотят утешить Деяниру. Конечно, как девушки неопытные и счастливые, они не в состоянии вдуматься в настроение своей искушенной жизнью подруги. Такие мысли, как чередование радости с горем, воля Зевса и т. п., Деяниру утешить не могут; от всей песни девушек у нее остается лишь одно – уверенность, что они принимают близко к сердцу ее горе. Это их теплое участие достойно доверия с ее стороны; она решает ответить на него откровенностью.
В ее рассказе нас особенно интересует одно: тот додонский оракул, на который она намекнула еще в разговоре с Гиллом, что в тот день, который исполняется ныне, сужден конец Геракловым страданиям. Как понимать слово «конец»? Этот оракул придает особое значение тому завещанию Геракла, в котором завещатель определил тот же день как срок вступления в силу его воли. Видно, что-то недоброе ей предстоит…
Но нет: к беседующим подходит вестник с зеленым венком на голове. Его слово – слово радости:
Муж твой
Жив, победил и дань победы славной
Несет родным Трахина божествам.
Что же случилось? Посмотрим.
* * *
Из тех пятнадцати месяцев, которые прошли со времени его ухода, Геракл двенадцать провел в рабской службе у лидийской царицы Омфалы, искупая убийство Ифита. Но затем он набрал вольницу – в числе прочих глашатая Лихаса – и двинулся против Еврита. После кратковременной осады Эхалия пала, мужское население было перебито, Иола в числе других пленниц досталась в руки победителю. Сам он остается пока на Евбее, чтобы в благодарность за победу посвятить «Кенейскому» Зевсу часть завоеванной земли и принести торжественную жертву; Лихаса с Иолой, пленницами и прочей добычей он посылает вперед, в Трахин.
Какие были его намерения относительно его пленницы? Поэт нам это ясно нигде не сказал – и не мог сказать. До сих пор муж Деяниры своей супружеской верности никогда не нарушал; это ясно видно из позднейших слов прозревшей Деяниры:
Вот какой гостинец
Геракл, мой верный, любящий супруг,
Привозит мне – за то, что я так долго,
Так честно дом скитальца берегла!
Не нарушил бы и теперь, если бы не необходимость. Какая? Деянира всё приписывает чарам Иолы; и возможно, что мы в этом имеем пережиток основного мифа. Но в нашей трагедии ничто этого предположения не подтверждает. Напротив, когда мы читаем отзыв Лихаса:
Ведь он – во всем непобедимый витязь
И лишь пред ней оружие сложил, —
мы убеждаемся, что здесь действовала внутренняя необходимость, непреоборимо влекущая мужчину к той женщине, которая намечена непреложной, таинственной волей, чтобы родить ему дитя его надежды. Другими словами – Афродита.
В таком положении не рассуждают. Иола ему нужна, как орлица орлу – ради орленка. Он ее требует в числе прочих женихов у Еврита, исполняя ради этого условия состязания; когда же Деметра устами Еврита отказывает женатому жениху в незаконной второй жене, он добывает ее силой. Кто ему так велел – это прекрасно сознает хор:
О грозный рок Эхалии венчанной!
О ты, копье, что пламенем зловещим
Перед дружиною неслось!
Не ты ль привело тогда
Невесту с чужой страны
На брак торопливый к нам?
Но всё вершила, властвуя безмолвно,
Афродита!
Что случилось? То, что должно было случиться. Но что будет дальше? То, что должно быть. Но как оно сбудется? Заглядывать праздно; с горы виднее будет. Пока что Геракл посылает Лихаса с Иолой и прочими в Трахин. Почему именно в Трахин? Потому что и он вскоре там будет. А почему он должен быть там? Потому что там – Деянира.
Но там, где не рассуждает господин, вдвойне охотно рассуждает слу га. Лихас ведет пленниц в Трахин, к Деянире. Ее самой он не знает, знает только, что она – законная жена его боготворимого повелителя, вероятно, старая и, уже конечно, злая. Он не торопится: к чему? Награды ему от законной жены все равно ждать нечего. На выгон у ворот Трахина к нему сходятся местные пастухи. Он с ними поболтать не прочь: о войне, об осаде, о взятии города, о добыче, об Иоле. Кто она? Догадаться нетрудно: новая жена повелителя. А прежняя? Той, значит, пора в отставку… И вот пока в Трахине кроткая, прекрасная Деянира, горюя об отсутствующем муже, с любовью ткет плащ для него – у ворот города ее имя и ее любовь делаются мишенью грубых солдатских шуток посланца ее мужа.
Лихас, впрочем, сам по себе не груб; напротив, у него мягкое, благородное сердце – мы в этом еще убедимся. Но он не знает Деяниры – и подавно не знает Афродиты. Зато его слушатели знают, по крайней мере, первую. И вот один из них, простой трахинский старик, пускается бежать к ней. Не для того чтобы предупредить ее – к чему? Беде все равно не поможешь. Нет: для того, чтобы сообщить ей только весть о благополучном возвращении Геракла и получить положенную счастливым вестникам награду. А про Иолу пусть сообщит сам Лихас.
* * *
Итак, приходит вестник со словами радости. Деянира не сразу верит: долгий жизненный опыт научил ее осторожности. Да и сам вестник не без заминки ответил на ее естественный вопрос, почему посланец ее мужа сам не принес ей известие первым, но ему удается успокоить ее; она уходит в дом; туда кормилица-ключница уводит и вестника для угощения и награды; на опустевшей сцене девушки исполняют песни богам радости: Аполлону – пеан, Дионису – дифирамб.
Вернувшись на сцену, Деянира застает ее полной праздничного движения: перед ней проходит триумфальное шествие победителя Эхалии. Последним является Лихас, с ним Иола и прочие пленницы. Радостная, благодарная, идет она ему навстречу:
Тебе, глашатай, первый мой привет!
Давно желанный.
Тут самообладание оставляет Лихаса. Та ли это «законная жена» его повелителя, какою он себе ее рисовал в своем воображении, когда он поносил ее на выгоне у трахинских ворот? Ей ли он скажет то слово горькой истины, которое навеки разобьет ее счастье? Нет. Все добрые чувства его доброй души, дремавшие под корой солдатской грубости, пробиваются наружу. Будь что будет, но он ее не тронет.
Быстро справившись со своим волнением, он отвечает на ее вопросы и затем – не замечая вернувшегося и жадно прислушивающегося вестника – рассказывает о причинах эхалийской войны и о самой войне. Рассказ его правдив: долг глашатая велит ему не лгать, – но не совсем вразумителен, так как все относящееся к Иоле старательно пропущено. Со стороны Еврита – простое оскорбление за кружкой вина, со стороны Геракла – коварное убийство его сына и, точно этого мало, взятие и разрушение его города со всеми последствиями… По-видимому, кара чрезмерно превзошла вину. Деянира более опечалена, чем обрадована услышанной вестью, а тут – оборотная сторона торжества победителей, горе побежденных: пленниц, Иолы.
Тут Софокл воскресил традицию Эсхила; употребив все краски своей палитры на то, чтобы сделать возможно обаятельным для нас образ Деяниры, он предоставил нам самим воплотить в нашей мечте образ ее несчастной соперницы. В горделивом молчании стоит перед нами и ею та, перед которой одной «сложил оружие» непобедимый витязь – умиротворитель вселенной.
А впрочем – читатель сам оценит эту единственную в своем роде сцену, обращение кроткой Деяниры к роковой подруге ее мужа; толкователю поэта нечего прибавить к его словам.
* * *
Лихас с пленницами удаляется во двор; собирается удалиться и Деянира. Но вдруг некто преграждает ей путь: она смотрит – перед ней трахинский вестник.
Что ему надо? Свою награду – по обычаю героических времен, плащ, – он получил. В угощенье тоже, надо полагать, изъяна не было; хватив, как водится, лишнего, он чувствует удвоенную нежность к этой доброй царице и удвоенную злобу против этого Лихаса, который там, на выгоне, так обидно смеялся над ней, а здесь так бессовестно ее обманывает. Нет, этому не быть; он решил открыть ей всё.
Вот где трагизм.
Если бы сама Афродита – как в «Данаидах» Эсхила, – спустившись с небес, попыталась разъяснить жене-голубице роковую несоизмеримость мужской и женской психологии в «трагедии верности» – все ее божественное красноречие пропало бы даром. Ведь эта жена именно в силу своей голубиной нежности проникнута инстинктивным убеждением, что она-то не могла бы полюбить другого, иначе чем разлюбив Геракла. И вот она столь же инстинктивно строит и относительно мужа свое неизбежно последовательное и неизбежно неправильное заключение: «Полюбил другую – значит, разлюбил меня». И как могла бы богиня расшатать это убеждение, коренящееся в самой основе женской природы? Как могла бы она сказать свое «пойми!» там, где понять значит – вчувствоваться, а вчувствоваться значит – ввести свое собственное сердце в сердце иначе чувствующего человека, значит – чувством соизмерить несоизмеримое?
И если бы Лихас с его доброй душой, Лихас, давно уже любивший Геракла, а теперь полюбивший и Деяниру, – если бы он бережно и нежно раскрыл ей роковую тайну, стараясь и ее щадить, и не унижать перед ней ее мужа, – его увещания, конечно же, были бы напрасны, но все же он сказал бы «прости!» там, где богиня могла бы сказать только «пойми!». И удар был бы не так жесток, не так убийствен.
Но нет; орудием рока является трахинский вестник. Софокл, подобно Шекспиру, пользуется иногда низменными, почти комическими персонажами для усугубления трагических эффектов; таков страж в «Антигоне», таков и наш посредник. Он – воплощенная мещанская сплетня. Правда, он ничего от себя не привирает, и этим он все-таки на сто голов выше своих потомков в древнее и новое время. Он только освещает всё по-своему. Той силы, которая отдала Иолу в руки Геракла, он, разумеется, никогда не поймет: он заменяет ее той, которая ему непосредственно понятна, – обыкновенной плотской необузданностью. И как он рад, что ему удалось, наконец, понять и этим подчинить себе, сбрасывая его с пьедестала, этот недосягаемый образ Геракла! Как доволен он, что может вложить в сердце герою все пошлые побуждения своей собственной мещанской душонки!.. А впрочем, тут есть еще одна черта, без которой мещанский характер этой мастерски обрисованной фигуры, был бы неполным. Эта черта – сострадание к Деянире. Кому неизвестно это лицемерное сострадание сплетни? Она всегда сострадательна к якобы обижаемым – и из сострадания убивает их. Зато как же она бывает недовольна, когда этого-то ее фарисейского сострадания не хотят признать!
Прости; решил я всё тебе открыть,
Царица, что от Лихаса я слышал.
Тебя рассказ мой огорчил, я вижу:
Что ж делать! Правду я зато сказал.
Конечно, правда прежде всего. Лихас, изволите видеть, утаил, солгал; возможно ли сомневаться, то наш сплетник неизмеримо благороднее его?
* * *
Кумир повержен. Что же дальше? Пока – пустота. И в этой пустоте неотвязчивая, гложущая мысль: «Полюбил другую – значит, разлюбил меня». А затем – ее постепенное превращение: «Только разлюбив ее, вновь полюбит меня». А затем – естественный для сильного, здорового, любящего существа вопрос: «Как достигнуть того, чтобы он разлюбил ее?» И вдруг, как удар молнии, мысль о талисмане Несса. Не он ли ей заповедовал перед смертью:
Возьми в свой плащ моей ты крови ком,
Что запеклась вокруг стрелы в том месте,
Где яд лернейской гидры в черный цвет
Ее окрасил. Талисман могучий
В нем обретешь ты для любви Геракла.
Его отведав, ни одной жены
Опричь тебя он больше не полюбит.
Теперь, очевидно, настало время к нему обратиться. Эта мысль озаряет ее внезапно во время допроса вестником вышедшего из дома Лихаса, этой тягостной для Деяниры борьбы пошлой откровенности вестника с желанием Лихаса спасти осколки разбитой тайны.
И конечно, зритель должен был быть поставлен в известность о том, что эта спасительная мысль у Деяниры возникла: ведь ею определяется ее дальнейшее отношение к Лихасу. А так как она словами этой мысли выдать не могла – речи «в сторону» не были в обычае у древних трагиков, – то ее должна была выразить ее игра. Думаю, что средством послужил тот плащ, который она ткала в прологе. Она бешено хватает его; так и кажется, что она хочет бросить его на землю, растоптать, – вдруг она останавливается, бережно сглаживает его складки и в глубоком раздумье возвращается к спорящим.
Итак, она пошлет плащ Гераклу, смазав его предварительно талисманом кентавра; пошлет его, удобнее всего, через этого самого Лихаса. А для этого нужно сначала заручиться его откровенностью и доверием. И вот по удалении вестника она сама заклинает Лихаса открыть ей всю правду. Он колеблется. Она уверяет его, что не питает враждебных чувств к Иоле… кривя душой, как нам докажет потом ее признание подругам. Он не верит. Тогда она прибегает к последнему, крайнему средству: она клевещет на Геракла и на себя:
Уж сколько женщин в жены брал супруг мой —
И что ж? Слыхала ль хоть одна из них
Дурное слово от меня?
Это изменяет дело; несуществующей святыни и щадить нечего. Он открывает ей всё, в том же дружелюбном освещении, которое теперь, запоздалое, уже не облегчит боли. Цель достигнута; они удаляются в дом.
Там теперь произойдут любовные чары: девушки хора, вдумываясь в намерения подруги, помогают ей песней о той любви, которая некогда соединила Геракла с Деянирой. Но им не удается выдержать до конца того бодрого тона, который нужен для дела, и в эподе наступает неожиданный перебой настроения, вызванный унылыми мыслями о разлуке. Это – первая зловещая примета.
Выходит Деянира с роковым плащом, бережно уложенным в деревянный ларец. Теперь, среди подруг, она дает волю своим женским чувствам, всей той обиде, которая ныла в ее груди:
Ту деву (только подлинно ли – деву?)
Я приняла, как судовщик товар —
Товар обидный, купленный ценою
Любви моей. И вот теперь нас двое,
И под одним мы одеялом ждем
Объятий мужа. Вот какой гостинец
Геракл, мой верный, любящий супруг
Привозит мне – за то, что я так долго,
Так честно дом скитальца берегла!
А впрочем – ею движет не ревность; она сама это нам говорит, и она права. Единственное, чего она хочет, – это вернуть себе любовь своего мужа, которую она считает утраченной; ради этого она призывает на помощь Несса и его талисман. Умные люди находили эту доверчивость слишком легкомысленной и поэтому невероятной; но хотя это и были умные люди, а все же Софокл был много умнее их. Он знал психологию жен-голубиц. Раз они – справедливо или нет – изверились в любви мужа, они способны очертя голову довериться даже чужому, даже врагу – его и своему. Такова Беата в «Росмерсхольме» Ибсена; такова и наша Деянира.
Сомнения подруг не действуют на нее; она – «уверена». Лихас получает смертоносный дар; он уходит. Уходит не сразу: тревожное чувство нет-нет да и проснется у царицы, создавая новую, уже вторую зловещую примету. Наконец, она отпускает его, говоря про себя:
А о любви моей —
О нет, молчи. Узнать сначала надо,
Насколько там любима Деянира.
И это так характерно – и вместе с тем так трогательно, так грустно! Эта боязнь «передать» любовных чувств, взять на себя почин ласки и примирения… Впрочем, теперь уже все равно; колесу рока дано движение, оно остановится не раньше, чем раздавит в трех последовательных оборотах сначала Лихаса, затем Деяниру, наконец Геракла.
* * *
Следующая хорическая песнь – затишье перед бурей; вслед за ней первый раскат – ужас Деяниры, внушенный ей непонятным, тревожным явлением внутри дома, саморазрушением того клока шерсти, которым она смазала плащ. К слову: если читатель не боится испортить свое настроение наблюдениями постороннего свойства, он заметит поразительно тщательное отношение Софокла к этому процессу саморазрушения органического вещества, и притом не только здесь, но уже раньше, в наставлениях, данных царицей Лихасу. Оно не должно нас озадачивать: мы знаем ведь, Софокл был врачом. Поэт писал тут в совместной работе с натуралистом.
За первым раскатом немедленно следует второй; приход Гилла с известием о происшедшем несчастье… Кстати, одна из условностей трагических композиций заключается в том, что хорическая песнь – как у нас антракт – покрывает собой любой промежуток времени. Все же то, что мы наблюдаем здесь, в своем роде очень интересно. В самом деле, сколько времени прошло между уходом Деяниры и этим ее приходом? Если сопровождать мысленно ее самое, то очень мало, всего несколько минут: она ведь только вошла в свои покои, увидела явление с клоком шерсти и тотчас, расстроенная, опять выбежала наружу. Но если сопровождать Лихаса – много, очень много: и странствование Лихаса в Евбею к Гераклу, и кенейское жертвоприношение, и смерть Лихаса, и болезнь Геракла, и его переправа в Трахин. Трагедия в этом отношении, как видно, вполне беззаботна.
Обо всех этих несчастьях Деянира узнает из гневной речи сына: он не сомневается в том, что у его матери был коварный замысел погубить его отца, что она действовала под влиянием преступной ревности. Она могла бы защищаться; но к чему? Для нее теперь все потеряно. Напутствуемая проклятием сына, она идет принести себя в жертву той непонятной, роковой силе, которая руководила и ее судьбой и ее действиями.
Рассказ о ее смерти мы слышим в следующей сцене из уст кормилицы; этот рассказ дополняет тот чудный ее облик, который остался в нашей памяти по первой половине трагедии. Да, она поистине могла бы дать счастье всякому другому мужу, кроме того, с которым ее связала судьба. Преданная своему делу хозяйка, любящая свою челядь и боготворимая ею, – каким роскошным цветком могла бы она расцвесть в супружестве с мужем деловитым, хозяйственным, со своего рода Исхомахом героических времен!
А ей достался – творец.
* * *
Трагедия Деяниры кончена; наступает трагедия Геракла. Чувство, с которым зритель ждет появления этого страдальца, передает хор в своей песни:
О Зевса многославный сын!
Боюсь умереть от страха,
Тебя завидя лишь средь нас.
К мужу-орлу и раньше не всякому было безопасно подступиться; а теперь этот орел ранен – и ранен насмерть. Мы видим отчаянные, судорожные взмахи его крыльев; мы слышим – и притом не раз – от него то слово, которое оправдывает в глазах справедливости те резкие, жестокие черты, на которые не поскупился поэт самого могучего в мире богатыря.
Действительно, сознавая свою неотразимую власть над людьми, Геракл пользуется ею неограниченно: он жертвует всеми ради себя. Нечего и говорить, что для такой натуры самые священные законы не писаны: Геракл не останавливается ни перед убийством кунака, ни перед убийством глашатая. Полюбив Иолу, он пускает в ход все средства, чтобы добыть ее, ничуть не смущаясь при мысли, что жертвами его страсти будут не только враги-эхалийцы, но и его нежная, безответная жена.
Такие натуры сами по себе не внушают симпатии; деспот не может быть героем трагедии. Но Геракл не деспот: жертвуя всеми ради себя, он жертвует собой ради дела. В этом его оправдание. Свою жизнь он провел не в удовольствиях, а в неустанных тяжких подвигах для пользы ближних. Другие наслаждались плодами его трудов; для него же каждая исполненная задача была лишь предвестницею новой. И так изо дня в день, из года в год, всю жизнь:
Без стона следовал повсюду
Я за звездой неласковой моей.
И теперь, после всего этого, такие муки. Подобно сыну, и он не сомневается, что его жена со злым умыслом прислала ему роковой плащ; узнав правду, он прощает ее, но прощает молча.
Последняя задача перед ним. Услышанное от сына не оставляет в нем сомнения в том, что его гибель неминуема; пусть же она наступит ярко и торжественно, достойно лучшего в мире богатыря. Он требует, чтобы его сожгли на костре там, на вершине Эты, на заповедном лугу его отца. Но это еще не всё.
Мы видели, что трагедия намеченного роком спасителя царства богов была уже забыта в эпоху Софокла: он понял своего героя как героя трагедии верности. С этой точки зрения и его любовь к Иоле получила другое значение. Когда-то она представлялась внушенной чарами врагов, желающих уничтожить спасителя еще до исполнения им великого подвига; теперь она стала делом Афродиты, отдавшей орлицу орлу ради дитяти его надежд, ради героя будущего. И если бы кто-либо мог усомниться в правильности этого толкования – последняя сцена трагедии должна переубедить его.
Действительно, эта сцена при всяком другом толковании непонятна – и тем более непонятна при том отсутствии всякого толкования, которым грешат наши комментарии.
Он требует от своего сына, чтобы тот взял Иолу за себя как свою законную жену. Что это? Сколок с восточных обычаев, разрешавших сыну наследовать гарем своего отца? Вряд ли что-либо в этой трагедии так чуждо нашему чувству, как эта последняя воля Геракла, за неисполнение которой он грозит сыну страшным проклятием[27]27
Сожительство Гилла с Иолой при жизни отца было бы нечестием (см. миф о Фениксе в «Илиаде»), но его смерть изменяет дело. Ср. аналогичный случай (и даже двойной) в трагедии «Смерть Одиссея».
[Закрыть].
Я же говорю: эта воля – последовательное проявление той самой силы, которая и раньше так неотвязно влекла его в объятия Иолы. Геракл – это особь, преходящее явление; но Гераклиды – это род, это вечность. Ему не суждено было самому слить свою кровь с кровью этой чудо-девы и дать ей то дитя, в котором бы, усугубленная, воскресла его сила; пусть же это сделает Гилл. Так или иначе, а нужно связать орлицу с родом Гераклидов – не через отца, так через сына.
С нами об этом толковать нечего; все равно не поймем. Но девушки-трахинянки прекрасно поняли волю страдальца, и старшая из них вызывает Иолу из терема, чтобы и она, рядом со своим женихом, последовала за печальными носилками на место последнего упокоения Геракла.
Не скрывайся, невеста, и ты в терему;
Ты младую, ужасную видела смерть,
Ты изведала столько страданий – душа
И поныне болит.
Но во всем была Зевсова воля!
Так создается тот полный надежды и искупления исход трагедии, который так любил Софокл. Среди мрака страданий и смерти мы видим новую зарю над главами детей, Гилла и Иолы, – зарю-предвестницу того солнца, которое взойдет над землею тогда, когда отца не станет.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.