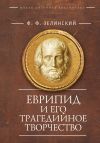Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 33 страниц)
Его я должен осторожно встретить
И хитро сердцем овладеть его.
А для этого полезно на время оставить сцену. Богиня исчезает, уходит и Одиссей. Появляются лемносцы – хор трагедии – навестить Филоктета; тот к ним выходит из своей пещеры.
Как уже было замечено выше, Эсхил не счел нужным объяснять причину появления этого хора: «Он просто его ввел, – говорит Дион, – что во всех отношениях естественнее и свойственнее достоинству трагедии». Равным образом наш свидетель не находит ничего странного в том, «что Филоктет рассказывает хору, точно незнающему, про свое оставление ахейцами и вообще про свою судьбу: несчастные ведь любят много раз вспоминать о своих злоключениях». Как видно, Дион предполагает давнишнее знакомство этих лемносцев с Филоктетом, чем тоже подтверждается наше предположение о трилогической связи нашей трагедии с предшествовавшей. Но во всяком случае это свидетельство Диона дает нам право отнести к разговору Филоктета с лемносцами его рассказ о своем поранении:
Ведь змей не выпустил меня: отраву
Он в рану влил ужаленной ноги.
И с этих пор:
От жадной язвы вянет неустанно
Вся плоть ноги моей.
Понятно, что этот рассказ вызывает сочувствие хора… к сожалению, как читатель мог заметить, сохранившиеся отрывки ничего нам не говорят о том, где и почему герой подвергся укусу змеи. Сочувствие естественно вылилось в форму хорической песни (первый стасим); после нее должен был явиться Одиссей.
Филоктет его не узнал: за десять лет он успел измениться. Дион этого не порицает, но находит вполне естественным, если «нерасположенные к Эсхилу люди упрекнут его в том, что он совсем не позаботился о правдоподобии своего не узнанного Филоктетом Одиссея». Единственное, что Филоктет узнал, это то, что его гость – эллин; для него, общающегося только с варварами, вид его приятен:
Кто ты, что в край пустынный неприветный
Судьбою занесен?
Боясь, как бы его наружность не оттолкнула пришельца, он говорит ему:
Да не внушит очам твоим презренья
Мой безобразный, одичалый вид.
Он показывает ему свою пещеру:
Взгляни, вот дом мой; девять зим я в нем
На голом камне распростертый прожил…
…Лежу в пещере влажной;
Она нема, но часто скорбным звуком
Мой крик, мой стон, мой ропот отражает.
…
Ведь в недра тела моего
Змеиного укуса яд проник;
Он черной мукой плоть мою терзает.
Таковы предварительные разговоры; но затем надо приступить к делу. И тут начинается обман. О нем нас поучает Дион: «Рассказы о несчастиях ахейцев, о смерти Агамемнона, о гибели Одиссея под гнетом позорнейшего обвинения, об истреблении всего войска – они не только полезны, так как доставляют радость Филоктету и служат большему сближению его с Одиссеем: они также до некоторой степени правдоподобны. Столько времени ведь длился поход, да еще недавно действительно произошло нечто подобное, когда во время гнева Ахилла Гектор едва не сжег ахейских кораблей». Итак, рассказ Одиссея был направлен не к тому, чтобы увлечь Филоктета под Трою – там, по его же рассказу, уже делать было нечего, – но и не к тому, чтобы залучить его на судно якобы для отвезения домой; единственная их цель – «большее сближение с Одиссеем» в ожидании того момента, который отдаст Филоктета в его руки.
Итак, интрига? И интрига в трагедии Эсхила? Мы понимаем ее в «Орестее» этого поэта, где герой приносит своей преступной матери лживую весть о своей смерти, чтобы получить безопасный доступ в ее дом: здесь интрига была дана самим мифом и поэтому осталось только следовать за своим источником. Но здесь источник – «Малая Илиада» – интриги не знал; внес ее сам Эсхил. Это странно и противоречит несколько нашим представлениям об этом поэте; тем не менее свидетельство Диона не допускает сомнения. По-видимому, он сам был поражен открытым им фактом. «Величавость Эсхила, – говорит он, – старинный характер его письма, суровость мысли и речи – все это казалось свойственным трагедии и древним нравам героев; нет тут ничего умышленно коварного, ничего хитросплетенного, ничего низменного. Правда, он вывел своего Одиссея тонким и хитроумным, не похожим на тогдашних людей, но все же далеким от нынешней злокозненности, так что он показался бы наивным даже тем из наших современников, которые считают себя прямодушными и честными». Отсюда видно, что и обман у Эсхила носил отпечаток старинной простоты; это не была тонко проведенная интрига с целью залучить обманутого, например, на дожидающийся тут же корабль: Одиссей просто своим вымышленным рассказом – как Клитемнестра в «Агамемноне» – усыпляет подозрительность своего озлобленного хозяина и затем ждет, что дальше будет.
К этой сцене обмана мы можем отнести один лишь отрывок, да и то в переделке Акция. По-видимому, неузнанный Одиссей рассказывал своему хозяину и про «суд о доспехах» Ахилла, решенный в пользу Одиссея и против Аянта; тут возмущенный Филоктет воскликнул:
О Гефест!
Для труса, видно, создала оружье
Несокрушимое твоя рука!
Сама же сцена почти наверное кончалась новой хорической песнью – вторым стасимом.
За ним следовало третье действие. Заполнено оно было, по-видимому, приступом болезни Филоктета. Терзаемый болью герой призывал смерть:
О смерть благая, не презри меня!
Ты – врач единый зол неисцелимых:
Лишь мертвому неведома болезнь.
За нею он обращался к Одиссею, к хору:
О, молю вас, с вершины отвесной скалы
Меня бросьте в пучину безжалостных волн!
Я истерзан недугом, спирает мне дух
Огневица бушующей язвы.
Он проклинал виновника всех бедствий, троянского прелюбодея:
Парис-изменник! Каб себе тогда
Ты изменил – я не был бы несчастен!
Под конец припадок проходит, Филоктет успокаивается, – вероятно, засыпает…
Повесив лук на ветвь сосны зеленой.
Это и есть решающий момент действия: беспомощный Филоктет под сосной, волшебный лук на сосне, а рядом следящий за всем Одиссей.
А впрочем, приятно убедиться, что сцена Эсхила недалеко от пещеры Филоктета предполагала и сосну. Мы сочли возможным воспользоваться ею и для сцены его преемника – Софокла. Но это мимоходом.
Сон Филоктета сопровождался опять хорической песнью – третьим стасимом; за ним должно было последовать пробуждение героя. Лук в руках Одиссея, притворство кончилось. Эсхил допускал такие крутые переходы, без психологической постепенности; так у него и Клитемнестра после долгого притворства, утолив, наконец, свою месть, выходит к хору с откровенными до резкости словами: «Я не постыжусь сказать противоположное тем многим раньше мною сказанным, хорошо рассчитанным речам» («Агамемнон»). Полагаю, что с такими словами и ныне Одиссей встретил проснувшегося Филоктета. Да, все было расчетом, притворством, ложью: Агамемнон жив, войско цело, Одиссей же не только невредим, он здесь, перед тобой. Твой лук в его руках. Теперь для тебя спасение одно: добровольно последовать за ним под Трою, где тебя ждет великая слава.
Понятно, что Филоктет не уступил без сопротивления. Первым его ответом должен был быть взрыв отчаяния, беспомощное обращение к далекой родине:
Сперхей родной! Привольные луга!
Затем упорный отказ. Пойти под Трою? Нет! Стократ лучше жить в ледяной пустыне севера:
Под осью неба, под семью звездами,
Откуда свист пронзительный Борея
Морозным снегом засыпает нас.
Под Трою? Зачем? Чтобы сражаться с троянами?
Сердцем ласковы трояне, но суров ахейцев дух.
Правда, лук во власти Одиссея… Жалкая угроза!
Ведь перьями, не медною броней,
Мое покрыто тело: что ж ты луком
Ему грозишь?
Все же под конец он сдается. Спор мы можем себе представить по примеру спора между Афиной и Евменидами в конце «Орестеи»: сначала возмущение оскорбленного, проклятия, затем, под влиянием разумной и ласковой речи, постепенное смягчение, наконец, отказ от гнева и полный мир. Ведь там, под Троей, его ждет и исцеление, и бранные подвиги, и, в завершение всего, возвращение на родину. Понятно, что он в конце концов уступил. Лемносцы по его просьбе оказывают ему последнюю услугу: относят его на своих руках (на эту сцену намекает в отрицательной форме Софокл). К ним обращается герой или Одиссей:
Легче выступайте, легче; не тревожьте раны вновь.
«Гордость и простота» – таковы, по отзыву Диона, отличительные признаки трагедии Эсхила, в отличие от «тонкости и политичности» Еврипида. А все-таки позволительно поставить вопрос: что сделал он центральной нравственной идеей своего сюжета? Аполлоновский Филоктет был трагедией целомудрия; чем заменил эту аполлоновскую идею Эсхил? Ответим заранее: согласно своему нраву, он поставил во главу угла идею религиозную, а не нравственную; на то он – поэт-жрец. Как его «Аянтида» была не трагедией чести, а трагедией героя-покровителя Саламина, так и в центре «Филоктетиды» лежало культовое, религиозное начало. Какое – этого мы теперь еще сказать не можем; мы ведь видели, что именно то место, где говорилось о причине поранения Филоктета, нам не сохранено. Но сравнение с Еврипидом, надеюсь, выяснит этот пункт.
* * *
Согласно сказанному выше, Еврипид был по обработке мифа о Филоктете ближайшим преемником Эсхила. Все же между ними было по крайней мере поколение, и драматургическая техника сделала значительные успехи ко времени постановки Еврипидовой трагедии (т. е. к 431 г.). Это сказывается уже на числе действующих лиц. У Эсхила их было не более трех: Афина (?), Одиссей, Филоктет. Еврипид привлек значительно больший персонал. Во-первых, Одиссей берет с собой как товарища в опасном предприятии своего обычного спутника Диомеда; во-вторых, и у Филоктета есть товарищ из преданных ему лемносцев, некто Актор; наконец, – и это самое крупное нововведение – у Еврипида и трояне отправляют послов к Филоктету, чтобы заручиться его особой и его волшебным луком.
Начало трагедии мы можем восстановить очень точно, так как здесь мы, кроме отрывков и упомянутого уже сравнительного очерка Диона, располагаем еще и подробным перифразом того же Диона, дающим, по-видимому, весь пролог. Появляется Одиссей, притом один; его слова обращены, как обыкновенно в прологах Еврипида, к зрителям. Он корит свою прославленную мудрость; мудрость ли подвергать себя все новым опасностям, рискуя в случае неудачи потерять и заслуженную раньше славу? Так и теперь он вызвался, во исполнение пророчества Елена, привезти Филоктета из Лемноса. Все же, зная о ненависти к нему вероломно покинутого героя, он согласился исполнить этот подвиг не раньше, чем Афина ему явилась во сне и не обещала ему изменить его наружность (как она это делает в «Одиссее»). Это, к слову сказать, скрытая полемика с Эсхилом, у которого Одиссей безо всяких чар остается неузнанным. Действительно, появляющийся вскоре затем Филоктет не узнает его; но для него достаточно услышать, что он ахеец из-под Трои, чтобы обратить свой лук против него, – с трудом успокаивает его Одиссей заявлением, что он ахейцам враг, что он пострадал по проискам Одиссея. Общая вражда сближает Филоктета с пришельцем. Он вспоминает о том, как он был покинут на Лемносе, – привожу слова перифраза: «Хотя я ради общего благополучия и общей победы навлек на себя это несчастье. Я ведь указал алтарь Хрисы, на котором необходимо было принести жертву для того, чтобы победить врагов; в противном случае весь поход был напрасен». Пришелец просит Филоктета помочь ему; не знает ли он какого-нибудь средства, чтобы ему уехать на родину? «Я так же беспомощен как и ты, – отвечает Филоктет, – но если тебе не противно поселиться в моей пещере – изволь». С этими словами он его уводит к себе. Пролог кончен; может явиться хор – хор лемносцев, как видно из Диона.
Прежде чем идти дальше, остановимся на приведенных из перифраза словах. В них дается мотивировка обрушившегося на Филоктета гнева Хрисы, и притом мотивировка существенно отличная от той аполлоновской, с которой мы имели дело раньше. Целомудрие и любовь Хрисы ни при чем; но все же – как понять загадочные слова перифраза? Как произошло поранение? В чем грех Филоктета? И кто такая Хриса?
На последний вопрос мне придется дать самостоятельный ответ; в отношении же первых двух я могу следовать моим предшественникам. Еврипид более прочих трагиков интересовал и мифографов и художников; ряд свидетельств, и литературных, и изобразительных, помогают нам восстановить в довольно полном виде его изложение.
Когда Ясон с аргонавтами отправлялся в Колхиду, он основал на Лемносе жертвенник в честь Хрисы; одним из его спутников был тогда Геракл. Когда затем Геракл с Теламоном отправился в (первый) поход против Трои, он принес жертву на этом старинном алтаре, и это принесло ему счастье и удачу; его спутником был тогда Филоктет. Теперь, перед великой троянской войной, опять требуется жертва Хрисе – «иначе весь поход будет напрасен». Но изо всех участвующих только Филоктет знает, где находится этот старинный алтарь. «Ради общего благополучия и общей победы» он ведет туда своих товарищей – Агамемнона, Ахилла, Одиссея, Менелая и других. Жертва приносится в священной ограде Хрисы, перед ее кумиром. Вдруг откуда-то выползает змей, бросается на Филоктета; Филоктет, укушенный в ногу, падает; Одиссей убивает змея, но уже поздно – несчастье свершилось.
Но в чем же грех Филоктета? Почему при Ясоне, при Геракле жертва на алтаре Хрисы была возможна, а теперь она – нечестье? Чтобы понять это, нужно предварительно ответить на другой вопрос: что такое Хриса?
Это – Афина-Хриса, «золотая Афина», говорит нам ряд древних свидетелей. Принимаем с благодарностью это указание, чтобы воспользоваться им в свое время; пока же отметим, что в изобразительных источниках мы не замечаем ровно никакого сходства между Хрисой и Афиной, так что исконным это отождествление никоим образом не было. Зато мы замечаем вот что: на венской вазе, представляющей жертвоприношение Хрисе, эта последняя изображена с двумя звездами на грудях. Это – примета недвусмысленная: две звезды символизируют двух «великих богов»-кабиров, имевших на Лемносе один из центров своего культа. А если к этому прибавить, что по мифам Хрисой называлась жена кабира Дардана, что другим именем этого кабира было Кадмил, что по-семитски означает «золотой», – то вывод представится вполне ясным: Хриса – кабирическое божество, «кабирическая нимфа». И все этим будет объяснено, и прежде всего – грех Филоктета. Ведь культ кабиров был тайным, непосвященные к нему доступа не имели. Если Ясон и Геракл безнаказанно приносили жертвы Хрисе, то это понятно: они, по мифам, были посвящены. Но Филоктета никто среди посвященных не называет: его жертвоприношение было нечестьем, за которое он и поплатился незаживной раной.
А теперь вспомним, что кабиров в трагедию Филоктета ввел еще Эсхил – читатель не забыл красивых стихов:
А подальше – кабиров красуется храм,
Где в старинной обрядности божий завет
Непорочные таинства смертным хранит.
Окружают их заросли чащи лесной,
И лишь ночь открывает к ним доступ.
У Еврипида Хриса была упомянута только мимоходом. Долго распространяться о ней он не имел повода; очевидно, он предполагал известной своим зрителям концепцию своего предшественника. Итак, Эсхил был тот, кто заменил нравственную идею аполлоновской саги идеей религиозной. Тот же Эсхил в своей трагедии «Кабиры», последней в трилогии, посвященной Ипсипиле и аргонавтам, описывал учреждение Ясоном кабирических мистерий на Лемносе во искупление «лемносского греха» – все это отлично одно к другому подходит.
И еще одно обстоятельство отлично вяжется со всей нашей теорией. Лемнос впервые заставил афинян относиться к себе с бо́льшим интересом при Писистрате (или Писистрадидах), когда Мильтиад населил этот остров афинскими колонистами. Тогда и таинство кабиров испытало на себе афинское влияние, и результатом этого влияния было, думается мне, отождествление Хрисы с Афиной. Вряд ли права Афины на Лемнос остались неприкосновенными в эпоху персидских войн, когда все эти местности подпали владычеству персов, видевших в афинянах своего главного врага. Но после победы союзного войска и флота в геллеспонтских водах они должны были быть восстановлены Аристидом; а это как раз была эпоха расцвета поэзии Эсхила. Естественно будет допустить, что именно в силу указанных соображений Эсхил ввел своего «Филоктета» в кабирический круг и заменил его аполлоновскую нравственную идею идеей религиозно-политической. Он и вообще любил это делать; его «Филоктетида» была такой же данью благодарности Лемносу и его божествам, как его «Аянтида» – Саламину и его героям.
Вернемся, однако, к «Филоктету» Еврипида. После ухода в пещеру Филоктета и Одиссея собираются местные жители, образующие хор трагедии; когда Филоктет к ним выходит, они извиняются перед ним, что так поздно приходят его проведать, – эту черту мы знаем из очерка Диона, который относится к ней не особенно одобрительно; по-видимому, и здесь поэт позволил себе скрытый выпад против Эсхиловой простоты. Зато ход дальнейшего действия гораздо труднее восстановить, чем у Эсхила. Какую роль играли Диомед и Актор – мы не знаем. Центральной сценой была во всяком случае та, в которой являлись троянские послы, чтобы привлечь Филоктета на свою сторону. Их льстивые речи возмущают Одиссея; внезапно он сбрасывает маску и со словами, знаменитыми впоследствии:
Позорно мне безмолвствовать и слово
Посланцам варваров предоставлять! —
открывает своему хозяину, кто он и зачем пришел. Эта смелость легко могла ему стоить жизни; но недаром он был Одиссеем. Слово было чарующей силой в его устах; сопротивление Филоктета слабеет, еще немного – и в нем просыпается сознание, что он эллин, и он дает себя уговорить отказаться от своего гнева и вернуться к своим под Трою.
В этой силе убеждения заключалось главное преимущество Еврипидова «Филоктета»; Дион восхваляет точность и поэтичность его диалога. С такой же похвалой отзывается он и о хорических песнях и за их лирическую красоту, и за их дидактическую назидательность. И мы легко ему верим; наша трагедия была ведь поставлена в одно время с «Медеей», этой бессмертной жемчужиной Еврипидовой поэзии.
III
Переходя теперь окончательно к «Филоктету» Софокла, отметим прежде всего, что эта трагедия была поставлена в 409 г., т. е. всего за три года до смерти поэта, на 87-м году его жизни. Как произведение глубокой старости, «Филоктет» был бы поразительным доказательством бодрости и живучести духа Софокла, если бы его не затмевал в этом отношении «Эдип в Колоне», написанный еще позже и еще более сильный и молодой во всем своем построении. Но приведенная хронологическая справка для нас интересна еще в одном отношении. Софоклом также была написана трагедия «Филоктет под Троей». Ни о ее содержании (кроме того, что говорит само заглавие), ни о времени ее постановки мы ничего не знаем, но уже простая вероятность заставляет нас отнести ее скорее ко времени до 409 г., чем к трехлетию между этим годом и смертью поэта. А при таких условиях делается понятным, что он в нашей трагедии, отвергая эсхило-еврипидовскую религиозную концепцию греха Филоктета, тем не менее говорит о своей собственной не иначе как в маловразумительных для нас намеках. Он не имел надобности подробно развивать свой собственный вариант, так как этот вариант уже был известен зрителям благодаря его «Филоктету под Троей»[20]20
Кроме этой трагедии, Софокл имел еще одну возможность представить зрителям грех Филоктета – в сатирической драме «Сотрапезники», содержанием которой был вышеупомянутый пир ахейцев на Тенедосе.
[Закрыть].
Да, Филоктет Софокла представлен царем-грешником, и его грехом был грех любви. Недаром его им попрекает его избавитель в том месте, где он открывает ему волю богов о нем:
Твое несчастье – божье ниспосланье.
Вкусил ты Хрисы – недренного стража,
Лихого змея, что с глуби пещеры
Берёг ее облитый светом луг.
Эти слова полны тайной укоризны; за соблазнительным «вкусил ты Хрисы» резким диссонансом следует безжалостное «недренного стража», та роковая действительность, которая разрушила сладостную мечту. Недаром затем и хор сопоставляет нашего Филоктета со страшным грешником старины, с первопреступником Иксионом:
Об Иксионе древнем слышали мы весть,
Как Зевсова ложа пытал он священного
И как к колесу-бегуну любострастника пыл приковал
Сын державный Крона.
Но страдальцев других, равных ему в злобе лихой судьбы,
Глаз не видал досель и слух не слышал.
Ничьих он прав святых ничем не оскорбил,
Был среди добрых добр всегда —
Ах! И казнью такой рок ему мстит.
Иксион, будучи облагодетельствован Зевсом, поднял свои дерзновенные очи на его божественную супругу Геру. Зевс, желая испытать его, соткал из эфира призрак, во всем похожий на нее. Иксион поддался соблазну – тогда, ввиду доказанной им злой воли, Зевс велел приковать его к вечно вращающемуся колесу… Да, но ведь то была богиня-супруга, Филоктета же ввела в соблазн вольная нимфа; при всем внешнем сходстве есть и различие, и оно в пользу героя нашей трагедии. Все это так; но рок, рок!
Коль судить мне дозволено – участь его
В изумленье души не ввергает моей.
Не без воли блаженных его поразил
Той безжалостной Хрисы удар роковой;
Не без их же решенья и ныне он здесь
Без ухода томится десятый уж год —
Чтоб не раньше направил на Трою он лук,
Неизбежной стрелою сражая врага,
Чем исполнится время, когда от него
Суждена тому граду погибель.
А впрочем, принимая, как верный слуга Аполлона, аполлоновскую концепцию троянской войны и греха Филоктета, Софокл тем не менее отодвигает этот последний на задний план. Он имел значение либо для завязки, либо для развязки трилогического действия. Наш же «Филоктет Лемносский» соответствует средней драме Эсхиловой трилогии; его интерес должен был быть другой. Какой – это мы уже знаем: сосредоточивая свое и наше внимание на средней трагедии «Филоктетиды», Софокл из трагедии целомудрия превратил ее в трагедию правды.
Ради этого он вернулся к знаменитой антитезе героического эпоса: хитроумие и правдивость, Одиссей и Ахилл. Одиссея еще Эсхил с тонким чутьем сделал вторым героем своего «Филоктета» вместо Диомеда «Малой Илиады»; товарища он ему дать не мог, так как его трагедия не допускала участия третьего актера. К эпохе Еврипида этот последний давно уже был введен; поэт воспользовался им, чтобы ввести обратно в трагедию Диомеда, – правда, только как товарища Одиссея. Но его роль была чисто служебная – везде говорил и действовал Одиссей; а впрочем, за полным отсутствием материала, мы не можем судить, насколько действие выиграло от привлечения этой личности. Софокл по его следам идти не мог; ему нужна была антитеза в ее наиболее резкой форме, Одиссей и Ахилл… или, вернее, так как Ахилла тогда уже не было в живых, Одиссей и Неоптолем, сын Ахилла. Для античной души это было одно и то же: сын – это возрожденный отец. Оттого-то Филоктет на отчаянные слова Неоптолема:
Всё в тягость тем, кто, нраву изменяя,
Несвойственных орудьем станет дел! —
знаменательно отвечает:
Невинного от гибели спасая —
Ужель отца ты нраву изменил? —
приводя этим в недоумение новейших толкователей, незнакомых с античным «филономизмом»[21]21
См. о нем мой сборник «Из жизни идей», т. I, изд. 3, с. 347–348.
[Закрыть]. Но это мимоходом.
Итак: хитроумному Одиссею дается в спутники прямодушный Неоптолем; это первое счастливое новшество Софокла. Для этого пришлось до некоторой степени изменить эпопею «Малой Илиады»; чтобы убедиться в этом, приведем еще раз, и притом в более полном виде краткое извлечение эксцерптора: «Затем (т. е. после самоубийства Аянта) Одиссей, спрятавшись в засаде, берет пленником Елена; тот выдает пророчество о взятии города. Тогда Диомед привозит из Лемноса Филоктета. Тот, будучи исцелен Махаоном (сыном Асклепия), вступает в единоборство с Парисом и убивает его. И Одиссей, приведя Неоптолема из Скироса, отдает ему доспехи его отца, и тень Ахилла ему (Неоптолему) является». Этой последовательности событий Софокл сохранить не мог, раз он хотел дать Неоптолема в товарищи Одиссею: привлечение Неоптолема должно было предшествовать возвращению Филоктета. Ради этого он должен был представить себе события в следующем порядке.
После смерти Ахилла и самоубийства Аянта необходимо было привлечь Ахиллова сына Неоптолема, так как, согласно пророчеству Калханта, Троя могла быть взята только Эакидом (концепция на почве религии Зевса). Этот Неоптолем, сын Ахилла и Деидамии, дочери скиросского царя Ликомеда, воспитывался у своей матери на острове Скиросе, одной из северных Спорад. Итак, за ним отправился Одиссей – что он ему отдал доспехи его отца, полученные им в «споре из-за доспехов», разумеется само собой. Неоптолем явился еще вовремя, чтобы увидеть труп своего отца до его сожжения – этим рационалистически настроенный Софокл заменил появление Неоптолему тени Ахилла, о котором говорила «Малая Илиада», не заботясь о хронологической несообразности, которая от этого получилась. Но привлечение Неоптолема было только одним условием взятия Трои: от захваченного в плен троянского прорицателя Елена ахейцы узнали и второе. А именно: Троя могла пасть только от того же лука Геракла, от которого она пала уже однажды (при царе Лаомедонте); но этим луком должна была управлять рука Филоктета, и этот Филоктет должен был явиться добровольно (концепция на почве религии Аполлона). Таким образом, соединяя зевсовскую и аполлоновскую концепции, Софокл получил требуемую завязку для действия своей трагедии. Но Неоптолем был не только желательным спутником для Одиссея: ему необходимо было предоставить главную роль. Действительно, ненависть Филоктета к Одиссею была со времени Эсхила предпосылкой, без которой и самой трагедии не могло быть. У Эсхила тем не менее Одиссей сам идет к Филоктету в надежде, что тот после десяти лет разлуки его не узнает; Еврипид отметил эту наивность и избег ее предположением, что Афина чудесным образом изменила наружность его героя. Для Софокла как рационалиста этот исход был неприемлем; но возвращение к наивности Эсхила было тоже преграждено критикой Еврипида. А раз дело обстояло так, оставалось лишь одно: Одиссей мог быть только вдохновителем плана, его же исполнителем должен был быть Неоптолем. Самый план ему пока не сообщается: он обязуется во всем слушаться Одиссея. И они вместе на корабле Неоптолема едут в Лемнос и причаливают к тому месту, где десять лет назад был оставлен Филоктет.
Здесь начинается действие нашей трагедии.
* * *
Начинается оно с появления на пустынном лемносском берегу трех участников предприятия: Одиссея, Неоптолема и еще одного моряка. Убедившись, что Филоктет отсутствует, и догадываясь, что он недалеко, Одиссей отправляет моряка сторожить его и тем временем посвящает Неоптолема в свой план. План этот построен на следующем соображении: так как Филоктет при своей ненависти к Атридам и Одиссею ни за что не согласится добровольно последовать под Трою, сила же к владельцу волшебного лука неприменима (к тому же, о чем поэт здесь не упоминает, она была исключена оракулом Елена), то необходимо завладеть им хитростью. И это должно было быть задачей Неоптолема – он один, как не участвовавший в начале похода, не мог быть причислен Филоктетом к его обидчикам. Но как объяснить Филоктету его появление на Лемносе? Это и должно было быть первой частью хитрости. Неоптолем должен рассказать о своем присоединении к ахейскому войску под Троей – правдиво, вплоть до того места, когда он потребовал для себя доспехов своего отца. Этих доспехов ему не выдали; из-за этой невыдачи он и поссорился с Атридами и Одиссеем и теперь, отказавшись от дальнейшего участия в войне, едет обратно домой. Результатом этого вымышленного рассказа будет полное доверие Филоктета к Неоптолему. Дальнейшее явится само собою: когда Неоптолем выразит свое желание продолжать свой путь, Филоктет сам его попросит взять его с собой – на Скирос, конечно. И Неоптолем его возьмет и увезет под Трою. Так-то оракул будет исполнен: Филоктет не только последует со своим луком под Трою – он последует туда добровольно. При внешнем отношении древнейших людей к подобного рода условиям этого было вполне достаточно.
Уже в этой сцене превосходно обрисованы характеры обоих действующих лиц. Душе Неоптолема глубоко противен весь план Одиссея, и читатель, конечно, не забудет его благородных слов:
Меня тебе помощником послали;
Предателя ты не найдешь во мне.
Но знай мой взгляд: милей победы гнусной
Мне неудача честная стократ.
Отчего же он тем не менее соглашается? Победа его пленяет, даже очень, но все же не настолько, чтобы добиваться ее неправедными средствами, – это видно из только что приведенных слов. В нем живо чувство долга и, стало быть, подчинение военачальникам; требования воинской дисциплины даже до некоторой степени у него сходят за голос самой правды, так, например, он говорит Филоктету:
Не волен я; вождей приказ исполнить
И правда мне, и выгода велит.
И Филоктет с этой точки зрения правильно его оценил, когда он говорит про него:
Бесхитростный, прямой,
Чужих приказов верный исполнитель.
Но этим не все сказано; следует взвесить еще одно обстоятельство. Пожалуй, развей Одиссей Неоптолему свой план еще там, под стенами Трои, честный юноша бы отказался. Поэтому он там заручается только в общей форме его согласием, частности же своего замысла сообщает только здесь, когда путь к отступлению уже почти отрезан. И при этом получается еще следующее немаловажное драматургическое удобство, выступающее с особенной силой при сравнении пролога нашего «Филоктета» с прологом «Электры». И здесь и там тайный план сообщается одним действующим лицом другому почти что в виду неприятеля; и здесь и там критик мог задать поэту вопрос, почему это сообщение не состоялось раньше, на досуге и вне опасности. Но в «Электре» поэт затруднился бы дать на этот вопрос удовлетворительный с психологической точки зрения ответ: Талфибий с Пиладом и в Крисе, и на всем пути были при Оресте, и последний везде мог с бо́льшим удобством развить перед ними свой план мести, чем здесь, перед дворцом Атридов, из которого в любую минуту могли выйти люди и задержать подозрительных чужестранцев. Единственным извинением поэта было, что, в силу единства места, он должен был именно здесь представить этот необходимый для зрителя разговор. Но это соображение драматургическое, а не психологическое. В нашей трагедии, напротив, поэт оправдан с обеих точек зрения: Одиссей потому только здесь посвящает Неоптолема в свой коварный план, что раньше это сообщение вызвало бы в душе честного юноши слишком горячий и сильный протест.
Правда, и здесь Неоптолем не уступает без сопротивления; но Одиссей, этот тонкий психолог, знает, как это сопротивление сломить. Его главный аргумент – столь соблазнительное в подобных случаях: «только этот единственный раз!»:
Я знаю, отрок: от природы ты
Не приспособлен ближнего бездолить
Сплетеньями излучистых речей.
Но верь: победа – драгоценный дар!
Решись! А там – и правде мы послужим.
На час один лишь душу ты свою
Мне предоставь для замысла кривого;
А как потребность минет – хоть всю жизнь
Благочестивейшим слыви из смертных.
Вот эти три силы – заманчивый призрак победы, неудобство отступления и это «только этот раз!» – и подчиняют ему мало-помалу душу Неоптолема. И все-таки эта душа мечется, бьется, как только что пойманная птица. Поистине трогательны эти его порывистые возражения и вопросы; перед ним ведь старший друг и соратник его отца, умнейший муж в ахейском стане, человек с огромным авторитетом и огромным обаянием! «И это действительно можно?», «И это не стыдно?» Да, Филоктет правильно оценил обоих противников, когда он впоследствии упрекал Одиссея:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.