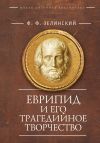Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 33 страниц)
II. Трагедия рока. «Царь Эдип»
I
Разнообразны и причудливы пути, по которым жизнь ведет человека в царстве света под лучами солнца; но для всех одинаков тот, по которому некто его сводит в царство мрака под оболочку земли. Там игра возможностей, из которых одни осуществляются, другие нет, в зависимости от воли и силы человека, от воли и силы богов; здесь возможностям положен предел, – как бы мы ни трудились и ни молились, рано или поздно мы должны спуститься туда, куда спустились все до нас жившие: так велит необходимость. Там день вырастает изо дня, и дни, нанизывая одно событие на другое, слагаются в годы, и годы в непрерывном течении составляют «нить» нашей жизни; здесь «сегодня» наступившей смерти не породит из себя никакого «завтра», нить нашей жизни окончательно и бесповоротно рассечена. Кто ее рассек? Да все она – та самая, которая «пряла» нам «нить» нашей жизни, вплетая в нее все светлые и мрачные ее события, – Необходимость, эта предвечная и вечная пряха.
Имя ей у греков – Мира (Μoῖρα); это слово, будучи сродни греческому же μόρoς, нашему «мор», «умереть», «смерть», указывает нам ту сферу, в которой прежде всего и главным образом чувствовалась и признавалась власть этой таинственной богини.
Всему возникшему сужден конец; мы обречены смерти в силу того, что родились. Равным образом, заключая брак, мы создаем условия для рождения новых существ, которые в силу своего рождения также обречены смерти. Вот почему рождение, свадьба и смерть – те три момента человеческой жизни, которые непосредственно подвластны Мирам, в которые они нам непосредственно близки. Но, конечно, сами они не рождены; если Гесиод называет их дочерьми Ночи, то он этим хочет только сказать, что они принадлежат тому подземному мраку, в который по их воле сходят все рожденные существа.
Но не одним людям уготовила Мира конечный спуск в обитель изначального мрака. Также и Солнце, как бы ни был радостен его утренний восход, как бы ни был ярок его полуденный блеск, должно будет ввечеру спуститься в ту же ночь, которую оно своим восходом победило. И ему, и Луне, и всем светилам вращающегося небосвода – или почти всем – начертан все тот же путь необходимости – они все подвластны Мире.
Но и это еще не всё. Также и Зевс, по древнейшей концепции, был рожден во времени, и он имел день своего лучезарного возникновения – а всему возникшему сужден конец. И Зевс, значит, подвластен Мире. В этой древнейшей концепции – мы называем ее «религией Зевса» – высший бог Олимпа противопоставлялся матери Земле, как возникшее и преходящее начало предвечному и вечному: она падет, пребудет одна Земля. Она – сродни Ночи, и обе сродни Мире; Мира – знание Земли под сенью предвечной Ночи. Зевс, сам по себе несведущий, должен похитить у Земли ее знание – вернее, клочок ее знания: тогда только он узнает, как судила Мира.
* * *
Те предпосылки, на которых покоился догмат о зависимости Зевса от Миры в древнейшей религии Зевса, отошли в прошлое с воцарением религии Аполлона. Зевс был объявлен предвечным и вечным; этим самым он стал независим от Миры. Аполлон победил Землю в лице ее змея Пифона и основал свое прорицалище там, где раньше было прорицалище Земли: этим он подчинил Миру себе, или, вернее, – так как он стал к Зевсу в сыновние отношения, – своему отцу Зевсу. Отныне Мира принадлежит Зевсу. Она – Διὸς βουλή, «решение Зевса», Аполлон же вещает смертным Διὸς νημερτέα βουλήν, «непреложное решение Зевса».
Древнейшие памятники греческой поэзии – гомеровские поэмы – заходят свои корнями еще в подпочвенный слой религии Зевса; но их развитие принадлежит уже той эпохе, когда религия Аполлона царствовала над умами. Отсюда странная двойственность отношения Зевса к Мире в гомеровских поэмах, двойственность, так озадачившая их толкователей в древние и новые времена. В иных местах высший бог чувствует Миру не только рядом с собою, но и над собою и представлен по отношению к ней не только бессильным, но и несведущим. Когда наступает решительный поединок между Ахиллом и Гектором, он должен, подобно простому смертному, вопросить волю Миры, что он и делает в знаменитой «психостасии» на золотых весах («Илиада»):
Зевс распростер, промыслитель, весы золотые; на них он
Бросил два жребия Смерти, в сон погружающей долгий:
Жребий один – Ахиллеса, другой – Приамова сына.
Взял посредине и поднял: поникнул Гектора жребий,
Тяжкий к Аиду упал.
По другим местам, напротив, Зевс уже представляется высшим вершителем человеческой судьбы, а Мира – его прислужницей, исполняющей его приказания:
Злую нам Миру назначил Кронион, что даже по смерти
Мы оставаться должны на бесславные песни потомкам, —
жалуется Елена. Для этих двух концепций примирения нет; они выросли из двух различных религиозных наслоений: из религии Зевса – первая, из религии Аполлона – вторая.
И мы можем быть уверены: если бы религии Аполлона было дано подчинить себе умы эллинов полновластно и нераздельно – старинный догмат о подчинении Зевса Мире был бы обречен на полное исчезновение из сознания людей. Зевс, восседая на недосягаемой высоте, вершает судьбу людей как Ζεῦς τέλειoς; Аполлон, его пророк, вещает людям его непреложную волю – этот догмат был так понятен в своей успокоительной простоте, что люди охотно бы с ним примирились. Но нет: старинная религия Зевса не исчезла совсем из сознания эллинов, она продолжала жить в своем величавом памятнике – гомеровском эпосе. А с нею продолжал жить и великий религиозный соблазн – идея о подчинении Зевса Мире, или, что одно и то же, о тяготеющем над ним роке как ограничении его всемогущества. Так обстояло дело до конца. Еще Лукиан во II веке по Р. Х. устами своего киника попрекает Зевса его зависимостью от рока. Он был прав; его эпоха была эпохой другой, еще более великой психостасии. Сама Мира подняла свои золотые весы, положив на их чашки два жребия, жребий Зевса – и жребий Христа:
И жребий поникнул Зевеса,
Тяжкий к Аиду упал.
А впрочем, Зевс ли подчинен Мире, или она ему, это был вопрос, гораздо более интересовавший Зевса и остальных богов, чем людей. На практике дело все-таки сводилось к тому, что в решающие моменты своей жизни человек отправлялся в Дельфы вопросить Аполлона и тот вещал ему «отца непреложную волю» с той ясностью, которую считал желательной в каждом данном случае.
Зато вот что было важно и в то же время до мучительности тревожно. Во-первых, объем предопределения. Нить нашей жизни должна когда-нибудь быть отрезана Мирой, это несомненно; но так же ли несомненно, что это должно случиться в заранее определенный день? И заранее определенным образом? Это значило бы, что кроме самой смерти предопределены и ее условия; а коли так, то, разумеется, и условия этих условий; а коли так, то, разумеется, и вся наша жизнь, которая ведь не что иное как цепь обусловливающих и обусловленных событий вплоть до последнего обусловленного и не обусловливающего – смерти. На то Мира и пряха: она в день нашего рождения прядет нить всей нашей жизни и впрядает в нее всё, что нам предстоит испытать. Так, по-видимому, мы должны понимать слова Алкиноя («Одиссея»), что Одиссея следует всячески беречь от бед,
Пока не достигнет отчизны; когда же достигнет —
Пусть испытает все то, что судьба и могучие Миры
В нить бытия роковую вплели для него при рожденье.
И несомненно, что вся практика ведовства основана на этом понимании Миры и ее пряжи. Никто не стал бы обращаться к оракулу только для того, чтобы узнать от него: «Ты когда-нибудь умрешь» – это всякий и так знал.
Это первый вопрос: об объеме предопределения; второй вопрос касался его обусловленности. Мы тут должны коснуться знаменитого и в более поздней древности различия между фатализмом и детерминизмом, но только для того, чтобы установить, что ни та ни другая формула не покрывает раннеантичного представления о пряже Миры. Что касается прежде всего фатализма – этой ignava ratio стоиков, – то его особенность та, что он вынимает предопределенный факт из всей его причинной, так сказать, обставленности, предполагая эту последнюю непредопределенной. «Ты умрешь через четыре года в день восхода Плеяд», – гласит фаталистический оракул. «Хорошо; я в этот день воздержусь от боя». – «Тогда утонешь в море». – «Я останусь на суше». – «Тогда умрешь от болезни». Одним словом: делай что хочешь – это не предопределено – а только умрешь, не так, так иначе. Не скажу, чтобы это фаталистическое представление было чуждо человеку героической эпохи. Когда Гектор, утешая Андромаху перед боем, ей говорит («Илиада»):
Милая! Сердце себе не круши неумеренной скорбью.
Ведь против Миры меня не отправят в обитель Аида,
Воли же Миры никто не избег из людей земнородных,
Будь он отважен иль робок, как скоро на свет он родился, —
то он, очевидно, хочет ей дать понять следующее: «Если Мира не судила мне сегодня умереть, то никто меня не убьет; если же судила, то я умру во всяком случае, буду ли я драться, или нет». Все же это представление и у Гомера встречается лишь изредка, а в героической трагедии оно и подавно было предоставлено людям невысокого полета мыслей, вроде того стража в «Антигоне», который говорит про себя:
Хоть и сказать мне нечего, а все же
Скажу; недаром слово говорится,
Что от судьбы своей не убежишь.
Другое дело – детерминистическое представление. Оно берет каждый факт будущего вместе со всей его причинной обставленностью, включая в нее и те условия, в которых участвует наша воля: эта воля – такое же звено в цепи причинности, как и все остальное; все в одинаковой степени предопределено. Мира детерминистов прядет неразрывную, нерастяжимую нить; но только она нема, эта Мира, – оракулов она не дает. Предопределено, что я умру через четыре года в день восхода Плеяд; предопределено, что я приму смерть от руки врага; предопределено, что я по собственной воле выйду с ним сразиться, так как эта моя воля – необходимое последствие ряда причин, из которых каждая имеет свои корни в ряде предшествующих причин, и так далее. Но – никто мне этого не скажет; ибо, если бы мне кто это сказал, то это сообщенное мне знание явилось бы новой составляющей, наличность которой существенно изменила бы направление равнодействующей. Моя воля предопределена – да, конечно, но под условием, что я об этом предопределении ничего не знал. А буду знать, так я, назло Мире, не пожелаю в тот роковой день сразиться с врагом – и, назло ей, останусь цел.
Итак, детерминистическое представление о пряже Миры исключало всякую возможность ведовства в самом принципе; фаталистическое его в принципе не исключало, но на практике делало его крайне неблагодарным. Какая мне польза знать, что мне в такой-то день бесповоротно суждена смерть? Это знание только омрачит мою жизнь. Лучше оставить завесу нетронутой – раз я того, что она скрывает, все равно избегнуть не могу.
* * *
Нет; кто признавал возможность и пользу ведовства, тот этим самым отрекался и от фаталистического, и от детерминистического представления о роке и – сознательно или нет – признавал третье, посредствующее между ними. Это третье в научной терминологии, насколько мне известно, имени не имеет; назовем его обусловленным фатализмом. Его сущность легче всего выяснить на знаменитом оракуле, полученном Крезом в Дельфах:
Крез, чрез Гали́с перейдя, величайшее царство разрушит.
Оставим в стороне роковую двусмысленность последних трех слов; что значит «чрез Галис перейдя»? Очевидно: «если перейдет». А если не перейдет? Тогда, конечно, не разрушит. Так что же, перейдет он его или нет. Это зависит от его свободной воли. А богу эта воля известна? Об этом пусть спорят богословы; для человека этот вопрос значения не имел, так как бог ему этой его воли все равно не предскажет.
Читатель без труда заметит, в чем заключается нравственная ценность этой идеи обусловленного фатализма: она была примирением судьбы и свободы. Такому сознательному и гордившемуся своей сознательностью народу, каким были древние эллины, не могла прийти в голову несчастная мысль отдать себя самого в распоряжение Миры и сказать: «Было суждено, чтобы я так поступил», – исключения, относящиеся к «наваждению Аты», мы здесь оставляем в стороне. Нет; непосредственный опыт говорил эллину, что от него зависит в каждом данном случае поступить так или иначе – власть Миры он ограничивал независимым от его свободной воли миром явлений. Болезни, старость, смерть – все это от Миры, против этого бороться тщетно; но мое деяние – это дело другое. Мое деяние – это стрела на тетиве. Если я ее пущу, она полетит туда, куда направлен лук, удержать ее я не смогу; но от меня зависит, пустить ее или не пустить. И если она полетит и убьет дорогого мне человека, то я уже не имею права жаловаться, что и это несчастье от Миры. Нет; Мира получила власть над моей стрелой только с того момента, как я ее пустил. Я мог ее не пустить и этим спасти моего друга – а коли так, то и постигшее меня несчастье не от Миры, а «сверх Миры». Нигде это учение обусловленного фатализма не развивается так ясно, как в слове Зевса по поводу гибели Эгисфа в первой сцене «Одиссеи»:
Грустно, что смертные люди за всё нас, богов, обвиняют:
Зло от нас, утверждают они; но не сами ли часто
Гибель сверх Миры они на себя навлекают безумством?
Так Эгисф сверх Миры жену Агамемнона в дом свой
Взял, а его умертвил по его возвращенье в отчизну.
Гибель он верную ведал: от нас был к нему остроокий
Вестник ниспослан, Гермес, чтобы он на убийство Атрида
Не посягал и от брака с супругой его воздержался.
«Месть за Атрида свершится рукою Ореста, когда он
В дом свой вступить, возмужав, как наследник захочет». Эгисфу
Так заповедал Гермес, но вотще; его сердца не тронул
Бог благосклонный советом – и разом за всё заплатил он.
«Если ты обольстишь Клитемнестру и убьешь Агамемнона, то тебе суждено погибнуть самому от руки их сына Ореста», – так гласило предсказание Гермеса. Элемент фатализма здесь, несомненно, есть, поскольку гибель от руки Ореста – рок Эгисфа, который нависнет над ним с того самого момента, как он свершит свой грех. Но столь же несомненна и обусловленность этого фатализма: за Эгисфом признается полная возможность не свершать этого греха и этим избегнуть гибели. И вот почему эта гибель – «сверх Миры».
Такова концепция рока у эллинов древнейшей доступной нашему пониманию эпохи; и прежде чем заставить себя приступить к ее критике, позволительно будет почить взором на ее красоте и величии. Она прежде всего спасает честь и достоинство человека, освобождая его от гнета Миры; она спасает нравственность, оставляя неприкосновенной его ответственность за все им содеянное; она спасает, наконец, и заботу богов о человеческом роде – они предупреждают нас о таких последствиях наших деяний, которых мы своим разумом предусмотреть не можем, обезвреживая этим до последней возможности слепой произвол Миры. Правда, в силу этого обусловленного фатализма нить каждого человека двоилась и десятерилась в руках предвечной пряхи. Но это уже было ее дело; а человеку можно было жить в таком мире и под властью таких богов.
* * *
Когда нам предлагают решение задачи квадратуры круга или perpetuum mobile – нам порой бывает приятно, когда мы, увлеченные остроумием построения, не сразу замечаем его коренной изъян. Но, конечно, мы заранее уверены, что этот изъян есть и что мы, поискав, его найдем: задачи ведь неразрешимы – мы это знаем.
То же самое испытываем мы, когда нам предлагают разрешение великой антиномии – примирение судьбы и свободы.
Вернемся к оракулу богов, данному Эгисфу. Всмотримся в него пристальнее: не представится ли он нам – если можно так выразиться – «эгисфоцентрическим»?
«Если ты убьешь Агамемнона… – говорит Мира. Итак, Эгисф может его убить, но может и не убить; со свободой его воли Мира считается. Но допустим, что он его убьет; что же дальше?.. – то ты падешь жертвой мести его сына Ореста». Позвольте, ведь тут мы имеем дело с другим живым существом, с Орестом; казалось бы, и Орест должен располагать своей волей по своему усмотрению, раз свобода воли в принципе признается. Но нет; Орестом и его волей Мира распоряжается самовластно, он – не более как орудие в ее руках.
Положим, в гомеровской концепции его истории это не очень ощущается; Орест, конечно, с радостью исполнит волю Миры и этим заодно и за отца отомстит, и добудет обратно его наследство, захваченное презренным убийцей. Тут даже и трагедии никакой не будет. Трагедию мы найдем при до– и послегомеровской концепции мифа об Оресте, признающей не Эгисфа, а Клитемнестру и убийцей Агамемнона и жертвой мести ее сына; но только это будет трагедия другая. Воля Миры действует заодно с нравственным долгом, долгом кровавой мести, а потому стушевывается перед ним; этот Орест – герой не трагедии рока, а трагедии возмездия.
Но представим себе такое положение дел, при котором человек, оказавшийся орудием в руках Миры, должен действовать не заодно с нравственным долгом, а вразрез с ним. Представим себе, например, следующего рода оракул: «Если ты родишь сына – ты падешь от его руки». Поскольку этот оракул имеет в виду отца – он сводится к знакомому уже нам обусловленному фатализму: «если ты родишь сына» – но ты можешь и не родить его, и тогда ты будешь спасен. Но эта обусловленность существует только до тех пор, пока центром нашего внимания остается отец; лишь только мы переносим его на сына, ласковый облик гомеровского обусловленного фатализма мгновенно исчезает и пред нами встает во всем своем величии грозный призрак чистого, безусловного фатализма. Сыну оракул не говорит «если»; раз он есть – а это зависит не от него – он безусловно должен совершить то дело, которое оракул предвещал; и он должен совершить его не в угоду нравственному долгу, а вопреки ему, ибо это дело – величайшее преступление, какое себе могла представить фантазия греков: отце убийство.
В этой постановке вопроса мы чувствуем резкое дуновение Аполлоновой религии. Аполлон поступил с враждебной его отцу Мирой так же, как принято поступать с вражескими твердынями: подчинив ее, он ее укрепил и сделал неприступной со всех сторон. Ласковый обусловленный фатализм гомеровской эпохи не был упразднен; Аполлон и впредь давал людям обусловленные оракулы – и Крезу, и другим. Но он позаботился о том, чтобы заделать ту брешь, которую скрытая безусловность этого фатализма представляла суждению людей, ту брешь, благодаря которой это суждение, основываясь на принципе свободы воли, могло повергнуть в прах всю гордую твердыню ведовства. «Если ты родишь сына, ты падешь от его руки» – эта формула, соответствуя вполне идее обусловленного фатализма, заключает однако в себе, хотя и в скрытом виде, формулу безусловного фатализма: «Сыну суждено убить своего отца». Теперь одно из двух: следует или принять также и эту последнюю формулу, или вместе с ней отказаться также и от первой, а с ней и от ведовства вообще. Момент был одним из самых решающих; вся судьба Дельфийского прорицалища зависела от него. Аполлон принял также и ту формулу. Теперь, казалось, его враги могли торжествовать победу: итак, свобода воли упразднена? А между тем было ясно, что этим достоянием своей сознательности эллин никогда не пожертвует.
Тут загадочная улыбка мелькнула на устах Аполлона. Нет, земнородные, свобода вашей воли не упразднена; тешьтесь этой тростниковой стрелой сколько угодно, пытайтесь ею пробить гранитную скалу Миры. Мало того: тот сын, о котором идет речь, будет знать, что ему суждено убить своего отца; он сделает все от него зависящее, чтобы избегнуть этой участи; и тем не менее, каждый свободный и разумный шаг, предпринятый им, чтобы удалиться от решения рока, только приблизит его к нему.
Так на почве религии Аполлона возникла трагедия рока – трагедия отца и сына, Лаия и Эдипа.
II
Все же было бы неправильно думать, будто религия Аполлона создала этот впоследствии столь знаменитый миф. Аполлон вообще любил проникать своим духом более древние мифы, принадлежавшие богатой сокровищнице религии Зевса, – этому можно привести немало примеров. Но здесь мы имеем нечто едва ли не единственное в своем роде: дельфийский бог обратил в свою славу именно тот миф, который был создан его противниками-гомеридами в поношение покровительствуемому им обычаю.
Древнейшее свидетельство о Лаии и Эдипе мы имеем в одном месте гомеровского описания преисподней. Одиссей перечисляет героинь, души которых ему встретились на том свете:
Далее мать я увидел Эдипа, красу Эпикасту:
Страшно преступное дело в незнанье она совершила,
С сыном родным, умертвившим отца, сочетавшися браком.
Гибельно царствовать в Кадмовом доме, в возлюбленных Фивах, —
Был осужден от Зевеса Эдип, безотрадный страдалец.
Но Эпикаста Аидовы двери сама отворила:
Петлю она роковую к бревну потолка прикрепивши,
Ею плачевную жизнь прервала; одинок он остался,
Жертвой терзаний от скликанных матерью страшных Эриний.
Это – доапполоновская, эпическая форма предания, столь же загадочная для нас, как, например, встречающаяся в той же песни «Одиссеи» эпическая форма мифа о смерти Аянта. И как эта последняя была кратким извлечением из рассказа в потерянном «киклическом» эпосе «Эфиопиде», так точно и наш сокращенный пересказ судьбы Эдипа предполагает известным слушателям другой эпос, этот раз из фиванского цикла – а именно «Эдиподею». Эта «киклическая» «Эдиподея» нам тоже не сохранена; тем не менее ее содержание, поскольку оно важно для нас, может быть восстановлено в главных чертах на основании одной древней и драгоценной схолии на «Финикиянок» Еврипида. Вот оно.
Лаий, сын Лабдака, был царем в некогда основанных Кадмом Фивах. Будучи однажды гостем элидского царя Пелопа, он воспылал страстью к миловидному сыну своего хозяина Хрисиппу и увез его с собой в Фивы. «Лаий, – замечает наш источник, – был первым, согрешившим такой нечестивой любовью».
Обесчещенный юноша не был в силах вынести свой позор и сам себя умертвил. Его же отец Пелоп проклял своего безбожного гостя: да не родится у него собственный сын, а если родится – да станет он убийцей своего отца.
Таково это «Пелопово проклятие» – движущая сила трагедии Эдипа в ее доаполлоновской форме.
Тем не менее у Лаия хватило смелости сочетаться законным браком с красавицей Эпикастой, которую и «Эдиподея», по-видимому, называла дочерью фиванского вельможи Менекея и сестрою Креонта. Но когда у него родился сын, он вспомнил о «Пелоповом проклятии»: проколов младенцу ножки шилом, он уложил его в деревянный ларец и бросил в море. Этим, казалось ему, он обрек его на верную гибель.
Тут люди, не знакомые с этикой примитивизма, часто спрашивают: почему этот сложный обход? Если Лаий боялся погибнуть от руки сына – почему не умертвил он его более надежным образом, не задушил, не утопил его? Потому, ответим мы, что он в этом случае стал бы сыноубийцей сам. Именно для избежания этого преступления и нужен был этот обход; примитивное право было чисто внешним. Так точно и Акрисий Аргосский заключает в ларец и бросает в море своего внука Персея, от которого ему угрожала смерть. А на практике дело сводилось к тому же: при таких условиях младенец должен был погибнуть, спасти его могло только чудо.
Но именно это чудо и свершилось. Против фиванской области лежало по ту сторону великого залива сикионское побережье; туда и пригнало волнами ларец с Эдипом. Его нашли конюхи; один из них, бережно вынув шило из ножек младенца и оставив это орудие, а также и окровавленную пеленку себе, отнес спасенного к бездетному царю Сикиона Полибу, который и воспитал его как своего, назвав его – по неизвестной нам причине – Эдипом.
Пелопово проклятье было услышано прежде всего той богиней, которая, как блюстительница чистоты брака, более прочих была оскорблена нечестивой страстью Лаия. Так как фиванцы оставили его преступление безнаказанным, то она свой гнев перенесла также и на них и послала им со своей горы Киферона кровожадное чудовище Сфинкса. Был ли этот Сфинкс – у греков это слово женского рода – уже в эпосе «певицей загадок», мы сказать не можем; скорее нет. Его (или, вернее, ее) в эту эпическую эпоху представляли женщиной со змеиным хвостом, и губила она преимущественно прекрасных юношей и в том числе:
Юношу, негой красы одаренного более прочих,
Ге́мона, милого сына Креонта, бесстрашного мужа.
Вероятно, она действовала при этом чарами любви[12]12
Это подтверждается одним осколком этого предания, сохраненным нам в схолии на «Финикиянок» Еврипида: «Некоторые говорят, что Сфинкс была женой Макарея… и была убита неким Эдипом, сошедшимся с ней».
[Закрыть] – недаром она была мстительницей за извращение этого чувства. Но это неважно.
Встревоженный Лаий, желая помочь своему народу, обратился к фиванскому прорицателю Тиресию с вопросом, как помочь бедствию… Тут в нашем источнике маленькая путаница, но дело, по-видимому, обстояло так, как мы его здесь представляем. Тиресий объяснил ему, что Сфинкса послала разгневанная Гера. Тогда Лаий выразил готовность умилостивить ее жертвоприношением на ее киферонском лугу. Тиресий убеждал его не делать этого; ты, говорил он ему, ненавистен богам. Лаий высмеял его предостережение и отправился на Киферон.
Своей цели богоненавистный царь, однако, не достиг. Дорога, по которой поехал Лаий со своим возницей, у местечка Потний двоилась: налево она вела в Аттику, направо – в Платеи и дальше на Истм. Это – так называемое потнийское распутье. Здесь едущие встретились с одиноким молодым путником. Вспыльчивый и склонный к насилию Лаий грубо окликнул его; тот не остался в долгу; завязалась ссора, кончившаяся тем, что путник – не зная, с кем он имеет дело, – убил и царя, и его возницу.
Этим путником был Эдип, отправившийся из Сикиона искать приключений; так-то Пелопово проклятье исполнилось.
Для молодого витязя все это было именно приключением и только. Убитых он похоронил тут же, меч и пояс Лаия взял себе как свой победный трофей и на его же конях и повозке отправился обратно в Сикион. Эту повозку с конями он подарил своему мнимому отцу Полибу в виде «благодарности за воспитание» (ϑρέπτρα) и вслед за тем снова оставил Сикион в поисках новых приключений. Следуя дальше по тому же пути что и раньше, он дошел, наконец, до Фив.
Там все еще свирепствовал Сфинкс; доведенные им до отчаяния граждане объявили руку царицы-вдовы, а с ней и царство наградой тому, кто их освободит от этого бича. Эдип убивает Сфинкса и добывает руку царицы Эпикасты. Чтобы освятить свой брак религиозным обрядом, он едет с ней в храм Геры на Киферон. На обратном пути[13]13
Спрашивается: почему только на обратном пути? Ведь и туда он должен был ехать той же дорогой. Отвечаю: потому что на пути туда Эпикаста была не женой, а только невестой Эдипа и потому ехала не с ним, а со своей женской свитой. Только после жертвоприношения она стала его женой. А если так, то, значит, ужасный брак не был физически завершен – это вполне в духе эпической мягкости.
[Закрыть] Эдип, поравнявшись с потнийским распутьем, рассказал жене о приключении, героем которого он здесь стал немного раньше, и показал ей свой трофей – пояс и меч Лаия. По этому трофею Эпикаста признала, что ее новый муж – убийца ее первого мужа; все же она не решилась выдать ему эту страшную тайну и проследовала с ним дальше в Фивы.
Но ее заботы были напрасны. Тот конюх, который некогда нашел Эдипа на сикионском берегу, узнав, что спасенный им младенец теперь стал царем уже не маленького Сикиона, а великих Фив, отправился туда и сам, чтобы обнаружением тайны его рождения заслужить его царскую благодарность. Он рассказал ему обо всем в присутствии Эпикасты и в доказательство показал ему шило и пеленку. Тут Эпикасте стала ясна и вторая половина тайны: она поняла, что ее муж – в то же время и ее сын, и убийца своего отца. Этого она вынести не могла: она прокляла своего супруга-сына и затем сама с собой покончила. Эдип же в порыве отчаяния сам себя ослепил.
Все же фиванским царем он остался – уже не как муж Эпикасты, а как сын Лаия. Эпос – не драма и катастрофой не кончается. Спустя некоторое время он женится вторым браком на некой Евриганее и приживает от нее сыновей Этеокла и Полиника – а быть может, и дочерей Антигону и Исмену. Сыновья становятся для него источником нового горя, но это уже – последствие проклятия Эпикасты. Так-то эпос «Эдиподея» соединяется со следующим за ним в порядке цикла эпосом, с «Фиваидой», где была описана братоубийственная вражда сыновей Эдипа и поход Семи вождей против Фив.
* * *
Как видно из этого пересказа, Аполлон в киклической «Эдиподее» не играл никакой роли; не играла роли и Мира. Движущей силой был не рок, а проклятие и его блюстительница Эриния. Эти две богини родственны – они обе дочери мрака, – но всё же не тождественны. Мира говорит «так будет», Эриния – «так да будет!» Но важнее другая разница: Мира по своему существу аморальна, Эриния же – нравственная сила, воздающая карой за вину.
Да, за вину – в этом вся суть. Центральной пружиной «Эдиподеи» была вина, страшная вина Лаия, похитившего в извращении половой страсти прекрасного отрока Хрисиппа. За это его проклял Пелоп – и чуткая Эриния передала его проклятие «брачной» Гере, вводящей в русло закона естественную половую страсть, – и у подножия ее горы, на потнийском распутье, первопреступник искупил свой грех.
Нас это может озадачить. Ведь то, в чем «Эдиподея» видит страшную вину Лаия, нам представляется очень распространенным явлением греческой жизни!
Да, конечно. Но – и это следует твердо помнить – только в аполлоновской Греции; до Аполлона этого явления не знали. Гомер описал в незабвенных сценах дружбу Ахилла и Патрокла, изображая при этом Ахилла как самого прекрасного в ахейском стане юношу; и все-таки в этой дружбе нет ни малейшего чувственного оттенка. Мало того: у того же Гомера Зевс похищает Ганимеда за его красоту; он делает его своим виночерпием – но и только.
Лишь ко времени возникновения религии Аполлона и произведенного ею глубокого переворота также и в нравах греческого народа появляется в его аристократических кругах и гомосексуальная любовь, не только мужская, но и женская. Она была естественным, хотя и нежелательным последствием того переустройства греческого общества, которое провел Аполлон – где более, где менее последовательно. В героическую эпоху основной ячейкой общества была покоящаяся на принципе единобрачия семья. Аполлон, напротив, к семье относился скорее недоброжелательно; брак он поневоле терпел, так как нужно же было роду продолжаться, но он ограничивал его функции самым необходимым и в прочем требовал, чтобы жизнь человека протекала среди особ одного с ним пола. Это значит: не семья, а кружок особ одного пола был конструктивной единицей аполлоновского общества. Не муж и жена – Зевс и Гера, – как в религии героической эпохи, а брат и сестра – Аполлон и Артемида – были олимпийским показателем этой идеи.
Вполне последовательно она была проведена только в одном государстве, и притом утопическом, – в платоновском; здесь действительно семья совсем упразднена и заменена кружком. Но Платон, как известно, в своей гениальной книге лишь довел до их логических пределов принципы, лежавшие в основе наиболее аполлоновского из греческих государств – спартанского.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.