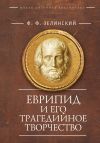Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)
Ты в том виной, что, точно гад в пещере,
Следишь добычу; ты и нрав его
Заворожил, и волю молодую
И сделал ловким в темной службе злу.
Неоптолем сдается, но Одиссей все-таки неспокоен. Надолго ли хватит его чар? Что, если юноша окажется неспособным довести до конца свою роль? И вот он его предупреждает: если беседа с Филоктетом затянется, он пошлет ему на помощь этого самого моряка, который теперь его оберегает от Филоктета. Этим подготовлена сцена с «купцом» в первом акте – та интрига на интриге, которая, задуманная как завершение хитроумного здания, на самом деле способствует его полному разрушению.
А пока он берет моряка с собой и уходит, оставляя Неоптолема одного с его тревожными думами. Тонкая и глубокая душевная драма прошла перед нами; ее герой – носитель идеи правды Неоптолем. Центр тяжести переместился; роль товарища Одиссея, не существующая у Эсхила и незначительная у Еврипида, стала у Софокла преобладающей.
* * *
Пролог кончен; является хор. И тут мы имеем дело с нововведением Софокла, насколько мы можем судить, очень счастливым. У его предшественников хор состоял из лемносцев, людей пускай диких, но расположенных к Филоктету; им противопоставлялся единоличный или почти единоличный Одиссей с его нелегкой задачей – безо всякой другой помощи, кроме своей ловкости, вырвать Филоктета и с ним залог победы из дружественной ему среды; и та симпатия, которая всегда бывает на стороне борющейся одинокой воли, всецело была на стороне Одиссея. Так оно и должно было быть: там ведь не было «трагедии правды». Софокл с его новой нравственной идеей должен был это изменить. Никаких лемносцев по соседству с Филоктетом нет, остров совершенно пустынен; это не совсем соответствует данным героической истории, согласно которой еще аргонавты были радушно приняты лемносскими амазонками, но это требуется для полноты настроения.
Филоктет провел все десять лет своего изгнания в полном одиночестве, лишь изредка и ненадолго прерываемом случайным посещением какого-нибудь заезжего пловца. (Это последнее предположение необходимо для объяснения, почему Филоктет все-таки является в человеческой одежде.) Соответственно этому и храмов на острове нет – ни кабиров, ни Гефеста; последний действует только в огне своего вулкана, знаменитого Мосихла.
А хор? Его пришлось составить из моряков самого Неоптолема. Таким образом, соотношение сил прямо обратно тому, которое мы имеем у предшественников Софокла: Филоктет – одинокая жертва этих людей, явившихся похитить его. Сама услужливость этого хора, его беспредельная преданность Неоптолему, увеличивая силу последнего, увеличивают в то же время и одиночество Филоктета. Столько против одного! Казалось бы, к чему тут интрига? Ведь достаточно двум из этих крепких моряков схватить Филоктета – и дело будет сделано. Но нет, мы знаем: в руках у него волшебный лук, которым он может противиться любой силе. И еще одно мы знаем, хотя поэт и не везде, где мы вправе этого ожидать, нам об этом напоминает: он должен добровольно последовать за своими ловцами. Это рассудочным образом оправдывает интригу, но не может нам помешать перенести нашу симпатию на сторону одиноко борющейся силы – если она этой симпатии заслуживает.
А этого-то как будто и нет. Правда, Филоктет много страдал, и за это даже хор не отказывает ему в своем участии; но предполагается, что он одичал от своих мук, стал угрюм, неприветлив; не без страха ожидает хор его появления, лишь только послышались издали его стоны, сопровождающие каждое движение его больной ноги. Стоны раздаются всё громче и громче, всё ближе и ближе; и вот, наконец, на хребте холмов показывается страшная в своей запущенности фигура лемносского страдальца.
Как примет он нежданных гостей? Для еврипидовского Филоктета достаточно услышать, что не узнанный им Одиссей – эллин, чтобы тотчас направить свой лук на него – до того озлоблен он против всех своих соотечественников. Того же, по-видимому, ждут и товарищи Неоптолема от неприветливого путника. И что же? Едва разобрался он беглым взглядом в том, что представилось его глазам, как им овладело непреоборимое чувство радости и любви:
Эллинских я вижу
Уборы риз, усладу глаз моих…
…
О голос милый! Боги! Сколько лет
Я ждал того, кто б так мой слух утешил!
…
О сын отца любимого! О отпрыск
Отчизны милой, старца Ликомеда
Питомец юный!..
Вот и начинайте игру хитросплетенной интриги при таких условиях, при такой беззаветной доверчивости со стороны вашей жертвы!
Но делать нечего, начинать приходится. После трогательного рассказа Филоктета о том, как он устроился на пустынном острове, – читатель, конечно, с особым интересом прочтет эту античную робинзонаду – очередь доходит и до Неоптолема, причем его участливый слушатель и не подозревает истинного значения того двусмысленного вздоха, которым он сопровождает свои первые слова:
Что ж, расскажу… Ох, нелегка задача!..
Как насмеялись надо мной вожди.
Все разыгрывается внешним образом благополучно; Филоктет обманут. Он и не думает сомневаться в правдивости рассказа своего молодого гостя. Следуют его расспросы о главных витязях ахейского войска с грустными ответами Неоптолема, подсказавшими некогда Шиллеру его знаменитую антитезу («Торжество победителей», пер. Жуковского):
Нет великого Патрокла,
Жив презрительный Терсит.
А затем – можно ехать… домой. Филоктет, конечно, просит взять и его:
Решись, дитя! Томленья – день один,
И то не весь. В какое хочешь место
Мне лечь вели – в трюм, на нос, на корму,
Чтоб я присутствием своим – плывущим
Не досаждал…
Хор притворно вступается за него, Неоптолем согласен. Не радует его горячая благодарность его хозяина; все же как-никак, а его мучительное поручение исполнено. Остальное не так уже трудно. Он прикажет Филоктету, согласно поданной им же мысли, лечь в трюм, чтобы его не смутило яркое семизвездие предательской Медведицы, когда оно появится над левым бортом, а не над кормой. Следующее утро их застанет уже под Троей, и он, сгорая от стыда, умчится в свою палатку и предоставит Одиссею распутывать нити им же сплетенной интриги.
Но нет, судьба его так легко не отпустит; она заставит его испить всю чашу горечи, удлиняя до последних пределов терпения его мучительное положение. Как раз в ту минуту, когда Филоктет собирался вместе с ним в последний раз, на прощание, навестить свою пещеру, является тот моряк, которого собирался ему прислать Одиссей, наряженный пепаретским купцом. И вот Неоптолем, с трудом доведя до конца одну интригу, еще полный глубокого отвращения к ней и к себе самому, должен принять участие в новой.
О трагическом значении этой «сцены с купцом» много писали; находили ее ошибочной на том основании, что она не движет вперед интригу – ведь Филоктет и без нее готов был уплыть с Неоптолемом. То есть, другими словами, видели ошибку именно в том, что составляет ее достоинство. Ведь поэту так легко было избегнуть этой «ошибки»! Представим себе продолжение в духе его критиков. Неоптолем кончил свой рассказ о своей мнимой ссоре с вождями; «Итак, я еду домой, прощай!» Удочка закинута; что скажет Филоктет? «Ну, что ж, счастливого пути!» Это – неудача; но, может быть, Филоктет просто недогадлив, надо показать приманку яснее. «А ты с нами не поедешь? Я бы тебя доставил на родину!» Но Филоктет и тут не попадается: «Нет, к чему, там меня забыли; лучше мне умереть здесь», а про себя, пожалуй, думает: «Да и кто тебя знает, правду ли ты говоришь». Вот если бы после этого явился «купец» и, притворяясь незнакомым с Неоптолемом, со всеми блистательными в смысле интриги оговорками и предосторожностями, которые он пускает в ход в действительной сцене, сказал бы: «Одиссей с Диомедом едут сюда, чтобы схватить Филоктета», – тогда, бесспорно, сопротивление Филоктета было бы сломлено. С одной стороны, совпадение в показаниях обоих независимых друг от друга свидетелей, особенно при великолепной игре второго, устранило бы всякую тень подозрения против правдивости Неоптолема; с другой стороны, опасность попасть в руки Одиссею и Диомеду заставила бы Филоктета принять предложение Неоптолема увезти его на родину. Так, очевидно, представлял себе дело Одиссей, когда он задумал эту вторую интригу в подкрепление к первой; почему же поэт повел действие не так, чтобы этот столь разумный план увенчался успехом?
Нет, трагическое значение «сцены с купцом» заключается именно в том, что она при данных обстоятельствах оказывается совершенно ненужной. Филоктет – вовсе не тот угрюмый, всех подозревающий человек, каким себе его представляет Одиссей, а напротив, детски-доверчивый и добродушный. Разыгранная «купцом» комедия ничем не способствует успеху интриги, но зато она причиняет новые мучения и без того уже измученной совести Неоптолема и подготовляет перелом в его душе. Конечно, можно задать вопрос: почему эти душевные муки Неоптолема так мало сказываются на нашем тексте? И, без сомнения, поэт новых (не новейших) времен заставил бы его выражать свои чувства восклицаниями «в сторону». Античные поэты этого средства не знали или почти что не знали; они могли рассчитывать только на искусную игру актеров, от которой нам никаких следов не осталось.
Такова, по моему мнению, психологическая мотивировка «сцены с купцом»; но, кроме сказанного, она представляла для поэта еще одно удобство, в которое нам не так-то легко вдуматься. Мы видели, что по варианту Еврипида именно Одиссей с Диомедом отправляются за Филоктетом; только Софокл заменил Диомеда Неоптолемом. Меду тем фабула предшественника имела для последующего поэта известную обязательность: ее нельзя было прямо оставить в стороне, ее надлежало принять в виде предположения или вымысла, т. е. так, чтобы ее происхождение было этим объяснено. Так и здесь: Софокл не прямо устраняет вариант Еврипида о посольстве Одиссея и Диомеда, он дает ему место в своей трагедии, но лишь как вымыслу «купца».
Как бы то ни было, «купец», исполнив свою задачу, уходит. Измученному Неоптолему его роль становится окончательно противной; назло своему мучителю он не торопится увести Филоктета на свое судно и уступает только настойчивым требованиям последнего. Все же страдальцу кое-что необходимо взять из своей пещеры; он говорит об этом Неоптолему; при этом впервые внимание последнего обращается на лук Филоктета. Это – тот самый лук, которому при содействии молодого героя суждено взять Трою. Его благоговение перед ним понятно: полезно прочесть эту сцену, чтобы понять, что этот лук Геракла был для античных людей не менее свят, чем копье Монсальвата для средневековых. Все же пока лук остается в руках Филоктета; оба собеседника удаляются в пещеру; на сцене остается один хор.
Его песня посвящена тому же Филоктету, столь долголетними страданиями искупившему свой иксионовский грех. Она горяча и искрення, пока герой отсутствует; его появление – к началу второй антистрофы – заставляет поющих вернуться к прежнему притворству и петь о предстоящем ему возвращении на родину, к нимфам этейских склонов.
Небольшой второй акт приносит новую задержку: припадок болезни Филоктета. Это мотив был дан уже Эсхилом, и Софокл, как поэт-врач, охотно дал ему место в своей трагедии; психологическое же значение этой сцены состоит в том, что она впервые, во время отдыха Филоктета, оставляет Неоптолема наедине с его совестью. Больной в беспомощном забытьи у его ног; его лук в его, Неоптолема, руках благодаря великодушной доверчивости самого Филоктета, который более всего боялся, как бы он не достался мнимым его врагам, Одиссею и Диомеду; моряки хора, как ревностные исполнители, советуют сесть на судно и уплыть с Филоктетом или без него: у Неоптолема же чем дальше, тем повелительнее раздается голос совести, приказывающий ему самому разорвать нити недостойной интриги. Все развитие действия представляло ему страдальца все более и более одиноким и беспомощным, направленный против него план – все более коварным и насильственным; в соответствии с этим и его сердце все более и более становилось на сторону обижаемого. Так подготовляется перелом.
* * *
Его приводит следующее, третье действие. Филоктет пробуждается; его беззаветная благодарность морякам за их верность – им, советовавшим похитить его лук с ним или без него! – прибавляет лишнюю каплю горечи в переполненную уже чашу. Машинально, почти в забытьи, протягивает Неоптолем руку своему хозяину, предлагает ему услуги своих моряков, чтобы снести его, больного, на судно (воскрешая этим, к слову сказать, эсхиловский мотив для того, чтобы его отвергнуть). Филоктет отказывается: он хочет быть обязан по мере возможности только своему молодому гостю.
Здесь все было возложено на игру актера. Зритель должен был видеть, что Неоптолем напрягает свои последние силы, чтобы довести интригу до конца, и что, наконец, эти силы его оставляют. Их отлив происходит как раз в ту минуту, когда Филоктет, поставленный на ноги Неоптолемом, отдыхает, прислонившись к сосне, и затем ласково протягивает ему руку, давая этим понять, что он готов в путь. Одна только капля, но зато последняя. Отчаяние Неоптолема еще увеличивается недоразумением Филоктета, опасающегося, что припадок его страшной болезни расшатал в Неоптолеме его прежнюю ласковую решимость; вообще психологическое мастерство поэта сказывается в этой сцене со всей своей силой. С трудом понимает Филоктет свое положение; поняв его, наконец, он хочет разорвать всё, требует обратно свой лук – и слышит ответ:
Не волен я: вождей приказ исполнить
И правда мне, и выгода велит.
Правда? При чем тут правда? Она еще отождествлена для молодого ратника с долгом воинского подчинения; с ней уже борется та другая правда, которая внушила ему его великодушное откровение, но полной победы еще нет.
В этом двойственном свете стоит он перед Филоктетом мишенью его чудной полугневной-полужалостной речи, в которой так трогательно чередуются упреки и проклятья с мольбами и заклинаньями, в которой он обращается то к своему мнимому мучителю, то к окружающей и участливой природе. Чашка истиной правды перевешивает: Неоптолем уже готов вернуть Филоктету его лук – как вдруг вмешивается в дело Одиссей.
Здесь драматизм положения достигает своей наивысшей точки. Задача Одиссея – спасти остаток интриги, наполовину разрушенной неблагоразумным увлечением Неоптолема. Вспомним требование оракула: Филоктет вместе с его луком должен последовать под Трою добровольно. Что значит «добровольно»? Это значит не уведенный насильственно, т. е. прямой физической силой. Нравственное насилие (как и обман) не исключается, но, конечно, чем оно будет идеальнее, тем лучше в смысле соблюдения оракула. Одиссей это знает: после того как первая интрига, основанная на обмане, потерпела крушение, он тотчас изобретает другую, основанную на нравственном насилии.
Он быстро становится хозяином положения. Неоптолем не решается в его присутствии вернуть Филоктету его лук; его роль на время делается чисто пассивной. Одиссей велит схватить Филоктета якобы для того, чтобы увести его силой, но, разумеется, его настоящий план не в этом: это ведь было бы против оракула. Нет, притворное насилие имело только целью подготовить после гневной речи Филоктета притворно-презрительную отповедь:
…Всегда и всюду мне мила победа —
Не над тобой, однако; да, тебе
Я добровольно уступить согласен. (Морякам.)
Эй, люди! Отпустите чужестранца,
Не прикасайтесь: пусть зимует здесь.
Ты нам не нужен более: твой лук
И так у нас. Есть в нашем стане Тевкр,
Стрелок искусный; да и я, надеюсь,
Тебя не хуже: натянуть его
И выстрелить – рука не дрогнет, верь.
На что ж нам ты? Гуляй себе на радость
По Лемноса утесам твоего,
А мы пойдем: пусть лук твой мне доставит
Тот чести дар, что был сужден тебе.
Это, конечно, только притворство: лук, по оракулу, был действителен только в руках Филоктета. Но ведь сам Филоктет этого не знает; этим незнанием можно воспользоваться. И вот Одиссей решает им воспользоваться. Пусть жало этой мысли, что его же лук доставит честь победы его злейшему врагу, помучит его некоторое время; это и есть то нравственное насилие, от которого он ждет победы над упорством Филоктета. Он оставляет это жало в душе врага и быстро, сопровождаемый задумчиво ему повинующимся Неоптолемом, покидает сцену.
И здесь действие двоится. Перед нами Филоктет с хором; за сценой, у корабля, Одиссей с Неоптолемом. Для успеха второй интриги Одиссея необходимо, чтобы упорство Филоктета было сломлено и чтобы Неоптолем хоть теперь сохранил свою непреклонность до конца. Происходит, однако, обратное; подобно первой, и эта вторая интрига терпит неудачу, и притом двойную.
Первая неудача – на наших глазах. Филоктет не скрывает от себя двойного ужаса своего положения; в следующей за уходом обоих вождей лирической сцене (третьем стасиме) он живо представляет себе и свою собственную беспомощность и обреченность, и злорадство своего врага, овладевшего его победоносным оружием. И все-таки он остается глух к обещаниям и увещаниям хора; они вызывают у него только мучительный взрыв отчаяния, после которого он безмолвно и угрюмо удаляется в свою пещеру, чтобы в ней умереть.
Есть мрачное величие в этом упорстве. Все манит Филоктета под Трою: там и исцеление, и радость, и слава, там полная, деятельная жизнь героя ахейской эпохи, исполнение всех гордых надежд, с которыми он некогда двинулся в поход. Здесь – жалкая, голодная смерть, сопровождаемая мучительным видением злорадствующего торжества его ненавистного врага. И все-таки Филоктет жертвует всем тем и выбирает это: на всё он согласен, лишь бы не протянуть руки примирения тем, кого он ненавидит всей душой, лишь бы не отдать своего последнего клада. Софокл любил такие положения: Электра после вести о смерти брата, Креонт перед ликом Тиресия, Эдип Колонский после сцены с Полиником.
Но там, за сценой, тем временем разыгрывается другая драма. Быть может, явись Филоктет, сломленный, к кораблю Неоптолема – Одиссей бы победил, душа юноши осталась бы лишь наполовину очищенной от греха лжи. Но нет, он упорствует, медлит, и его лук чем дальше, тем сильнее жжет руки своего неправого владельца; пытка под конец становится невыносимой – он возвращается на сцену. Увещания, угрозы Одиссея тщетны, тщетно даже его последнее, отчаянное появление – Неоптолем отдает Филоктету его лук, и Одиссею приходится поспешно уйти, чтобы спасти свою жизнь. Этот поспешный уход героя, так могуче господствовавшего над положением в третьем акте, не особенно благодарен для актера; но он с полной и недвусмысленной ясностью знаменует то, что было всего важнее для поэта, – крушение интриги.
А теперь – что дальше? Добудет ли правда и искренность то, что было не по силам интриге и лжи? Или же Филоктет так же победоносно отстоит свой последний клад и от любовной прямоты Неоптолема, как он отстаивал его от корыстного насилия Одиссея?
Неоптолем не теряет надежды; в полной благородного увлечения речи он описывает Филоктету свое и его положение. И действительно, несокрушимое упорство лемносского отшельника потрясено:
Жизнь-мачеха! Зачем меня неволишь
Ты видеть дня сиянье на земле?
Зачем в Аида не отпустишь мрак?
Что делать мне? На искреннее слово
Могу ль ответить недоверьем я?
Правда, эта добрая мысль ненадолго прорезает мрак злобы, окутавший ожесточенную душу героя; стоит ему представить себе цену, которой от него требуют, и мрак водворяется вновь.
Но уступить? О ужас! Как осмелюсь
Себя я солнцу показать?
И это конец. Да, по человеческим расчетам конец: Неоптолему нечего более сказать, все средства убеждения исчерпаны. Теперь и ему нечего более думать о возвращении под Трою; надо проститься со славой, с подвигами, с полной жизнью витязя-бойца и мирно доживать свой век расчетливым хозяином на пастбищах скиросских гор. Да, по человеческим расчетам все к этому клонится. Но если так, то интрига Одиссея нравственно восторжествовала над прямотой Неоптолема и последнему остается только утешить себя своим красивым девизом:
Милей победы гнусной
Мне неудача честная стократ.
Но там, где человеческие расчеты сказали свое последнее слово, там может и должен вмешаться бог…
Позднейший философ, философ-стоик, сказал бы: обитающий в нашей душе бог, наша богозданная совесть – и был бы прав. Пусть Филоктет еще раньше знал, что он не только собственной жертвой спасает свою ненависть против своих обидчиков, но и заставляет своего молодого великодушного друга принести такую же жертву: пусть даже он сам внушил ему мысль об этой жертве как мысль правильную и разумную. Все равно: в ту минуту, когда этот друг со вздохом отречения ему говорит:
Поклонись земле – и в путь! —
он не мог не почувствовать непосредственно всей тяжести требуемого, в его душе не могла не пробудиться совесть, говоря ему: «Нет, довольно! После такого испытания очередь жертвы – за тобой». Для верующего Софокла этот голос совести был голосом подлинного бога – божественного друга Филоктета, гостя олимпийской трапезы Геракла. Он сам спускается с небесных высот, чтобы внушить ему лучшие мысли: покорный его завету Филоктет отказывается от своей ненависти и вместе с радостным Неоптолемом отправляется под Трою, навстречу по двигам и славе.
В этом появлении Геракла усматривали пресловутого deus ex machina, влияние Еврипидовой драматургии на старшего, но состарившегося Софокла. Нет надобности оспаривать возможность этого влияния; все же разница между нашей развязкой и большинством еврипидовских, где действует deus ex machina, заключается в ее психологической обоснованности. Геракл и его завет – лишь трансцендентный символ того имманентного перелома, который должен был произойти рано или поздно – и лучше рано, чем поздно, – в душе самого героя. И вместе с тем нельзя не почувствовать, что эта проекция человеческого аффекта в божественную сферу, этот торжественный аккорд, раздающийся с небесной выси, сообщает концу нашей трагедии особый, благоговейный характер, которого ей не могла бы придать чисто человеческая развязка. Действительно, как чудно звучит после этого аккорда вторящая ему прощальная молитва героя:
А теперь, пред уходом, земле помолюсь:
Ты прости, мой приют, безмятежная сень;
Влажнокудрые нимфы весенних лугов;
Ты, раскатистый рокот прибоя, и ты,
Под навесом горы прибережный утес,
Где так часто летучею пылью валов
Мне порывистый ветер чело орошал;
Ты, Гермейский хребет, что в страданьях моих
Мне участливо стоном на стон отвечал;
О певучий родник, о святая струя!
Покидаю я вас, покидаю навек:
Благостыню нежданную бог мне явил.
Мой привет тебе, Лемноса кряж бреговой!
Ты же с ветром счастливым отправь нас туда,
Куда рока великого воля влечет,
И усердье друзей, и державный призыв
Всеблагого вершителя – бога.
Хор, уходя, присоединяется к этой чисто античной молитве – и здесь только подлинный конец трагедии.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.