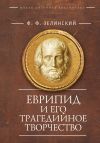Автор книги: Фаддей Зелинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 33 страниц)
В этом состоянии мучительного напряжения и хор нашей трагедии, свидетель гибели героя, произносит свои грустные слова:
Горе, смертные роды, вам!
Сколь ничтожно в глазах моих
Вашей жизни величье!
Кто меж вас у владык судьбы
Счастья бо́льшую долю взял,
Чем настолько, чтоб раз блеснуть
И, блеснувши, угаснуть?
И эти слова были бы последним решением мудрости в нашем вопросе, если бы то этико-логическое познание, о котором речь была только что, было единственным. Но нет – Ницше глубоко прав. За той окружностью, у которой оно терпит крушение, начинается для дионисически проясненного взора новое познание – познание трагическое. Равновесие восстановляется, но не в области добра – оно восстановляется тем, что главу борющегося и безвинно гибнущего героя окружает ослепительный ореол красоты.
А это – область поэта как художника. И еще раз прав был Ницше, говоря, что это трагическое познание для того, чтобы быть только выносимым, нуждается в защите и целебном средстве искусства. Художник путем художественной интуиции возводит идею рока из быта в жизнь, создавая из его бесчисленных реальных, но антихудожественных проявлений мраморный образ Миры, освящающей своим прикосновением свою жертву. И в этом освящении – примирение.
Это ли пессимизм? Нет. Мы не будем здесь возбуждать векового вопроса об оптимистическом или пессимистическом характере трагедии вообще и античной трагедии в особенности; но читатель видит сам, что на почве дионисического, трагического понимания – или, что одно и то же, на почве жизни, а не быта – эта антитеза разрешается сама собою. Воплощенное в Эдипе человечество облагорожено и возвышено красотою его жизни и красотою его гибели: это возвышение стоило той жертвы. Так над близоруким этико-логическим пессимизмом торжествует биологический оптимизм. Горе Эдипу, павшему жертвою рока; но благо человечеству, сумевшему создать величественные образы его жизни, борьбы и гибели.
III. Трагедия благодати. «Эдип в Колоне»
I
Ценность человека по человеческой оценке определяется совокупностью его физических и духовных сил, которые делают его способным приносить пользу окружающим его. В это чисто биологическое определение вносит немаловажную поправку нравственная культура этих окружающих, не ограничивая ту совокупность настоящим временем: пусть он теперь этими силами уже не обладает – если он обладал ими некогда, то благодарная память тех, которым они тогда приносили пользу, продлит его ценность навсегда, вплоть до минуты его смерти. Итак, представим себе слепого, бессильного, нищего старца; перенесем его, во избежание означенной поправки, в среду чужих людей, никогда не знавших его в эпоху его силы и не обязанных поэтому чувствовать какую-либо благодарность ему. Какова будет его ценность? Никакая, ответит нам биология и построенная на биологии этика.
Вообще биологическая точка зрения – точка зрения античности. Но здесь как будто наблюдается исключение. Тот старец-изгнанник, которого мы изобразили только что, – его Софокл сделал героем своей трагедии «Эдип в Колоне». И что же? Его с почтительной любовью принимает царь города, в пределы которого он забрел; его тщетно стараются вернуть враждующие между собой партии покинутой им общины; в сознании своей высшей ценности он остается у тех, которые его приютили. В чем же эта ценность? Ее одним метким словом определяет его царь-хозяин в том месте, в котором он запрещает дочерям почтить обычным плачем его могилу:
Прекратите ваш, плач, дорогие: чей гроб
Под землей благодать осенила, о том
Горевать не велит Немезида.
Благодать – точнее, «подземная благодать» (χϑoνία χάρις) – вот та неотъемлемая, все превышающая ценность, которая возносит этого биологически бесполезного старца над всеми этими молодыми, сильными, прекрасными, добрыми и умными людьми, цветом подданных могучего царя богозданных Афин.
С признанием этой мистической силы покинута та биологическая, посюсторонняя точка зрения, на которой стоит Гомер; оно вносит нечто новое в миросозерцание эллинов. И если мы не так-то чувствуем всю смелость этого новшества, то потому только, что мы к нему с малолетства привыкли. Ведь благодать – это христианское понятие. Да, конечно; но история религии и нравственности учит нас, что и в этом пункте, как и во многих других, «античность была настоящим Ветхим Заветом нашего христианства». Учение стоит того, чтобы его развить обстоятельнее.
* * *
В сущности благодать и даже «хтоническая» благодать – многим известное понятие античной культуры; мы же видели, это χάρις, Харита. Но мы, более привыкшие воспринимать античность с художественной точки зрения, как-то перестали чувствовать в этой Харите древнее этико-религиозное естество. Сознаемся откровенно: по этому пути повели свою Хариту или своих Харит уже древнегреческие писатели и художники; за ними последовали римляне, создавшие в подражание грекам свою Грацию или своих Граций, и надо было явиться могучему гению блаженного Августина для того, чтобы вернуть этой Грации, как gratia gratis data, ее раннее и забытое значение. Как он это сделал – это навсегда останется одной из замечательнейших тайн творческой интуиции. А впрочем, биологический корень имелся и здесь: «хтонические Хариты» – это первоначально зиждительные Благодати плодоносной земли, дающие рост, цвет и плод ее порождениям, как об этом свидетельствуют и их культовые имена Αὐξώ, Θαλλώ и Καρπώ. Но это трансцендентное разрешение великой биологической тайны само создавало новую загадку, открывало глаза на созерцание другой, еще более таинственной тайны. Земля – зиждительница плодов, она же и хранительница останков вкусивших смерть людей; как в мистериях богини плодородия Деметры созрела идея бессмертия души, так и родственные ей хтонические Благодати в своем таинственном культе – таковой существовал в беотийском Орхомене – взрастили для смертных особую потустороннюю религию, богатую образами, утешающими и устрашающими, замогильного мира. Нам о ней мало известно; культ был таинственным, а орхоменский эпос «Миниада», поведавший непосвященным те ее подробности, которые им можно было знать, нам не сохранился. И только внушительная личность мужской параллели к Харитам, перевозчика душ Харона – и его ввела во всеэллинское сознание названная только что «Миниада» – осталась общеизвестной свидетельницей того, чем был для Орхомена культ его «хтонических Харит».
Прежде чем углубиться далее в мистическую область, которая открылась перед нами, укажу на биологическое развитие представления о Харитах, которое тоже определило собою их мистическое значение. Исходя из первоначального верования в Харит как даровательниц роста, цвета и плода, т. е. вообще урожая и принимая во внимание, что самым драгоценным урожаем в общине является урожай ее граждан, – естественно было поставить Харит в непосредственные отношения к человеческой плодовитости и ее условиям, любви и браку. Так-то Харита стала совмещать в себе всё, что делает человека способным к любви, браку и деторождению; а отсюда только один шаг до Хариты как богини красоты, до «Грации» в возобладавшем смысле слова. Ведь Платон был выразителем чувства своего народа, когда он определил биологическое значение красоты: «В безобразном рождать невозможно, а только в прекрасном». Вот почему Сафо называет ἄχαρις еще не способную к браку девушку; вот из какого круга представлений возникло удивительное употребление существительного χάρις и глагола χαρίζεσϑαι в смысле любовной отдачи – одно из самых чудных и знаменательных проявлений греческой души: «Харитой называли древние отдачу женщины мужчине», – говорит Плутарх. И к тому же кругу представлений относится и сопоставление в культе «Демоса и Харит», символа самой общины и символов ее роста, расцвета и плодоносности. Еврипид развил эту мысль в своих «Просительницах»:
Где сам народ страны своей властитель,
Там с радостью он смотрит на побеги —
Под сенью старших – граждан молодых.
Вот деятельность Хариты на земле и в посюстороннем мире; а теперь вернемся окончательно к «подземной Благодати».
* * *
У Гомера, как уже было сказано, мы ее еще не встречаем. Вечным блаженством наслаждаются боги на Олимпе; бессильную и бездеятельную жизнь ведут призраки умерших в туманной обители Аида. И притом всех умерших: уж если даже для Ахилла не сделано исключения, то, значит, исключения недопустимы. Тем более нас озадачивает, что Менелаю в «Одиссее» предвещается блаженная жизнь в Елисейских полях, в которую он вступит, не изведав смерти; правда, певец продолжает:
Это – за то, что Елены супруг ты и зять Олимпийцев, —
подчеркивая этим исключительность его положения; но все же мы чувствуем, что здесь старинная религия Зевса дала новый побег. А потому позволительно отнестись с удвоенным вниманием к знаменитому пророчеству Тиресия Одиссею относительно его, Одиссея, смерти:
Тебе же вне моря
Смерть суждена, и настигнет она, благосклонная, долгой
Жизнью тебя утомленного, вдруг. А кругом тебя люди
Счастливы будут.
Что значат эти последние слова? Увидим.
Если мы затем перенесемся в религиозную жизнь исторической Греции, то мы найдем здесь, совершенно независимо от мистерий, в явном, общинном и частном культе на рубеже между богами, которым приносятся «жертвы», и умершими людьми, за могилами которых ухаживают родственники, еще очень многочисленный класс сугубо прославленных покойников; это – так называемые «герои». Само слово встречается уже у Гомера, но только в другом значении, а именно, как это ни странно, в том самом, в котором мы употребляем его и теперь. Состав этого класса культовых героев очень пестр. В него входят все эпические герои в гомеровском и нашем значении слова: все они, сражавшиеся некогда под Фивами и Троей, теперь прославлены и пользуются особо торжественным культом, кто в одной общине, кто в другой, некоторые даже в двух или нескольких. В него входят затем и так называемые «эпонимы», т. е. те герои, о которых предполагали по наивной лингвистике тех времен, что они дали свои имена общинам и учреждениям (между тем как на самом деле они были вымышлены ради объяснения этих имен): так, герой Коринф почитался в Коринфе, герой Лакедемон в Лакедемоне, героиня Фива в Фивах и, чтобы далеко не ходить, герой Колон в Колоне. В него входят далее и настоящие люди, если они были основателями (ктистами) или спасителями общин или учреждений. Так основатель Амфиполя Гагнон, друг Перикла, был героем для амфиполитанцев; да и сам Софокл был по своей смерти «героизирован» под именем Дексиона. В него входят, наконец, и другие люди, которых отрадно объединить в одну общую категорию.
Культ этих героев – вообще заупокойный культ, но только более торжественный, чем тот, которым чествовались могилы обыкновенных покойников; подробности можем оставить в стороне. Учреждался он часто по почину самих общин или обществ; но иногда и дельфийский Аполлон, высший авторитет в делах религии, вменял общинам в обязанность учреждение такового. Это случалось в особенности тогда, когда община по поводу страшного и загадочного несчастья обращалась в Дельфы с вопросом, как его прекратить. Сплошь и рядом Аполлон объявлял причиной несчастья гнев какого-нибудь «героя», требовавшего учреждения или возобновления ему культа. Культ учреждался, и семья героев обогащалась еще одним членом.
С этой точки зрения, впрочем, мы среди героев отличаем один как бы предпочтительный класс. Это были те, которые предполагались вовсе не вкусившими смерти, а переведенными божьим чудом в «новый образ жизни». Таков был тот Амфиарай, царь и пророк, которого в сражении Семи вождей под Фивами заживо поглотила земля. Тут уже сама наличность совершённого чуда была достаточным поводом к учреждению культа: где боги так ясно сказали свое слово, там нечего было прибегать к догадкам.
Все же прочие герои предполагались переступившими через порог смерти; их культ поэтому имел непосредственным предметом их могилу. Если таковой в общине не было, то надлежало ее соорудить; для этого было желательно заручиться останками героя и перенести их в общину, если только это было возможно. Такие «перенесения останков» были поэтому важными моментами в религиозной жизни греческих общин; историческое значение имели перенесения останков Ореста в Лаконику и Тезея в Афины.
Спрашивается, однако, какое значение имел для общины этот герой, из-за которого она брала на себя столько трудов. Вот тут-то и вступает в силу та «подземная благодать», о которой речь была выше.
Действительно, герой, почтенный принявшей его общиной, становился ее настоящим духом-покровителем. К его могиле охотно обращались в случае болезни и надеялись найти исцеление у нее. Ему же приписывалась и пророческая сила, почему его вопрошали тем или иным способом в затруднительных случаях жизни. О нем же предполагалось, что он может, подобно прочим силам земли, даровать урожай или неурожай и вообще, находясь под землей, оттуда «воссылать благо». Конечно, было много и других проявлений его силы в зависимости от культурности данной общины; и если гражданам аркадского городка Алиферы угодно было учредить своему герою Миагру благодарственный культ за то, что он охранял их от мух, то это было их дело. Но самую деятельную помощь являл герой своей общине во время войны. И самые славные легенды о героях относятся именно к ней. Так Диоскуры считались постоянными помощниками спартанцев, которые исправно брали с собой на войну их символические фетиши, так называемые δόκανα. Так эгинеты считали своими покровителями своих героев Эакидов и тоже брали с собою в бой их священные изображения. Перед Саламинской битвой все обратились с молитвой к этим самым Эакидам, среди которых ведь находились древние цари Теламон и Аянт; и когда битва кончилась победой эллинов, то Фемистокл в своей благодарственной речи смиренно заявил, что не сами они, эллины, а их боги и герои одержали эту победу.
Теперь, я думаю, нам понятны вышеприведенные слова Тиресия о смерти Одиссея:
А кругом тебя люди
Счастливы будут.
Они значат: твоя могила будет источником благодати для того народа, в стране которого она будет находиться, так как ты станешь его героем-покровителем.
* * *
Один вопрос остался еще неразрешенным: чем заслужил «герой» эту божью милость, которая делала его столь могучим после смерти? Перебирая надписи, сохраненные нам от героических могил, мы чаще всего встречаем слова «герой, добрый, радуйся»; можно ли из них вывести заключение, что именно сверхземная доброта героев, проявленная при жизни, становилась причиной их замогильной мощи?
Нет, никоим образом нельзя. Если даже в христианстве понятия святости и благости не всегда совпадают, то в античном миросозерцании тем более. Мы ведь видели: чаще всего вредоносный гнев героя был причиной учреждения ему культа; гнев же этот и его роковые последствия, несомненно, свидетельствовали о силе, но, конечно, не о благости героя. Но чем же, повторяем вопрос, заслужил он эту силу? Сомневаюсь, чтобы обыкновенные эллины особенно задумывались над этим вопросом. Чем заслужил? Да ничем: она была фактом, с которым надо было считаться; вот и всё.
Итак, вот какова эта «подземная благодать»: gratia gratis data.
…Но не будем слишком напирать на эти зародыши августинизма: ведь ни один из наших древних источников не подсказывает нам этого толкования. Большинство, и притом подавляющее, дальше самого факта не идут.
Большинство – но всё же не все.
Вот, например, Эсхил, поэт-жрец… Но будем откровенны: не звучат ли гневным протестом недоумения те замечательные слова, которые у него произносит мятежный Этеокл, когда хор именем богов его заклинает не принимать вызова его брата Полиника и не идти этим навстречу проклятию его отца? «Боги, – отвечает он, – что-то забыли обо мне; зато от моего трупа будет исходить чудесная благодать (χάρις δ’ἀφ’ ἡμῶν ὀλoμένων ϑαυμάζεται); итак, зачем же мне вилять перед гибельным роком?» Если не по настроению, то по содержанию эти слова сильно напоминают предсмертную шутку императора Веспасиана – будущего divus Vespasianus: «Увы, мне кажется, я становлюсь богом».
Нет, не в духе Эсхила было вдумываться в нравственные условия «подземной благодати». Для него она была фактом, перед которым он благоговейно преклонялся, когда он касался родных и симпатичных ему героев, вроде того Аянта, под сенью которого он сражался в водах Саламина; его же нравственное чувство находило себе удовлетворение в другой религии – той самой, в которой Деметра «вскормила его ум» на его родине, в Элевсине. Героизация со всем кругом представлений, которые она призвала к жизни, была догматом религии Аполлона, которая гораздо менее волновала его душу.
Зато Софокл был верным сыном именно этой религии, которая и его самого прославила после его смерти. Мы ведь знаем: он стал «героем», героем Дексионом. За что? Об этом мы можем только догадываться. Но как бы то ни было, знаменателен тот факт, что именно в последние дни своей жизни, накануне своей собственной героизации, он стал размышлять над проблемой благодати, поставил ее в центр своей последней трагедии и усмотрел ее нравственное основание – он, тот Софокл, смерть которого его современник Фриних почтил стихами:
Счастлив Софокл! Он долго жил – и в пору
Покинул землю, не изведав зол, —
в страдании.
Спешим оговориться: в страдании, да. Но не в аскетическом. Идея добровольного и ненужного самоистязания, посредством которого индийский царь Вишвамитра заряжает себя благодатью, точно электричеством, – эта идея была так же чужда Софоклу, как и всему его народу. Страдания его героя – страдания ниспосланные; их ниспосланием боги стали его должниками, и дарованная ими благодать – лишь уплата этого долга. Это – не августиновская, а, скорее, пелагианская идея; пусть так. Но это – в то же время единственная, которая уживалась с античным миросозерцанием.
А впрочем, присмотримся к этой трагедии благодати Софокла – к его «Эдипу в Колоне».
II
Откуда, прежде всего, он заимствовал ее содержание? Вопреки своему обыкновению, не из эпического цикла. Эпос, т. е. «Эдиподея» с «Фиваидой» без особенного внимания отнесся к последним дням фиванского царя-отцеубийцы. Ослепив себя по обнаружении своего невольного преступления, он остается в Фивах, под властью своих подросших сыновей; оскорбленный ими, он проклинает их. Они решают чередоваться во власти; Полиник, изгнанный, отправляется в Аргос, становится зятем царя Адраста и возвращается в Фивы «после смерти Эдипа». Как и когда он умер – остается неизвестным; все же из молчания наших источников мы заключаем, что его смерть не была сколько-нибудь выдающимся эпизодом в эпосе.
Интересная подробность, касающаяся его погребения, перешла из ученой компиляции мифографа Лисимаха в наши схолии. После его смерти, повествовал он, его друзья хотели похоронить его в Фивах; но этому воспротивились фиванцы, считая его безбожником. Его похоронили в беотийском Кеосе; но когда вслед за тем в Кеосе случилось несчастье, его жители признали в нем кару за данное безбожнику убежище и заставили его друзей опять унести его останки. Скитаясь с ними, они забрели в беотийское же местечко Этеон и ночью – не зная где они, – похоронили их в священной ограде Деметры. С наступлением дня обнаружилось дело; встревоженные двойным осквернением святыни, этеонцы обратились в Дельфы с вопросом, что им делать. Аполлон ответил: «Не трогайте просителя богини». Так-то он нашел там свой покой. Откуда взял Лисимах этот красивый рассказ? Из киклического эпоса? Вряд ли. Этот эпос был вообще антиаполлоновским и не признавал дельфийского бога вершителем судьбы Эдипа. Скорее из Гесиода или из лирической поэзии. Но как бы то ни было, рассказ этот содержит знаменательную черту, повлиявшую, по-видимому, на фабулу нашего поэта. Эдип скитается, всюду гонимый, и находит себе успокоение по воле Аполлона лишь тогда, когда он невзначай попадает в священную ограду подземной богини. Правда, в этом рассказе он скитается мертвый.
Еще одна черта является характерной в этом предании: неуважение фиванцев к смерти и ее правам. Действительно, этот город и в историческое время не находился в этом отношении на высоте общеэллинской гуманности. Афиняне это давно подметили и выразили свой протест против этой отсталости своих соседей, согласно известной особенности древнейшей греческой критики, в своих мифах. Так, они рассказывали, что когда Семь вождей пали под Фивами, то фиванцы не дозволили их хоронить; тогда семьи убитых обратились к афинскому царю Тезею с просьбой заставить их исполнить общеэллинский долг, и он – силой убеждения или оружия – добыл у фиванцев трупы павших и похоронил их у себя в Элевсине. Эсхил и Еврипид посвятили по трагедии этому подвигу своего царя, но о нем же много раньше свидетельствовала элевсинская могила несчастных витязей.
Этим, думается мне, объясняется загадочный факт, что и могилу обес чещенного фиванцами Эдипа предполагали в Афинах – и притом не в одном, а в двух местах. А именно, во-первых, в ограде «Почтенных богинь» (σεμναὶ ϑεαί), т. е. Эриний под восточным склоном Ареопага, где и в историческое время находился «памятник Эдипа». Согласно свидетельству Павсания, традиция об этой могиле гласила, что туда останки Эдипа были перенесены из Фив, – таким образом, эта могила Эдипа под Ареопагом была точной параллелью к элевсинской могиле Семи вождей.
Но, во-вторых, могилу Эдипа себе присвоило и пригородное местечко Колон, родина нашего поэта; и традиция, имевшаяся относительно этой могилы, была гораздо богаче и таинственнее той. Конечно, имея главным своим источником трагедию Софокла, мы не везде можем провести четкую черту между унаследованной им традицией и его собственным поэтическим вымыслом. Но все же главный и решающий факт удостоверен независимым от Софокла источником, а именно «Финикиянками» Еврипида, которые были поставлены за несколько лет до «Эдипа в Колоне». Трагедия эта кончается сценою, в которой Эдип, переживший смерть своих сыновей, по решению граждан отправляется в изгнание, сопровождаемый Антигоною. Отвечая на ее вопросы, он говорит, что согласно оракулу Аполлона ему суждено скитальцем умереть в Афинах, а именно «в святом Колоне, обители бога-наездника» (т. е. Посидона). А потому мы имеем основание отнестись с доверием и к той традиции, которая восходит к ученому собирателю аттических преданий Андротиону. Согласно ей, Эдип, изгнанный фиванским царем Креонтом, приходит в Колон и садится просителем («гикетом») у храма Деметры и Афины-Градодержицы. Креонт пытается силой вернуть его в Фивы, но Тезей за него заступается. Вскоре затем Эдип умирает; перед смертью он наказывает Тезею держать его могилу в тайне от фиванцев. В этой традиции нас может озадачить противоречивое поведение Креонта: он изгнал Эдипа, он же хочет силою его вернуть. Обе черты мы встречаем и у Софокла; а поэтому вряд ли можно сомневаться, что и мотивировка была почерпнута Софоклом из традиции, т. е. что разрешение противоречия было у Андротиона то же, что и у Софокла. А именно: уже после изгнания Эдипа Креонт и фиванцы узнали про оракул, осенивший благодатью несчастного изгнанника-слепца.
А теперь мы можем перейти и к самой трагедии.