Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 6"
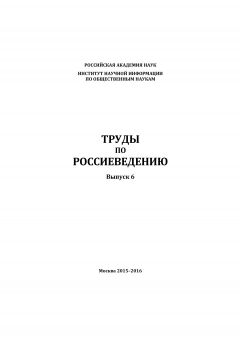
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 37 страниц)
16. Елисеева О.И. Геополитические проекты царствования Екатерины II // Российская империя от истоков да начала XIX века: Очерки социально-политической и экономической истории. – М: Русская панорама, 2011. – С. 745–759.
17. Задонщина. – М.: Художественная литература, 1981. – 606 с. – (Памятники литературы Древней Руси: XIV – середина XV века).
18. Законодательство Екатерины II: В 2 т. / Отв. ред. О.И. Чистяков, Т.Е. Новицкая. – М.: Юрид. лит. – Т. 1: 2000. – 1056 с.; Т. 2: 2001. – 984 с.
19. Зверев С.Э. Военная риторика Нового времени. – СПб.: Алетейя, 2012. – 400 с.
20. Зимин А.А. Россия на рубеже XV–XVI столетий (Очерки социально-политической истории). – М.: Мысль, 1982. – 325 с.
21. Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идеология в России последней трети XVIII – первой трети XIX века. – М.: НЛО, 2001. – 416 с.
22. Император Александр I и Фредерик-Сезар-Лагарп: Письма. Документы: В 3 т. – М.: РОССПЭН, 2014. – Т. 1: 1782–1802. – 920 с.
23. Исторический курс «Новая имперская история Северной Евразии». Глава 5: Новые времена: Проблема обоснования суверенитета и его границ в Великом княжестве Московском, (XV–XVI вв.) // Ab Imperio. – Казань, 2014. – № 3. – С. 371–383. – Режим доступа: http://new.abimperio.net/?page_id=30
24. История в Энциклопедии Дидро и Д’Аламбера. – Л.: Наука, 1978. – 318 с.
25. История Северной войны: 1700–1721 гг. – М.: Наука, 1987. – 214 с.
26. Каменский А.Б. История создания и публикации книги Г.-Ф. Миллера «Известие о дворянах российских» // Археографический ежегодник за 1981 год. – М.: Наука, 1982. – С. 104–109.
27. Каменский А.Б. Подданство, лояльность, патриотизм в имперском дискурсе России XVIII в.: К постановке проблемы // Ab Imperio. – Казань, 2006. – № 4. – С. 59–99.
28. Карамзин Н.М. Историческое похвальное слово Екатерине Второй // Карамзин Н.М. О древней и новой России: Избранная проза и публицистика. – М.: Жизнь и мысль, 2002. – С. 280–332.
29. Карамзин Н.М. О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях // Карамзин Н.М. О древней и новой России: Избранная проза и публицистика. – М.: Жизнь и мысль, 2002. – C. 348–435.
30. Кареев Н.И. Падение Польши в исторической литературе. – СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1888. – Х, 407 с.
31. Ключевский В.О. Сочинения: В 9 т. – М.: Мысль, 1989–1990.
32. Кондзеля Л. Россия и второй раздел Польши: Состояние изучения вопроса и исследовательские задачи // Польша и Европа в XVIII веке: Международные и внутренние факторы разделов Речи Посполитой / РАН. Ин-т славяноведения. – М., 1999. – С. 159–168.
33. Костомаров Н.И. Последние годы Речи Посполитой. – СПб.: Типография Ф.С. Сущинского, 1870. – 874 с.
34. Коялович М.О. История воссоединения западнорусских униатов старых времен. – СПб.: Типография Второго отделения СЕИВК, 1873. – 574 с.
35. Кудринский Ф.А. Разделы Польши // Императрица Екатерина II: Сб. ист. ст. – Вильна: Тип. А.Г. Сыркина, 1904. – С. 282–295.
36. Лаппо-Данилевский К.Ю. «Стихотворение Анакреона Тийского» (1794) как художественное целое // XVIII век: Сборник 28. – М.; СПб.: Альянс-Архео, 2015. – С. 177–235.
37. Липранди А.П. «“Отторженная возвратихˮ: Падение Польши и воссоединение Западно-Русского края»: соч. А.П. Липранди (А. Волынец). – СПб.: Калашниковск. тип. А.Л. Трунова, 1893. – 80 с.
38. Лопатин В.С. Примечания // Екатерина II и Г.А. Потемкин: Личная переписка. 1769–1791. – М.: Наука, 1997. – С. 893.
39. Некрасов Г.А. Роль России в европейской международной политике: 1725–1739 гг. – М.: Наука, 1976. – 318 с.
40. Нечволодов А.Д. Сказания о русской земле: Т. 1–4. – СПб.: Гос. типография, 1913. – Т. 3. – 352 с.
41. Носов Б.В. Русская политика в диссидентском вопросе в Польше 1762–1766 // Польша и Европа в XVIII веке: Международные и внутренние факторы разделов Речи Посполитой. – М.: Ин-т славяноведения РАН, 1999. – С. 20–101.
42. Остерман А.И. Генеральное состояние дел и интересов всероссийских со всеми соседними и другими иностранными государствами в 1726 году // Северный архив. – СПб., 1828. – № 1/2. – С. 3–61.
43. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. – Л.: Наука, 1979. – 448 с.
44. Погосян Е.А. Петр I – архитектор российской истории. – СПб.: Искусство-СПб., 2001. – 424 с.
45. Полное собрание русских летописей. – СПб.: Типография И.Н. Скороходова, 1904. – Том. 13: 1-я половина: Летописный сборник, именуемый Патриаршею, или Никоновскою, летописью / Под ред. С.Ф. Платонова при участии С.А. Адрианова. – 302 с.
46. Пыпин А.Н. Исторические труды императрицы Екатерины II // Вестник Европы. – СПб., 1901. – Т. 36, № 9. – Режим доступа: http://az.lib.ru/p/pypin_a_n/text_1901_ist_trudy_ekateriny_oldorfo.shtml
47. Ратников К.В. Исторические формы отражения правительственной политики в общественном сознании по материалам русских стихотворных откликов на польское восстание 1794 года // Альманах современной науки и образования. – Тамбов, 2008. – № 6. – С. 155–160.
48. Российская империя от истоков до начала XIX века: Очерки социально-политической и экономической истории / ИРИ РАН. – М.: Русская панорама, 2011. – 880 с.
49. Российское государство от истоков до XIX века: Территория и власть / А.И. Аксенов, Н.И. Никитин, Ю.А. Петров, Н.М. Рогожин, В.В. Трепавлов; отв. ред. Ю.А. Петров; рук. автор. колл. Н.М. Рогожин. – М.: РОССПЭН, 2012. − 462 с.
50. Сборник Императорского Русского исторического общества (СИРИО). – СПб., 1886. – Т. 51. – XXVII, 534 с.
51. Северная война. 1700–1721 гг.: Сб. документов.– М.: Кучково поле, 2009. – Т. 1: 1700–1709. – 530 с.
52. Словарь книжников и книжности Древней Руси. – Л., 1988. – Вып. 1 (вторая половина XIV–XVI в.), Ч. 1: А-К / АН СССР. ИМЛИ; Отв. ред. Д.С. Лихачев. – 518 с.
53. Слово о житии великого князя Дмитрия Ивановича // Памятники литературы Древней Руси: XIV – середина XV века. – М.: Художественная литература, 1981. – С. 208–239.
54. Смилянская Е.Б. Греческие острова Екатерины II: Опыты имперской политики России в Средиземноморье. – М.: Индрик, 2015. – 423 с.
55. Смилянская И.М., Велижев М.Б., Смилянская Е.Б. Россия в Средиземноморье: Архипелагская экспедиция Екатерины Великой. – М.: Индрик, 2011. – 840 с.
56. Сморжевских-Смирнова М.А. Ингерманландия, Эстляндия и Лифляндия в церковном панегирике Петровской эпохи: Humanitaarteaduste dissertatsioonid 34. – Tallinn: Tallinn univ. press, 2013. – Mode of access: http://www.smorzhevskihh.com/Public/Thesis/Thesis_main. html
57. Сморжевских-Смирнова М.А. Концепция войны у Феофана Прокоповича и официальная идеология Петровской эпохи // Лотмановский сборник: Международный конгресс «Семиотика культуры: Культурные механизмы, границы самоидентификации». – Тарту; Таллин, 2004. – С. 899–911.
58. Соловьев С.М. История падения Польши // Соловьев С.М. Сочинения: В 18 т. – М.: Мысль, 1988–2000. – Т. 16. – С. 406–628.
59. Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II: 1772, 1793–1795. – М.: Международные отношения, 2002. – 696 с.
60. Стенник Ю.В. Идея «древней» и «новой» России в литературе и общественно-исторической мысли XVIII – начала XIX века. – СПб.: Наука, 2004. – 277 с.
61. Сумароков А.П. Оды торжественныя. Елегии любовныя: Репринтное воспроизведение сборников 1774 года. – М.: ОГИ, 2009. – 840 с.
62. Тарле Е.В. Екатерина II и ее дипломатия. – М.: ОГИЗ, 1945. – Ч. 1. – 43 с.
63. Тешке Б. Миф о 1648 годе: Класс, геополитика и создание современных международных отношений / Пер. с англ. – М.: ГУ-ВШЭ, 2011. – 416 с.
64. Феофан Прокопович. Избранные труды. – М.: РОССПЭН, 2010. – 623 с.
65. Феофан Прокопович. История императора Петра Великаго от рождения его до Полтавской баталии и взятия в плен остальных шведских войск при Переволочне включительно // Феофан Прокопович. Избранные труды. – М.: РОССПЭН, 2010. – С. 435–557.
66. Филюшкин А.И. Изобретая первую войну России и Европы: Балтийские войны второй половины XVI в. глазами современников и потомков. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2013. – 881 с.
67. Филюшкин А.И. Проблема генезиса Российской империи // Новая имперская история постсоветского пространства: Сб. ст. – Казань: Центр исследований национализма и империи, 2004. – С. 375–408.
68. Филюшкин А.И. Проект «Русская Ливония» // Quaestio Rossica. – Екатеринбург, 2014. – № 2. – С. 94–111.
69. Хорошкевич А.Л. Русское государство в системе международных отношений конца XV – начала XVI в. – М.: Наука, 1980. – 293 с.
70. Хорошкевич А.Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века / РАН. Ин-т славяноведения. – М.: Древлехранилище, 2003. – 620 с.
71. Чудинов А.В. Pax Europea: Союзы и войны между европейскими державами, их результаты на карте мира // Всемирная истории: В 6 т.– М.: Наука, 2013. – Т. 4: Мир в XVIII веке. – С. 514–543.
72. Шарф К. Екатерина II, Германия и немцы / Пер. с нем. – М.: НЛО, 2015. – 536 с.
73. Шафиров П.П. Рассуждение. Какие законные причины его царское величество Петр Первый, царь и повелитель Всероссийский… к начатию войны против короля Карла XII, Шведского, в 1700 году имел… – М., 1717. – 128 с.
74. Шляпкин И.А. Василий Петрович Петров, «карманный» стихотворец Екатерины II, (1736–1799). (По новым данным) // Исторический вестник. – СПб., 1885. – Т. 23, № 11. – С. 381–405.
Первая революция как локомотив русской истории (Тезисы)
И.И. Глебова
1. «Забытая» революция. В 2015 г. минуло 110 лет Первой русской революции. Никто – ни общество, ни власть – этого не заметили. Да и профессиональное сообщество отреагировало на это событие очень вяло. В отношении Первой мировой войны, 100-летие которой мир отметил в 2014 г., в России бытовало определение «забытая война». Теперь то же самое мы можем сказать и о Первой революции.
Такая странная забывчивость объясняется не только тем, что в современной России нет «спроса» на революцию. Хотя это важная характеристика нашей страны в XXI в. Проведя почти столетие под «сенью» революции (в СССР каждый знал, что земля начинается с Кремля, а история – с 25 октября 1917 г.), мы больше не ощущаем себя «нацией революционеров». Революция изгнана из властной легитимности и общественной идентичности. В канун столетия «потрясшей» ее и мир революции Россия, кажется, окончательно убедила себя в несовместимости с социальным творчеством такого рода. В этом отношении она, безусловно, порвала с советским прошлым.
В то же время мировоззрение и способы социального действия «постсоветского человека» остаются в значительной степени старыми – советскими. Особенно показательны в этом смысле представления о прошлом, отношение к нему.
Мы все (власть, общество, историческая наука) находимся в плену советского взгляда на первую русскую революцию. Разговор о ней если и ведется, то большей частью «старыми» словами: пореформенная Россия находилась в системном кризисе, результатом которого и стал 1905 г.; революция имела характер буржуазно-демократический (по «движущим силам» и результатам); самодержавию, сочетая карательную политику с ограниченными реформами, удалось выправить ситуацию в свою пользу – восстановиться практически в прежнем (дореволюционном) виде; революцию убили репрессией, не дав выполнить её историческую миссию; вызванные революцией реформы не вывели Россию из кризиса – и война прикончила больной организм империи.
С точки зрения советской и постсоветской историографии (а эта точка зрения зафиксирована в учебниках, массмедийной «продукции») первая русская революция окончилась неудачей (см., к примеру: 10, с. 3–20, 582–584). Ее историческое значение заключается в том, что это предвестник и «генеральная репетиция» Октября 1917-го. То есть самостоятельного значения она, вроде бы, и не имела.
Несмотря на свои длительность и масштабность, Первая революция в такой интерпретации выглядит как проходное событие в бурной истории России начала ХХ в. Причем событие какое-то невнятное, непроясненное («смутное»): и характер революции расплывчатый, и участие различных социальных сил не поддается однозначному определению (непонятно главное: кто же шел в «авангарде»), и победа самодержавия неполная и неокончательная. Во всех отношениях 1905-й проигрывает в сравнении с 1917 г. Не потому ли сегодня мы забыли о первой нашей революции, списали ее на свалку истории?
Парадоксальным образом, именно теперь, когда этот эпизод почти стерся из национальной памяти, становится понятно, как исторически важна и политически актуальна для России ее «забытая» революция.
2. 1905 г. как революция нового типа. Революция 1905 г.203203
Я буду придерживаться этой «формулы», хотя революция, по существу, завершилась весной 1906 г. изданием новой редакции Основных государственных законов империи и созывом Государственной Думы. Период до лета 1907 г. кажется мне переходным – от революции к послереволюционному времени.
[Закрыть] открыла революционный цикл в истории России. Точнее говоря, цикл политических революций. И у нее в этом процессе – свое место: это революция нового типа, новой эпохи.
До того все революции в России были «революциями сверху» (их совершала власть) или «дворцовыми переворотами» (верхушечными заговорами элит против персонификатора власти). Русская политика делалась во «дворце». Периодические «дворцовые революции» меняли социальный порядок. «Снизу» время от времени поднимались повстанческо-погромные волны (те или иные варианты «пугачевщины»). «Сцепки» между «верхушечными» революциями и массовыми низовыми движениями не было.
В 1905 г. случилась первая действительно народная революция в нашей истории. Она охватила все классы и слои населения: «дворец», город, крестьянскую Россию, армию, всю многонациональную и многоконфессиональную страну. 1905 год знаменовал выход России в новое: массовое, индустриальное, более свободное, открытое и т.п. – общество204204
Здесь следует сделать небольшое отступление. Революционные взрывы начала ХХ в. происходили на фоне целого ряда крупных преобразовательных процессов (в их контексте). Вслед за другими европейскими странами Россия входила в новый мир – массовой индустрии, больших скоростей, свободы (ее становилось все больше – во всех областях), новых форм экономики, культуры, массовой политики, где на фоне разного рода «массовостей» росли значение индивидуализма, ценность индивидуального творчества. Содержанием и целью преобразований, проводившихся в стране с 60-х годов XIX в., была эмансипация общества и индивида (см. об этом: 11, с. 24–27). Они строились не на изоляции и отличиях, а на культурной обусловленности, традиционности и естественности европейского выбора. Это характерно для всех сфер жизни, но особое значение приобрела тогда экономическая «европеизация». «Один переход натурального хозяйства в денежное приближает Россию к Европе более, чем образованность отдельных умов» (13, с. 518), – писал в конце XIX в. князь С.Н. Трубецкой. В то же время преобразование общества традиционного в индустриальное предполагало революцию в социальной психологии, массовой ментальности и культуре, что было связано с фундаментальным кризисом ценностей и идентичностей, традиционной морали (подобные процессы на этом историческом переходе переживали и другие страны). Итак, на рубеже XIX–XX вв. Россия представляла собой стремительно обновлявшееся общество, что само по себе создавало высокие (и даже чрезмерно высокие) социальные риски. Специфика же национального общественного устройства была такова, что, во-первых, логика обновления входила в противоречие с доминирующими традициями и опытом (закрепощения/несвободы), во-вторых, обновленческая «нагрузка» в социальном отношении распределялась по-разному. В новый мир Россия входила через свою элиту (просвещенный класс). Будучи в равной степени европейской и национальной, она и явилась субъектом социальных преобразований. Зато для многомиллионного традиционалистско-патриархального большинства населения страны, сосредоточенного прежде всего в деревне, модернизация была тяжелейшим вызовом/испытанием.
[Закрыть]. Обществу этого типа не соответствовала «дворцовая» революция.
Показательно: в советское время страна вернулась к «дворцовым переворотам». Фактор масс был исключен из политики. Революция вновь стала уделом «дворца». Это дает основание утверждать: массовое общество, сформировавшееся в рамках СССР, не так уж и ново. В его фундаменте было воспроизведено205205
Поначалу я написала «законсервировано». Это так. Но точнее – «воспроизведено». Людей вновь вернули к «крепостничеству», а ведь многие уже собрались уходить из этого состояния.
[Закрыть] многое из того глубоко традиционного (и реакционного), от чего страна избавлялась в 1905 г. и что уже пережила к 1905 г.
3. Русское общество и революционная идея. Питательной средой для революционной идеи была Россия образованная: интеллигентная, дворянская и разночинная, служащая и буржуазная (деловая), интеллектуальная и художественная, социально активная. Эта Россия полагала революцию способом оживить, осовременить государственно-политическую жизнь, с ней связывала свои перспективы. На рубеже XIX–XX вв. «субкультура» европеизированных «верхов»206206
О расколе послепетровской России на две «враждебные» субкультуры, европеизированную и «почвенную», как об одной из «больших», исторических причин революций начала ХХ в. см.: 11, с. 29–30, 34–35, 39–40.
[Закрыть] во многом жила предощущением революции (здесь неважно, испытывали ее представители надежду или страх от того, что она когда-нибудь случится).
Некоторая надломленность русского общества на революционной идее исторически объяснима. Европу революции сотрясали весь XIX в. Россия же казалась от них застрахованной. В стране ничего не происходило – она выглядела207207
Именно «выглядела». На самом деле это был вулкан, готовый «выстрелить».
[Закрыть] спокойно-застывшей. Особенно тяжело это воспринималось обществом после эпохи Великих реформ.
В «подмороженной» России Николая I революцию было трудно предполагать. В России Александра II революцию «упредили» реформы208208
В нашей памяти они непосредственно связаны с Первой революцией – причем «по негативу», в полном соответствии с ленинской формулой: «1861 год породил 1905» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. – Т. 20. – С. 177). Не стану ее опровергать, хотя она абсолютно лжива. Напомню только, что о Великих реформах много лет спустя говорила Анна Ахматова, глядя на одного знакомого: «Типичный русский молодой инженер. Вот такие вдруг появились в стране после александровских реформ: врачи, судьи, инженеры, земские деятели. За несколько лет они преобразили лицо России, в середине шестидесятых они были уже повсюду» (8, с. 165). Это и есть плоды российского либерального реформаторства – «люди устройства», субъект социальных успехов. Именно они больше всего пострадали в ходе революций 1917 г., в большевистской России.
[Закрыть]. При Александре III тема революции «забылась», потеряла актуальность. Россия тогда модернизировалась экономически – на политику был наложен мораторий. Этот «зажим» со стороны власти, испугавшейся перемен, радикализировал общество. В 1900-е тема революции вернулась, захватив многие умы. С ней связывался новый век: она, как призрак, бродила по России.
Вот что много лет спустя сказал один наш поэт (видимо, со слов другого) о том времени: на рубеже столетий «воздух был полон пророчеств и ожиданий новой большой перемены, грядущего нового порядка вещей, перестройки мира… Этот период отличался, мягко говоря, легкой истеричностью. Поэтому совсем неудивительно, что, когда пришла революция, многие приняли ее за то самое, что они всю жизнь искали» (1, с. 63). Россия образованная (не царская, не бюрократическая) не просто ждала революции, но и перезрела в этом ожидании. Оттого и восприняла революцию как праздник (ее символом можно считать шампанское, которое во множестве открывали по всей стране в банкетную кампанию осенью 1904 г.). Казалось, через революцию в русскую жизнь врывались новые смыслы (точнее, жизнь наполнялась смыслом). Отчасти так и было.
4. Русское общество как революционный авангард. Первая революция придала ускорение процессам самоопределения, самоорганизации различных социальных сил, усилила социальную дифференциацию в России. Но все же ее двигателем было общество – говоря точнее, антисамодержавная (большей частью либеральная) общественность. Решающим в 1905 г. был конфликт между властью (самодержавием/бюрократией/системой) и обществом (в том старом, начала ХХ в., смысле: гражданском, политическом). С некоторой долей условности можно сказать: революция произошла потому, что значительная часть общества почувствовала себя к ней готовой.
Для русского общества 1905 г. – значимая веха в истории. Тогда, по существу, оно и вышло на историческую сцену, «самоучредилось» и легализовалось в политическом смысле. Притом показало себя неожиданно зрелым в гражданском отношении: сразу появилось множество организаций в защиту массовых, групповых, сословных и прочих прав и т.п. Общество создало в России политику: выделило людей, занявшихся ею профессионально, организовалось в партии. Оно было адекватно новым условиям: расширения пространства свободы, ограничения власти, многообразия возможностей.
Только в начале ХХ в. и только в революции русское общество набрало необходимую (для того, чтобы его заметили, признали «договороспособным») мощь. Оно обрело субъектность именно как революционное и антивластное; объединилось и самоорганизовалось вокруг идеи «Долой самодержавие!» Вспоминая о том времени, его деятели говорили: «В этом лозунге, несмотря на его митинговую грубость, ничего революционного не было»; речь шла о том, чтобы «лишить власть самодержца ее надзаконности и разделить ее с представительством» (7, с. 233–234). Однако общественное отрицание самодержавия и было революцией209209
Мерой субъектности элит (разных «отрядов» общества) и была их «антисамодержавность»/революционность. То же служило главным основанием консолидации; при этом их претензии к власти могли быть совершенно разными (либералы хотели, чтобы власти было «меньше»; консервативно-традиционалистские круги желали ощутить самодержавие во всей его полноте). Шансы же на политическое лидерство имели «общественники», которые были бóльшими оппонентами власти – иначе говоря, в бóльшей степени АнтиВластью. Не случайно в революции политически торжествовали левые либералы и социалисты. Все решалось не в политической борьбе (борьбой партий, политических «проектов»), а в противостоянии с самодержавием/самодержцем. Поэтому перед революцией и сложился «единый антисамодержавный фронт», по существу, спаянный одной политической целью: долой самодержавие!
[Закрыть]. Слом самодержавной модели власти означал изменение традиционного устройства русской социальности, которое современные исследователи определяют как «властецентричное». Иначе говоря, в 1905 г., едва выйдя из «тени» власти, общество замахнулось на «извечный» порядок.
Когда смотришь на Россию начала ХХ в. из 2015–2016 гг., возникает вопрос: почему тогдашнее общество было так непримиримо по отношению к власти210210
Показательно отношение к власти близкого друга четы Мережковских–Гиппиус Д.В. Философова. Оно было стихийно-отрицательным – как, вероятно, и у большинства интеллигентной публики: «Он отрицал самодержавие огулом, как режим, подавляющий общественную и политическую жизнь страны, и как виновника и войны, и таких событий и расправ, как 9 января» (4, с. 246). Мережковский понимал самодержавие сложнее – сквозь религиозно-мистическую, этическую и эстетическую даже призму. Весной 1903 г. Д.С. Мережковский был на приеме у К.П. Победоносцева, тогда еще обер-прокурора Святейшего синода, и тот, по воспоминаниям З.Н. Гиппиус, сказал: «Да знаете ли Вы, что такое Россия? Ледяная пустыня, а по ней ходит лихой человек». Кажется, Д.С. возразил ему тогда довольно смело, что не он ли, не они ли сами устраивают эту ледяную пустыню в России…» (там же, с. 230–231). Это осуждение самодержавия с моральных позиций, предъявление ему «высших счетов». Но кто же судьи, эти безоглядные критики русской власти? В записках Гиппиус о Мережковском есть такой эпизод. Как-то на прогулке, под напором аргументов жены и друга, Мережковский вдруг сказал: «Да, самодержавие – от антихриста» (там же, с. 247). И Гиппиус «тотчас, вернувшись, записала это на крышке шоколадной коробки». Вроде бы, не история даже, а так, частность. Однако она точно характеризует русское общество; в своем антисамодержавии оно было странно легкомысленным и безответственным, нарочито-вызывающе «не любило» власть, не участвовало в политике, но как бы играло в нее.
[Закрыть]? Ответ может быть только один: России милюковых–маклаковых–мережковских–рябушинских (а отчасти и витте–коковцовых–алексеевых) и проч. не нужно было самодержавие (и Николай II как самодержец «всея Великия и Малые, и Белыя…»). Они «выросли» из этой модели власти, вполне могли обходиться без властной опеки/надзора. Самодержавно-монархический тип властвования (и властитель этого типа) раздражали и оскорбляли общество. Оно хотело своей власти – им избранной, ему «по росту»211211
Чувствуя себя вполне современными, полагая, что именно с ними связано будущее России, «общественные элиты» отрицали самодержавие как препятствие на пути (их) истории, которое необходимо сломать. Синонимом политического обновления страны, главным условием ее перехода в современность для них была антисамодержавная революция (в данном случае неважно, какие ее формы считались приемлемыми). Иначе говоря, в полном соответствии с воззрениями своего времени общество радикально противополагало «плохую» традицию «хорошей» современности, а «общественники» (его политический авангард) делали из этого практические выводы.
[Закрыть].
Однако выступив застрельщиками революционно-освободительного движения, «общественники» не стали «могильщиками» монархии. Потому чувствовали себя проигравшими тот исторический бой. Из чувства поражения родился Февраль 1917 г.
5. Революция как кризис власти. Традиционно одной из причин революции считается «кризис верхов». Конечно, 1905 г. – это «кризис самодержавия», причем именно в ленинской интерпретации: «верхи» уже не могли «управлять по-старому». В 1861 г. Россия перестала быть крепостной. К 1905 г. стало понятно, что она уже не может быть самодержавно-бюрократической. Но кризис власти не привел тогда к разрушению системы. Революцию добила не репрессия, а реформа212212
П.А. Столыпин в январе-феврале 1907 г. так характеризовал ее значение: «Реформы во время революции необходимы, так как революцию породили в большой мере недостатки внутреннего уклада. Если заняться исключительно борьбою с революциею, то в лучшем случае устраним последствие, а не причину: залечим язву, но пораженная кровь породит новые изъязвления. К тому же этот путь реформ торжественно возвещен, создана Государственная Дума, и идти назад нельзя. Это было бы и роковою ошибкою – там, где правительство побеждало революцию (Пруссия, Австрия), оно успевало не исключительно физическою силою, а тем, что, опираясь на силу, само становилось во главе реформ. Обращать все творчество правительства на полицейские мероприятия – признак бессилия правящей власти» (цит. по: 6, с. 19–20). Это и есть позиция государственного деятеля. Но вот что интересно. Не на излете, а еще в разгар революции, о том же говорил человек, которого называли диктатором 1905 г. и запомнили по одной фразе: «патронов не жалеть». Генерал Д.Ф. Трепов, профессиональный военный и высокий полицейский «чин», в 1905 г. – доверенное лицо Николая II, вскоре после вступления в должность петербургского генерал-губернатора 10 января 1905 г. заявлял: «систематическая строгость», необходимая для восстановления спокойствия в городе, должна совмещаться с «либеральными мероприятиями, направленными к установлению конституционного порядка» (цит. по: 10, с. 193). Первая революция привела к тому, что либерализм в соединении с охранительством стали политикой власти.
[Закрыть].
Самодержавие пошло на преобразования/уступки под напором проблем, под сильнейшим давлением «снизу»213213
Свое ощущение от этого давления выразил Николай II. По свидетельству управляющего делами Комитета министров Э.Ю. Нольде, император в 1905 г. говорил, что «разрывается… между желанием не давать никаких отступлений от самодержавного образа своего правления… и боязнью потерять все» (цит. по: 3, с. 88). Видимо, таково вообще главное политическое настроение власти, застигнутой революцией и «понуждаемой» ею к либерализации, к реформе.
[Закрыть]. Русская власть слишком долго понимала исключительно язык насилия. Причины – и в ее исторической силе, и в исторической слабости общества. Мирное давление (оппозиция, общественные движения) не приобрело в России того качества, той силы, которые были бы чувствительны для правительственных «верхов».
Задолго до Первой революции власть встала на путь самоограничения – чтобы не договариваться с обществом. Таким образом удавалось предотвращать революцию. Однако опыт «позднего» («зрелого») самодержавия (от Николая I до Николая II) показал: власть успешна, когда производит либеральные реформы; если же она этого не делает, либерализм «присваивают» радикалы. Тогда грани между эволюцией и революцией, оппозицией и «крамолой» все больше стираются. В октябре 1905 г. монархия пошла на новое (в тех условиях решающее) самоограничение; благодаря этому выжила, сохранилась. Это, однако, не «снимало» главной для нее проблемы: как устроиться в новом, современном мире, нормой которого являлся конституционный, а не самодержавный порядок.
6. Народ в революции. Первая революция была ответом (массовой реакцией) на все нестроения русской жизни, указывала на ее важные дефициты: социально-экономические, политические, культурно-ментальные и проч. У нее было множество причин – и сложная природа; как и все революции, это «многосоставное» явление.
Впервые в русской истории важную роль в событиях сыграли массовые городские протестные движения. Не дворец и не деревня, а город стал в России источником революции. Это свидетельствовало о том, что страна стремительно урбанизировалась, становилась городской цивилизацией.
Массовое общество рождалось в больших городах – прежде всего в столицах. И революция началась со столичного «восстания масс»214214
Представляется, что разгадка трагедии 9 января 1905 г. – в том, что власти не знали, как вести себя (в охранительном, полицейском смысле) с массовым протестным движением в городе, а массы не имели опыта цивилизованного протеста. Это все явления и навыки массового общества ХХ в. В России оно еще только складывалось.
[Закрыть], а завершило ее декабрьское восстание в Москве. Такая «перекличка» в революционной истории двух столиц, конечно, не случайна. Более того, она символична. В политическом отношении Россия была «столичным проектом» (в значительной степени остается такой и сейчас). Революция шла особым путем: из столиц – в провинцию, из города – в деревню.
Что же касается России сельской, то 1905 г. по своим политическим последствиям приблизительно равен «пугачевщине»215215
Вот как увидел это Пастернак: «В небеса / Как сивушный отстой, / Ударяет нужда / Перегарами спертого буйства… / И уж вот / У господ / Расшибают пожарные снасти, / И громадами зарев / Командует море бород» (поэма «1905 год»).
[Закрыть]. Как и тогда, в конце XVIII в., «верхи» испугались – и одумались. Результатом стала аграрная реформа, предложившая крестьянам выбор: как им жить и хозяйствовать – традиционным способом (в общине) или по-новому, вне ее. Вследствие массовой распродажи помещичьих земель «общинная революция», центральной идеей которой был «черный передел», к 1917 г. утратила практический (социально-экономический) смысл216216
Ее основания следует искать не столько в экономике, сколько в крестьянской культуре, ментальности. Двигатель «общинной революции» 1917–1918 гг. – стихийный, во многом бессознательный протест против частной собственности на землю (т.е. против базового признака, базовой сложности современного общества), проявление «власти земли» над крестьянином. Вот что говорили об этом сами сельские жители: «Не прирежут нам землицы, / Возьмем вилы в рукавицы. / Отойдет земля крестьянам, / Каждый день я буду пьяный» (частушка начала 1906 г. – цит. по: 5, с. 28).
[Закрыть].
Конечно, в русском бунте, каким бы он ни был (казацко-крестьянской пугачевщиной, городским уличным протестом, солдатским и матросским восстанием), была своя правда. Та, о которой говорила великая русская литература: правда униженных и оскорбленных. А.В. Головнин, министр народного просвещения в царствование Александра II, пророчил в 60-е годы XIX в.: «За последние сорок лет правительство много брало у народа и дало ему очень мало. Это несправедливо. А так как каждая несправедливость всегда наказывается, то я уверен, что наказание это не заставит себя ждать. Оно настанет, когда крестьянские дети, которые теперь грудные младенцы, вырастут и поймут все то, о чем я только что говорил. Это может случиться в царствование внука настоящего государя» (цит. по: 14, с. 155–156). И случилось – при внуке.
В народных движениях 1905–1907 гг. был моральный вызов – угнетателям, несправедливостям, режиму. И это лучшее, что в них было и что их оправдывает. Однако высокие цели («отмстить» – наказать «угнетателей», восстановить попранную ими справедливость, возвести равенство в основание социального порядка) «съедала» погромная практика. «Чем вложился народ в этот кризис? – писал “по итогамˮ революции П.Б. Струве. – Тем же, чем они влагались в революционное движение XVII и XVIII веков, своими социальными страданиями и стихийно выраставшими из них социальными требованиями, своими инстинктами, аппетитами и ненавистями» (12, с. 147–148). Все это могло потрясти государство, разрушить слагавшиеся столетиями устои общественной жизни, но «пугачевщина» и в начале ХХ в. несла в себе мало созидательного (как и сознательного, цивилизованного).
7. Война – армия – революция. Никогда, кроме как в 1905 и 1917 гг., армия в России не была инструментом революции. Всегда – инструментом власти. Что естественно: армия, по существу, – воплощение и символ окончательного торжества системы. Любой, но русской – в особенности217217
Уверенность правящих «верхов» в армии выразил В.К. Плеве в беседе с С.Ю. Витте в октябре 1902 г.: «У нас до сих пор, слава Богу, еще крепок в народе престиж царской власти, и есть еще у государя верная армия» (10, с. 136).
[Закрыть]. В армии, как писал Иосиф Бродский, завершается процесс капитуляции человека перед государством.
В 1905 г. армия впервые перешагнула те пределы, которые установили «дворец», система. Она не присоединилась к городским протестным движениям, но показала, что при случае может решить исход революции. Это одно из главных предупреждений, которое власть получила в 1905 г.: армия (не гвардия, а именно масса с ружьем) способна стать фактором политики.
Кроме того, 1905 г. «указал» на опасную связь между неудачной войной и революцией218218
Весной 1905 г. патриархи российской бюрократии обратились к Николаю II с записками, в которых настаивали на необходимости реформ, а внутренние неурядицы объясняли неудачными войнами. «За нашу долговременную жизнь мы в третий раз переживаем время общественного брожения, – говорилось в одной из записок, – каждый раз сопровождающие неуспех или нашего оружия или нашей дипломатии» (цит. по: 2, с. 31). Речь шла о Крымской, русско-турецкой и русско-японской войнах.
[Закрыть]. В 1913–1914 гг. Николаю II неоднократно напоминали об этой угрозе (или: об этом уроке 1905 г.), но она не казалась тогда непреодолимой. В 1917-м связь реализовалась: массовая армия (как признак массового общества) – тотальная война – революция как «восстание вооруженных масс».
Конечно, любая война связана с ухудшением экономического положения населения, обострением социальных проблем. Это мобилизация, смерти и проч., т.е. совершенно особое психологическое состояние общества. Но все-таки главное, что обеспечивало сцепку «война – революция», – это милитарность русской социальности. Власть у нас имеет милитарный характер и воспринимается сквозь призму «милитарной успешности».
В России властная эффективность меряется военной, а не социальной меркой: ее легитимность в гораздо большей степени обеспечивается военными победами, чем достижениями в обустройстве страны. Неудачная война становится источником массовой неуверенности в себе (что мы тогда можем?), которая проецируется на власть. Ей вменяется ответственность за общую несостоятельность, выявленную неудачной войной. Поэтому неизбежное следствие военного поражения – десакрализация власти и кризис легитимности.
8. Революция как миф и преодоление мифа. 1905 г. стал моментом торжества революционной мифологии – и в то же время ее разоблачения. Революцию в России сначала «придумали», впав в зависимость от этого мифа. Мифология революции шла впереди самой революции. Ее знаменосцами являлись, кстати говоря, террористы. Террор в России десятилетиями был символом и двигателем освободительного движения. Русское общество «увлекалось» террористом (как человеческим и политическим типом), сочувствовало ему. И не случайно в 1905 г. террор захватил Россию, массовизировался, «ожесточился».
Но после 1905 г. в интеллигентских кругах началось переосмысление того нормативного отношения к революции, которое среди прочих выразил Максим Горький: буря! Пусть сильнее грянет буря! Самые социально чуткие представители нашего «умственного» класса поняли опасность романтизации революции. Появились «Вехи», указавшие на «политическое легкомыслие и неделовитость» интеллигенции, проявленные в 1905–1907 гг., на то, что «революционизация» ею «настрадавшихся народных масс», апелляция к «народному возбуждению» суть ее моральные (не политические, не тактические, а именно моральные) ошибки219219
На этом настаивал, к примеру, П.Б. Струве (см.: 12, с. 148). И отмечал, что «прививка политического радикализма интеллигентских идей к социальному радикализму народных инстинктов совершалась с ошеломляющей быстротой» (там же). И это – Струве, призывавший под влиянием январских, 1905 г., событий «подвергнуть научному обсуждению идею организации вооруженного восстания» как «способа борьбы с самодержавием» (цит. по: 10, с. 205). То есть мы в данном случае имеем дело не с моральным осуждением интеллигенции «посторонним», наблюдателем, а с самокритикой, саморазоблачением участника. Это антиреволюционный вывод из истории революции.
[Закрыть]. По существу, прекратился индивидуальный политический террор.
Весь период 1907–1913 гг. можно рассматривать как реакцию на революцию. Не в общепринятом смысле: «мрачное семилетие реакции», а как послереволюционную эпоху. Шло мирное обновление страны – под знаменем реформизма. Оно было непростым, конфликтным (сами реформы рождали новые сложности, в чем-то разрешали, а в чем-то и углубляли старые проблемы), до крайности противоречивым. Все больше и больше расширялись пространства свободы – в разных областях, для различных социальных слоев. Выражаясь метафорически, свобода в России массовизировалась, взяв в проработку нашу принципиально несвободную социальность. В то же время действовала тенденция к запретам, ограничениям (власть считала это восстановлением порядка, общество – возвращением к дореволюционной ситуации «всевластия самодержавия»). В целом эти тенденции как-то уравновешивали друг друга.
Многим лучшим русским людям (от Александра Блока и Андрея Белого до Максима Горького и др.) послереволюционное время виделось неудачным, тупиковым: серой жизни, «бледных» людей, торжества мещанства во всех отношениях, возвращения «диктата» государства220220
Это естественное ощущение времени «после революции», если понимать его так, как Гиппиус: «Русская революция, первой (да, пожалуй, и единственной) целью которой было свержение самодержавия, – не удалась» (4, с. 252). Поэтому одна из «властительниц дум» высшего интеллектуально-художественного света России и характеризовала «общее настроение» как «подавленное» («атмосфера угнетения», «атмосферное удушье»).
[Закрыть]. Декаденствующие элиты нагнетали «чувство катастрофы» и воспевали революцию (как «дионисийскую стихию», «мистический анархизм», духовное возрождение)221221
Е.Ю. Скобцева (мать Мария), принадлежавшая миру петербургско-петроградской богемы, художественным кругам и кружкам начала ХХ в., потом писала: «В этот период смешалось все. Апатия, уныние, упадничество и чаяние новых катастроф и сдвигов… Это был Рим эпохи упадка» (цит. по: 14, с. 269). Странным образом, последнее было и остается отрицательной характеристикой. Однако нет ничего лучше Рима эпохи упадка: это время не морального распада, но поиска новых путей, жизненных форм, невероятной сложности и свободы.
[Закрыть]. Уже потом стало понятно, насколько удачным было послереволюционное семилетие. Тогда, конечно, не решились все русские проблемы, но общий вектор времени – подъем, развитие.
9. О революции как об исторической удаче. Подводя итоги, можно сказать: 1905 г. – это лучшая из революций, которую Россия могла получить. Потому что завершилась компромиссом между властью и обществом; они не убили друг друга и не взорвали народ222222
К сожалению, эта мысль – не моя (к сожалению потому, что она принципиально меняет наше понимание той эпохи). См. об этом: 11, с. 25–28.
[Закрыть].
В 1905–1907 гг. монархия и общественность договорились между собой о приемлемой политической реформе, о способах совершенствования социального устройства (о том, как им обустроить Россию). Договорились, чтобы победить революционный террор (революцию как насилие/террор, социальную войну), обратить революционные уроки на благо страны. Договор был основан на компромиссе – взаимном самоограничении: власть, по существу, приобрела качество (превратилась в) конституционной монархии, общество согласилось занять то место, вписаться в ту систему, которая была создана в результате революции.
10. Об историческом значении русских революций. Историческое значение 1905 г., как мне представляется, состоит в следующем. 1905-й – конечно, «пролог», но Февраля, а не Октября 1917 г., его «генеральная репетиция». В 1917-м «общественники» завершили дело, начатое двенадцатью годами раньше. Как оказалось, они хорошо усвоили разрушительные, а не созидательные уроки революции. В конечном счете революционер взял в них верх над политиком.
В некотором смысле Первая революция стала «репетицией» еще и гражданской войны. Она была долгой, в нее оказалась вовлечена вся страна – и не только социально, но и территориально (центр, провинция, национальные «окраины»). Потому в ней обозначились контуры будущей Гражданской, модели поведения различных социальных сил. Скажем, первая революция показала, чем будет крестьянская «освободительная» война, как поведут себя «собранные» империей нации и т.д.
И, наконец, Первая революция «дала прогноз», какой окажется судьба образованных, европейски ориентированных слоев населения (в данном случае неважно, каковы были их происхождение, политические взгляды и проч.), если «общественникам» удастся «полностью и окончательно» победить власть. В 1905-м они не поверили в самоубийственный исход, не поняли всей серьезности своего положения и всей меры ответственности за страну. Власть и общество не осознали, что они едины – как хоть и статусное, но меньшинство223223
Властно-бюрократическая и общественная Россия, так упорно противостоявшие друг другу в начале ХХ в., принадлежали при всем своем разнообразии, различиях к одной культуре, одной традиции. Их объединяли сходные опыт, воспитание, образование, стиль и образ жизни; дружеские и семейные связи. Они являлись частью «единой Европы» (элитарной «Европы избранных» – предшественницы нынешней массовой «Европы всех»), где процветала культура, которой для взаимопонимания еще не требовался «культурный обмен». Культура «верхов» («русских европейцев») была вызовом для глубоко традиционалистской массы населения, что угрожало ее существованию. Только постоянная «экспансия» (расширение – в том числе и количественное) в режиме социального мира могло гарантировать ей будущее. Установка на борьбу, явившаяся следствием особенностей русской истории, мешала как позитивной консолидации («за» будущее, общие перспективы, а не «против самодержавия») и эффективному развитию общественных сил, так и властной «модернизации» (не сдаче обществу, а внутреннему обновлению).
[Закрыть]. И поплатились за это, вскоре став «лишенцами» в стране, которой они столетиями управляли и во всех смыслах направляли в истории.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































