Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 6"
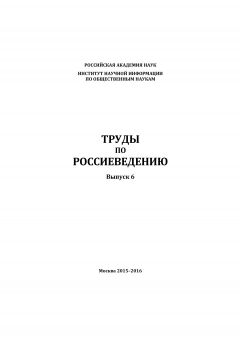
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 33 (всего у книги 37 страниц)
Выявляя исторические корни большевистского режима, Ю. Пивоваров отказывает ему в праве называться временем реформ российского общества. Ибо реформой «следует считать такие действия, которые заключаются в решении вопросов, стоящих перед обществом, на путях расширения свободы прежде всего индивидуальной, – и, соответственно, личной ответственности» (с. 120). В звании реформатора он отказывает и Петру I: «Все те громадные новации, которые внес в русскую жизнь этот человек, имели своим главным результатом дальнейшее закабаление населения России». Да, заслуги Петра в развитии просвещения на Руси несомненны, но они никак не отменяют главного результата его действий. «Более того, трагическое несоответствие просвещения и крепостничества и стало основным взрывным элементом русской революции и гражданской войны».
Насилие как адекватный способ социальных преобразований отвергал еще Герцен313313
В письме «К старому товарищу» Герцен решительно отвергал «петрограндизм»: «…шагать семимильными шагами… из первого месяца беременности в девятый и ломать без разбора все, что попадется по дороге». «Акушер должен ускорять, облегчать, устранять препятствия, но в известных пределах – их трудно установить и страшно переступать». (Герцен А.И. Сочинения: в 9 т. – М.: Гослитиздат, 1958. – Т. 8. – С. 400, 402.)
[Закрыть]. «Петрограндизмом», часто не ведая о зле, которое он несет, больны многие наши преобразователи – и болезнь передается по наследству. Досадно, что реформаторское движение Е. Гайдара, приспосабливаясь, видимо, к исторической традиции, избрало своим символом Медного всадника. Художественно памятник прекрасен, но символизирует он Россию, поднятую на дыбы…
Еще важнее оспорить созидательную роль большевизма, сталинизма, официальная трактовка которых ныне все более сводится к пустой формуле – «с одной стороны… с другой стороны»… «Реформа, – утверждает Ю. Пивоваров, – это политика осознанного принятия социальной конфликтности как фундамента нормального, здорового развития общества. Реформа – это отказ от единственной и тотальной идеологии; отказ от принципа «кто не с нами, тот против нас»; отказ от понимания другого/иного как врага… Смысл этого термина заключается в том, что настоящий реформатор всегда принимает во внимание позиции в обществе различных социально ответственных сил, включая и противостоящие ему…» (с. 121).
Большевистский режим произрастает из войны, извлекает из нее насилие и чрезвычайщину сначала как способ решения внезапно возникавших неотложных вопросов, а затем – как ставший привычным универсальный способ управления. «Власть берет на себя роль Главного Планировщика, Сборщика и Распорядителя жизненно важных ресурсов» (с. 95, 96), а затем, добавим, практически всех имеющихся в стране ресурсов. В итоге уже к началу 1930‐х годов происходит «полная историческая аннигиляция приемлемой страны» (с. 65). В «Конституции победившего социализма» названы переформатированные классы, а в идеологии торжествует «классовый подход». На деле, приводит автор суждение американской исследовательницы Ш. Фицпатрик, базис классовой структуры Советской России – не производство, а потребление. Существенны отношения не между номинально обозначенными классами, а с государством: социальный статус в реальной жизни определяется доступом к жизненным благам, а он, в свою очередь, – набором привилегий, даруемых государством (с. 63–64)314314
См.: Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм: Социальная история Советской России в 30-е годы: Город. – М.: РОСПЭН, 2008. – С. 19–21, 52–83, 110–140.
[Закрыть]. Что же до «классового подхода», то он в каждый данный момент назначал критерии, следовать которым предписывалось в государственной политике, и идеологии со всеми их кульбитами.
На своем историческом пути коммунистический режим прошел ряд стадий. Одна из самых интересных попыток его периодизации принадлежит французскому исследователю А. Безансону. В его изложении история советского коммунизма может быть представлена как постоянное чередование двух идеальных типов, условно обозначенных как «военный коммунизм» и нэп. Режим «подвержен колебаниям огромной амплитуды, и в конце каждого удара маятника либо общество стоит на грани разрушения, либо власть – на пороге ликвидации или растворения»315315
Безансон А. Русское прошлое и советское настоящее = Russian past and Soviet present / Пер. и общ. ред. А. Бабича. – L.: Overseas publ. interchange, 1984. – С. 84. См. также с. 85–94.
[Закрыть]. Ю. Пивоваров отталкивается от построений французского ученого. Но уже в названии книги он прибегает к инверсии: русское – не прошлое, а настоящее, советское – не настоящее, а прошлое. А в истории коммунистического режима (КР) – всего две последовательные стадии: КР-1 и КР-2.
КР-1, по Пивоварову, зарождается во время Первой мировой войны, около 1915–1916 гг. и угасает в 1941–1942 гг. Это режим тотальной и перманентной революции, его метод – «всеобщее, абсолютное насилие, стремление к переделке всего и вся». Свое высшее и законченное выражение КР-1 получает в сталинизме. Ныне, в дни безумного сталинского поветрия, характеристика, которую дает этому чудовищному извиву русской истории Ю. Пивоваров, приобретает совершенно исключительную актуальность. Сталинизм – это безумное нагнетание ненависти, утопический тип сознания, отказ от всех фундаментальных ценностей человеческой истории, новая мораль, снимающая с человека личную ответственность за содеянное и предполагающая обязательную презумпцию виновности другого, понимание истории и социальных отношений как исключительно борьбы… Сталину «удалось совершенно органично соединить в непротиворечивое целое безумие и безответственность левых радикалов с самодовольно-тупым “мочиловомˮ погромщиков» (с. 213–216).
КР-2 тоже вырастает из войны, но из войны Отечественной: «Момент истины» настал 22 июня 1941 г. … Началась Отечественная война и более того – Освободительная для русского народа от сталинского коммунистического режима». Война «за самоэмансипацию народа от людоедской системы стала первым этапом освобождения». «Предвестие свободы, – цитирует Ю. Пивоваров известные слова из “Доктора Живаго”, – носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание» (с. 97–102). А двумя событиями, обозначившими перелом, полагает автор, были упомянутый роман и ХХ съезд, «русский Нюрнберг». Именно они «в самом прямом смысле слова вдохнули в нас жизнь» (с. 103, 106).
Как и почему началось размягчение коммунизма? Какая роль в этом принадлежала вневластным силам, зашифрованным в понятии «народ»? Когда началось и в чем проявилось самообучение власти? Еще недавно казалось, что эти и другие вопросы представляют лишь исторический интерес. Однако сегодня имеющийся, но далеко не осмысленный опыт разложения тоталитарного режима приобретает исключительную актуальность.
Верно, что в годы войны «Людоед начал что-то понимать» и в соответствии с этим корректировать свою политику. Наиболее заметно это проявилось в обращении к «корням» (что, собственно, началось уже в предвоенные годы) – замене раннебольшевистской риторики патриотической, в чем автор усматривает возвращение народу его истории. Но мне трудно согласиться с тем, что война стала освободительной для народа, а после войны настал конец «универсальной переделке», будь то в отношении власти к собственному народу, будь то в ее мировых амбициях.
Социально-классовая переделка общества была закончена еще в 30-е годы, но «метод всеобщего абсолютного насилия» (с. 97) разворачивался вовсю также и во время войны (что легко объяснить), и в послевоенные годы, которые явили последние пароксизмы разнузданного насилия и небрежение к самым элементарным нуждам народа. Какие уроки Людоед извлек из сюжета «народ на войне», лучше всего показала его «благодарность» тем, кто выиграл войну и спас режим. Памятуя о том, что за походом русской армии в Европу в 1813–1815 гг. последовали декабризм и пушкинская мечта о «свободе просвещенной», он позаботился наглядно продемонстрировать победителям – от солдата и колхозника до маршала и партийного иерарха, а особенно интеллигенции, понадеявшейся, что «в воздухе предвестие свободы», – их место в его государстве. И преподанные уроки как раз стирали чувство освобождения, если кого‐то во время войны оно пьянило. Не столь уж принципиальной была замена «мировой революции» с Коминтерном насажденными режимами «народной демократии» в Восточной Европе и беспощадной «борьбой за мир во всем мире».
Точка перелома, на мой взгляд , – не война, а физическая смерть диктатора. Она дала старт переменам. Именно тогда «все начало ломаться» (с. 61). Выше уже шла речь о роли субъективного фактора. Хрущев не зря однажды обмолвился: жаль, что мы не могли приступить к переменам лет на десять раньше. Номенклатура не «победила Сталина», а выползла из-под его тяжелой длани. Первым сработал у нее инстинкт самосохранения: кто может сказать, что еще успел бы сотворить впадавший в паранойю держатель абсолютной власти?! Но если переход властителей «от людоедства к более естественным формам социального питания» (с. 111) совершился практически сразу, то разложение режима происходило долго, неровно и мучительно. В этом – суть КР-2.
ХХ съезд (в отличие от появления великого романа Пастернака, который общественно значимым событием стал много позже) был действительно важной вехой на пути десталинизации. Правда, на роль «русского Нюрнберга» он, по-моему, не тянет. «Другого не будет» у нас не потому, что ХХ съезд заменил немецкий Нюрнберг, а потому, что мы, к сожалению, проскочили эту историческую остановку, обошлись без нее – и получили сейчас ревитализацию Сталина в сознании огромной массы народа. В годы перестройки известный ученый и правозащитник Кронид Любарский писал, что у нас собственная демократическая власть призвана решить задачи, которые в Германии решал оккупационный режим316316
«Безмерность преступных деяний нацизма была столь очевидной, что не могло быть и речи о том, чтобы хотя бы на один день дозволить его идейному яду разлиться по земле, – писал К. Любарский в 1993 г. – Сейчас этот вопрос стоит и перед нами, только нет у нас союзнической администрации, решать приходится самим». И еще до того, в 1991 г.: «Все общество заражено вирусом коммунизма, и, если не принять действенных мер, выздоравливание может затянуться надолго (если пораженное вирусом общество выживет вообще)». (Кронид: Избранные статьи К. Любарского. – М.: РГГУ, 2001. – С. 288, 230.)
[Закрыть]. С задачами этими не справилась и демократическая революция рубежа 1980–1990-х годов. Куда уж было партноменклатуре осилить задачу духовного оздоровления народа от диктатуры, длившейся много дольше, чем нацистская? Я хорошо помню, что секретный доклад Н. Хрущева на ХХ съезде, зачитанный в десятках тысяч аудиторий, стал потрясением для страны. Однако шок был хотя и сильным, но кратковременным и неглубоким.
«Оттепели» в политической жизни периодически сменялись заморозками вплоть до середины 60-х годов, когда был взят сознательный курс на реставрацию существенных элементов сталинизма. Правда, разложение режима, помимо воли и сознательных намерений правившей номенклатуры, ревностно оберегавшей свою власть и идеологию, в социально-экономической сфере происходило. Ю. Пивоваров справедливо заостряет внимание на массовом жилищном и дачном строительстве, развитии туризма, автомобилизации и т.д. «Возник новый личностно-приватный мир, включающий в себя элементы выбора, свободы, повышенных стандартов потребления». Было ли появление миллионов людей, воспользовавшихся немыслимыми прежде возможностями, «смертельным приговором Русской системе в ее коммунистическом изводе»? (с. 61). Пожалуй, да. Но, во-первых, чтобы приговор был приведен в исполнение, должен появиться могильщик – новые поколения интеллигенции и просвещенных бюрократов, не прошедших школу свирепого коммунизма. Они-то и стали зачинщиками, инициаторами антикоммунистической революции, ее главной движущей силой до того, как к ним присоединились разбуженные массы народа. А во-вторых, как впоследствии выяснилось, «сознательный отказ от движения в сторону свободы и права… и сознательный выбор рабства в обмен на более или менее равный минимум потребления» (с. 58) коренился не только в коммунистической системе.
Вполне обоснованно Ю. Пивоваров сомневается в том, что «советское» – действительно наше прошлое, что вообще правомерно его противопоставление «русскому», ныне популярное среди некоторых наших «прогрессистов». Это принципиально важная, далеко не общепринятая и усвоенная мысль. «Советское – шире, глубже, значительнее, органичнее, устойчивее, опаснее коммунистического. Коммунизм во многом наносен, ситуативен, вымышлен, несерьезен, функционален… Советское же это то, во что вылилось русское в ХХ столетии. Это – форма русского массового общества, продукт весьма своеобразной урбанизации, “красное черносотенствоˮ (по терминологии П.Б. Струве… борьба против культуры, сведение высокой культуры к примитивным ее образцам и нормам…), результат выбора 1917 года, долговременного террора и продолжительной мировой самоизоляции…» (с. 92).
Неловкий выход из коммунизма
Сопоставляя два перехода из одной исторической эпохи в другую, происходившие в России в ХХ в., Ю. Пивоваров констатирует: первый из них (в начале века) был разрывом, второй разрывом не стал (с. 49). В начале бурных 90-х он многим показался таковым (мне, как, видимо, и автору), но сейчас очевидно, что «мы так и остались законными преемниками СССР» (с. 21), ибо советизм и даже Сталин растворились в людях, в социально-психологической атмосфере (с. 13) и, добавим, в структурах общества, в характере власти. Если большевистская революция «полностью, “до основания“ разрушила дооктябрьскую русскую эссенцию» (все-таки не полностью, но согласимся – основательно), то антикоммунистическая и антисоветская революция конца 80-х – начала 90-х лишь завершила эволюцию советизма и «диссоциировалась» в реставрационном режиме Путина (с. 136–137). «В сфере политики и идеологии устанавливается уникальный строй – самодержавно-наследственное (или преемническое, или сменщицкое) президентство, опирающееся на авторитарно-полицейско-криминальную “системуˮ…» (с. 111). Организация власти во многом воспроизводит коммунистическую: она пирамидальна и остроконечна (возглавляется единовластным лидером), а расстановка руководящих лиц осуществляется не выборами, а «перебором людишек» (с. 186).
Такова сегодняшняя реальность. Мало кому она могла привидеться в августовские дни 1991 г., когда автор, как и множество наших соотечественников, переживали счастье победы над путчем, были исполнены «восторженной гордости, спокойствия и совершенно оправданных надежд» (с. 320). Но за тем, к чему мы пришли, стоит наша история. Стоит, в частности, то, что противоположно реформе и что, к беде нашей, массовое сознание полагает высшим достижением русской цивилизации.
Трижды в российской истории, утверждает Ю. Пивоваров, несмотря на различия эпох, возникала по существу одинаковая социальная конфигурация: сосуществование и взаимодействие опричнины и земства. Земство – большая часть населения, которая живет в как бы привычных условиях. Рядом конструируется новое сообщество, опричнина, которое из этих условий высвобождено и которому «все позволено». Снова и снова воспроизводится по сути ордынский порядок, к которому Русь привыкала два с половиной столетия ига: тогда в роли опричнины – Орда, земщины – Русь.
После Ивана Грозного схожую модель воспроизводит Петр I. Новая земщина живет по старинке, по Уложению Алексея Михайловича. Рядом с нею – европеизированная петровская опричнина, преобразованное и лишенное прежней «русскости» правящее сословие, скопом превращенное в новых опричников. После смерти Петра она раскалывается, меняет людей на троне и в конечном счете обретает известную независимость от верховного властителя.
Третий вариант той же модели, в которой роль опричнины играет номенклатура, – сталинский. Он прочнее первых двух, во‐первых, потому что Сталин оградил своих опричников от «тлетворного влияния» Запада и, во‐вторых, ввел порядок периодической их замены посредством физического истребления одних и рекрутирования из состава «земщины» других. Это придавало сталинской системе укорененность, но лишало ее долговечности. Поскольку опричники не могли смириться с кратковременностью своего бытия, сталинская модель не пережила своего демиурга.
Такое мастерское историческое уподобление в подробностях, возможно, до некоторой степени искусственно. Но земско-опричная система в многовековой истории русской государственности не случайна, а традиционна, настаивает Ю. Пивоваров. Она выражает сходную реакцию на действительные или воображаемые вызовы своего времени. Многовластный правитель возрождает в доступном для него оформлении ядро ордынского порядка – чрезвычайными средствами переформатирует правящее сословие, в той или иной мере решает поставленные задачи, углубляет раскол общества и оставляет после себя социальную конфигурацию, которая, как всякое чрезвычайное состояние или институт, не способна пережить своего создателя и рушится или эрозирует после его ухода. Опрично-земская система вообще недолговечна. А вероятность ее воспроизведения в сталинском (или постсталинском) варианте, полагает автор, мала, ибо ее принципы «полностью несовместимы с вектором мирового социального развития» (с. 121–126). И все же опрично-земские полосы на историческом теле России оставили незажившие рубцы. В нашу современность они протянулись зловещим и вредоносным выбросом – «чекистским авторитаризмом». У власти, пишет Ю. Пивоваров, дети Андропова сменили детей Арбата.
Здесь необходимы уточнения. Дети Арбата – актив интеллигенции, проходивший становление в годы Оттепели, вышедший на баррикады, преградившие дорогу путчистам в 1991 г., у власти никогда не был. В 90-е годы он сник и покинул политическую авансцену. Почему так произошло – разговор отдельный. Но в состязании за ставшую как бы бесхозной власть, которое развернулось между обломками бывшей номенклатуры, ключевые позиции чекистам (которые, по самохарактеристике, не бывают бывшими) достались не случайно. Их выигрыш был подготовлен заблаговременно. Еще Андропов «бросил свои чекистские силы на спасение системы». «Он возродил и возвел на новые высоты чекистское племя. При нем вновь стало почетно и престижно работать или сотрудничать с КГБ». Стараниями Андропова, Алиева и других (а также, добавим, уходом от «расчета с прошлым», будто бы осуществленным на ХХ съезде КПСС) со спецслужб был удален палаческий нимб и заменен распространенным представлением о том, что их кадры более всего подходят для чистки самых скомпрометированных звеньев разлагавшейся партийно-государственной номенклатуры (с. 234–236). Коррупцию они не победили. («Нельзя опричнине сближаться с земщиной. Дистанция и еще раз дистанция!») Но захватили «плацдарм для скорой победоносной операции… социального блицкрига» (с. 142–143). И «дети Андропова» были вновь востребованы, когда схлынула волна демократической революции и страну накрыла невиданная еще волна коррупции, а иные государственные органы становились нефункциональными317317
О том, как чекистам видится их роль в недавнем прошлом и как они представляют свое назначение в настоящем, с подкупающей откровенностью рассказал В. Черкесов, соученик В. Путина по юрфаку ЛГУ и коллега по службе в органах. В условиях «полномасштабной катастрофы», которая постигла страну в начале 90-х годов, написал Черкесов, государственную систему начало собирать заново «сообщество людей, выбравших в советскую эпоху в качестве профессии защиту государственной безопасности… Падая в бездну, постсоветское общество уцепилось за этот самый “чекистский крюк”». См.: Черкесов Виктор Васильевич: Личное дело // Коммерсант. – М., 2007. – 9 окт., № 134.
[Закрыть].
И все же сколь ни велика была роль «чекистского реванша» в реставрации советизма, корни восторжествовавшей ныне реставрации глубже. Они уходят в советское и досоветское прошлое. Два момента в связи с этим заслуживают особого внимания: властесобственность на верхнем этаже социальной системы и черносотенство как важнейшая черта массовой культуры.
Главное отличие не одной лишь России, но вообще незападных обществ от западных в том, утверждает Ю. Пивоваров, что «в них разграничительная линия между суверенитетом и собственностью либо вообще не существует, либо столь расплывчата, что теряет всякий смысл» (с. 167). На Западе со времен Древнего Рима (и еще в Греции как тенденция) сложная эволюция права и институтов привела к становлению частной собственности. Государство над нею не властно (или оказывает ограниченное влияние)318318
Развитие госкапитализма на Западе в известной мере стирает это разделение и ограничивает право частной собственности. Но там это ограничение поставлено в жесткие правовые рамки, а на стороне общества развились и стали важнейшим фактором социальной жизни ограничители государственной власти. Автор этот вопрос не рассматривает, и я здесь ограничусь указанием на отклонение от идеальной модели.
[Закрыть]. В России властитель – одновременно суверен государства и верховный собственник.
Исторически, показывает автор, здесь сменились три формы властесобственности: самодержавная, коммунистическая (номинально общенародная, а фактически «идеальная замкнутая властесобственническая система») и современная – «чистая и без всяких ограничителей… высшая форма развития властесобственности». Является ли нынешняя разновидность властесобственности чистой и высшей, можно поспорить. Автор сам указывает на существование ряда ограничителей: гедонистически потребительскую ориентацию нынешних властителей и превращение части из них в крупных (хотя и не вполне частных) собственников. Смогут ли эти или какие‐то иные ограничители стать критичными для системы, начать разлагать ее, как это происходило на закате царизма? Ведь от роли, силы и качества запретов для власти зависит бытие общества, степень свободы индивида. Автор, который о слиянии власти и собственности в России говорит давно, справедливо замечает, что существующая форма смертельно опасна (она, в частности, «абсолютно не нуждается в подавляющем большинстве населения»). Каким изменениям может подвергнуться современный вариант властесобственности? Возможно, «вряд ли в сторону исчезновения» (с. 168–172). И все же смогут ли сформироваться внутри системы какие‐то ограничители и насколько дееспособным сможет проявить себя общество в создании внешних ограничителей власти, запретов на распоряжение ею собственностью? Вопрос этот остается открытым.
Другое отличие России от Запада коренится в обстоятельствах и характере перехода от традиционного общества к современному. В Европе – города и бюргерство, Реформация, Лютер и Томас Мор. Как результат всего этого – «динамический компромисс» «различных социальных сил и деуниверсализация власти». Россия миновала Реформацию, а Просвещение в ней насаждалось сверху. Здесь – преодоление церковного раскола при посредстве власти, Филофей как анти-Лютер и анти-Мор, победа иосифлян над нестяжателями и Иван Пересветов (как феномен, сколь ни вызывающе это звучит, «своеобразного московского фашизма»). И в результате власть не предполагает никаких компромиссов соперничающих социальных сил. Она их искореняет. «В Европе рождается Человек, здесь – Власть» (с. 148–150).
Одно из главных порождений всех этих процессов – черносотенная культура. Обращаясь вслед за П. Струве к столь важному в его концепции понятию, Ю. Пивоваров замечает, что возникшие в начале ХХ в. под таким названием радикально-погромные организации – лишь частное проявление этой субкультуры. «Черносотенство есть социальный мейнстрим русского общества при переходе из традиционно-сельского к современно-городскому. Это культура масс, рвущих со своим прошлым, чуждых идей и ценностей “Hochkulturˮ и духа модерности… Советизм есть воплощенное черносотенство. Революция в России окончилась победой черносотенства. Причем возобладал красный, а не белый вариант… Черносотенство это социально-культурная реакция на насильственную модернизацию-вестернизацию страны… выражение инстинктов и идеалов “старомосковскойˮ субкультуры» (с. 152–153).
Продолжая мысль автора, следует сказать, что черносотенство не было преодолено демократической революцией 1980–1990-х годов и нашло выражение, в частности, в пронизавшем ее вождистском начале. Черносотенная реакция на модернизацию, на творческий поиск в любой сфере человеческой деятельности, на разрыв с умирающей традицией, ксенофобия и доведенный до абсурда страх перед чужеземным влиянием – надежный резерв власти всякий раз, когда ей требуется развернуть общество к его истокам. И вполне отчетливо все это вырисовывается ныне то в угрозах «белоленточникам», то в погромных выходках «православной» и иной «патриотической» общественности, избирающей объектом своего негодования то книги, то выставки, то театр и даже детские игрушки.
Не много добрых слов находит Ю. Пивоваров в адрес «горбачевско-ельцинского периода» нашей истории. Ельцин «отдал то, что принадлежало всему народу, кучке бандитов», «наиболее витальной и современной части советской номенклатуры». Он, «герой русской свободы и несвободы», освободив «историческую сцену России от массовки, претендовавшей на свою долю в переделе, и от непрогнозируемых экстремистов старого и нового образца», передал власть корпорации спецслужбистов, чья заслуга – «создание эффективного механизма по эксплуатации материальных богатств России в пользу небольшой части общества» (с. 111, 135). Так и слышится в подобной оценке ельцинизма лермонтовская «насмешка горькая обманутого сына над промотавшимся отцом»…
С тем, что материальные богатства России когда-либо принадлежали всему народу и что ныне создан эффективный механизм их эксплуатации (хотя бы и в пользу меньшинства), можно поспорить. Конечно, автор, глядящий на события со смотровой площадки ХХI в., имеет право на такую оценку нашей демократической революции. Его мнение разделяют многие вдумчивые участники тех событий. И все же думается, что категорически негативное суждение о нашем «периоде бури и натиска» не вполне справедливо. А главное, не дает ответа на вопрос: был ли свершившийся исход революции единственно возможным или существовали альтернативные шансы, пусть нереализовавшиеся? А если они были, то почему не осуществились? Какие ошибки, вольные или невольные, допустили те акторы процесса (в России и за ее пределами), которые стремились вовсе не к переделу богатств и монополизации власти?
Нельзя требовать ответа на эти вопросы от автора, коль скоро он такую задачу перед собой не ставил. Но сказанное в книге, несомненно, подводит к обсуждению этого главного, на мой взгляд, вопроса русской истории рубежа ХХ–ХХI вв. Ибо он встанет во весь рост, когда мы вновь попробуем «стать приемлемым народом» (с. 65).
Неимоверно трудно поставить точку в размышлениях о прошлом и настоящем нашей страны, когда вал стремительно набегающих событий сбивает фокус анализа. К завершающим точкам Ю. Пивоваров подходит дважды. Одна, навеянная, видимо, скоротечным взлетом демократического движения в 2011–2012 гг.: в движении Сопротивления «вся моя надежда, мое упование, мои “столп и утверждение истиныˮ… Мы уже можем сопротивляться» (с. 322). Вторая – «грянул март четырнадцатого». Переход к новому историческому периоду закрыл для русских – бог весть, на какое время – тему «свобода» (с. 323–324). Остается вывод этого страстного исследования-памфлета: «Или Россия станет свободной и ответственной, или ее вообще не будет. Выбор любого антилиберального устройства губителен» (с. 291).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































