Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 6"
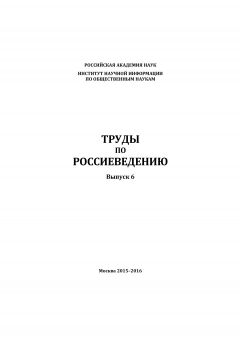
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 37 страниц)
Тем не менее определяющей в развитии научных исследований России / СССР за рубежом стала все же либерально-универсалистская линия, которая воплотилась, в частности, в теории модернизации. Уверенность в том, что Россия идет тем же путем, что и Западная Европа, но лишь немного «запаздывает», широко распространенная во второй половине XIX в., была свойственна и русским историкам-эмигрантам. По существу, она и была концептуально оформлена в теории модернизации – в частности, в популярной работе У. Ростоу о стадиях экономического роста (51).
Идеи прогресса и развития, в основе своей европоцентристские, в 1950–1960-е годы стали «идеологией» программ помощи странам, проходившим процесс деколонизации. Эти страны Третьего мира, не присоединившиеся к Первому (капиталистическому) и Второму (социалистическому), получили на Западе название слаборазвитых (позднее – развивающихся). Им следовало помочь в ускоренном порядке пройти этапы экономического развития до конечного пункта – общества массового потребления. Тогда считалось, что достижение определенных экономических показателей при помощи таких инструментов, как свободный рынок, автоматически приведет и к демократии. Затем эти наивные представления уступят место более глубоким культурно ориентированным подходам; идеи модернизации (или же вестернизации) будут подвергнуты критике теоретиками зависимого развития и окончательно развенчаны постколониальными исследованиями, всерьез взявшимися за прогрессизм и европоцентризм.
Однако до окончания холодной войны «Запад» сохранял свои претензии на роль эталона, олицетворением которого служили США. К давно установившимся политическим нормам (права личности и формы правления) были добавлены экономические: рыночная экономика и массовое потребление как главные приметы американской жизни. В противоположность «Востоку», декларировавшему построение коммунизма (а призрачность такого будущего была очевидна), Америка фактически уже достигла своей исторической цели. Оставалось только распространить либеральную демократию по всему миру. Исходя из такого понимания исторического процесса, Фрэнсис Фукуяма и возвестил в свое время о «конце истории» (28). Победа экономического и политического либерализма считалась неизбежной, и сторонники теории конвергенции не сомневались, что Второй мир рано или поздно присоединится к Первому. Что касается стран Третьего мира, то они рассматривались обеими сверхдержавами исключительно как потенциальные союзники, которых следовало перетянуть на свою сторону. Так что условное трехчастное разделение мира отнюдь не сглаживало жесткую оппозицию «Запад–Восток».
В разгар холодной войны социально-политический концепт «Запад» оставался размытым и абстрактным. Критики тогда отмечали, что «на языке политинформации Вашингтона» термин «Запад» включает в себя крайне разнообразную в географическом отношении группу стран, в том числе и азиатские (55, с. 20–21). В то же время он стал особенно политизированным и идеологизированным. Конфронтация двух систем была очень глубокой и почти всеобъемлющей: то, что одной из сторон представлялось идеалом и образцом для подражания, другая считала абсолютно неприемлемым и подвергала уничижительной критике. На языке базовых оппозиций это выглядит как смена полюсов. Поскольку при социализме общественное безусловно было «выше» и «лучше» личного, частная собственность и индивидуализм приобретают исключительно негативные коннотации, а свободному рынку теперь противопоставляется плановое хозяйство («Дорога к рабству», если вспомнить книгу Хайека).
И все же, несмотря на идеологические противоречия, сохраняли свое значение универсальные ценности прогресса, понимаемого как поступательное движение к лучшей жизни. Обе сверхдержавы претендовали на роль «маяка» для всего человечества, и соревнование между ними не сводилось к гонке вооружений – оно разворачивалось в области науки и техники, культуры, социальных благ. В несимметричных, ценностно нагруженных оппозициях «цивилизация–варварство», «свобода–рабство», «прогресс–отсталость», где одна часть «лучше», «главнее», «превосходнее» другой, СССР без особых сомнений относил к себе «сильную часть». Свободный Советский Союз представал тогда оплотом мира и прогресса для всех людей доброй воли.
Понятие прогресса получило во второй половине ХХ в. глубокую разработку, его критиковали и осмысливали ведущие умы человечества. Советская наука не внесла серьезного вклада в эти размышления, будучи к этому времени отрезанной от магистральных тенденций мировой мысли «железным занавесом». Впервые в своей новой истории Европа перестала быть единым культурным и дискурсивным пространством, разделившись на Западную и Восточную. «Железный занавес» оказался наиболее эффективен в сфере социальных и гуманитарных наук, и этот итог многолетней конфронтации имеет, пожалуй, самые далекоидущие последствия.
Безусловно, ситуация идеологического противостояния наносила большой вред зарубежным исследованиям СССР, хотя одновременно и стимулировала их. Русская история изучалась необыкновенно активно – пусть во многих отношениях и в зеркальной зависимости от советской историографии. Однако в большей степени исторические исследования за рубежом (прежде всего в США, где выпускалась львиная доля научной продукции) зависели от русской дореволюционной историографии и того видения истории как логически последовательного универсального процесса, который сложился в науке XIX в. Немалую роль играли и стереотипы, унаследованные от западноевропейской традиции, а также образы России, сформировавшиеся в США к началу ХХ в. (см. об этом: 5). С точки зрения сегодняшней антропологии в Russian studies присутствовал несомненный элемент «колониального» отношения к предмету изучения, особенно с учетом «инаковости» и несомненной экзотичности социалистического Советского Союза.
Принадлежность России, а уж тем более СССР к «Западу» считалась более чем проблематичной. Поэтому историки-русисты старшего поколения были склонны подчеркивать несовпадение российского и западноевропейского государственных устройств, самобытные черты особого облика страны, в чем-то притягательного, а в чем-то и отталкивающего. Пришедшие в науку в 1960–1970-е годы социальные историки принесли с собой дух критики и ревизионизма. Они оспаривали утвердившиеся в историографии стереотипы, клише и мифы о неуклонно беднеющем крестьянстве, об «отсутствующем» среднем классе, о «репрессивном» самодержавии и др. В результате в период холодной войны в зарубежной русистике сложился довольно обширный спектр интерпретаций истории России, среди них выделяются два историографических образа, определявших облик изучаемой страны. Один принадлежал в большей степени публичному дискурсу и был особенно привлекателен и полезен в периоды обострения отношений между СССР и США. Другой был актуален для профессиональной сферы.
Первый образ может быть назван консервативным и в конечном счете антисоветским. Это образ самобытной России, «вековечной» Руси, подчеркивавший российскую исключительность и выпячивавший деспотические черты в ее прошлом и настоящем. Он рисует «особый путь» исторического развития страны неевропейской, лежащей между Востоком и Западом, в силу чего в ней присутствует целый ряд «азиатских» черт. Тоталитарный Советский Союз представал очередным воплощением этой «вечной» России – бедной, отсталой страны, где народ находится под постоянным гнетом верховной власти.
Второй образ следовало бы определить как «европейский». Он основан на либеральном прогрессистском видении истории и сосредоточен главным образом на России императорского периода. В соответствии с логикой теории модернизации «настоящая» история начинается с реформ Петра I, представлявших собой радикальный разрыв с московской «традицией». Особое внимание уделяется второй волне модернизации – Великим реформам, последующей индустриализации и краткому «парламентскому эксперименту». Всё это – вехи на пути, который проходят все страны в ходе исторической эволюции.
А дальше начинаются разночтения. Для одних, как и для русских историков-эмигрантов (наиболее очевидный пример – работы Мартина Малиа, любимого ученика М.М. Карповича), история России на этом заканчивается и начинается трагедия. Для других, в том числе для социальных историков-ревизионистов, начинается лишь новый этап: советское общество с колоссальными издержками двигалось по пути модернизации, догоняя своих более развитых соседей. Предполагалось, что рано или поздно Советский Союз путем реформирования достигнет той стадии социального и экономического развития, когда различия с постиндустриальными обществами Запада перестанут быть значимыми. В 1980-е годы к этому образу добавился дополнительный штрих: специалисты по дореволюционному периоду обратились к концепции гражданского общества, споря о том, было ли оно в России и если было, то каким. Но все сходились во мнении, что демократическое будущее России немыслимо без развития этого института (см.: 1).
Однако несмотря на все различия между историками разных поколений и различных политических взглядов, в противоборствующих трактовках было много общего. Во-первых, в основе всех интерпретаций лежала европоцентристская и прогрессистская схема исторического развития с присущими ей детерминизмом и телеологией. Во-вторых, все эти исследования носили нормативный характер. Ни левые радикалы, при всем их критическом отношении к американскому истеблишменту, ни тем более либералы и консерваторы не сомневались: у исторического развития есть конечная цель, к которой стремится всякая страна, идущая по пути прогресса – парламентская демократия западного типа, достигающая своего полного развития в национальном государстве. С этой точки зрения оценивались особенности тех или других обществ: помогают ли они достижению заветной цели или, наоборот, уводят от нее? Поэтому западные русисты были склонны выявлять в истории России «препятствия» и «дисбалансы», равно как и «отсутствие» (прямо по Монтескье) важных институтов, ценностей и традиций, которые трактовались либо как признак российской самобытности, либо как атрибуты отсталости, присущие всем модернизирующимся странам.
Кроме того, в зарубежной историографии России наряду с наиболее общими представлениями о системных чертах, определявших историческое развитие страны (суровый климат, обширная территория, деспотизм власти и пассивность населения, коллективизм русского крестьянства), долгое время присутствовал целый набор характеристик Российского государства и общества, которые не ставились под сомнение, но оценивались, однако, по-разному. Единодушно признавалось, например, что в России всегда было очень сильное государство. Но сторонники концепции самобытности подчеркивали его репрессивную роль и говорили о самодержавном деспотизме, а приверженцы теории модернизации видели в государстве главный двигатель прогресса, инициатора реформ, которые должны были привести страну к конституционализму (2, с. 24–25).
Центральную роль в историографии времен холодной войны играла революция 1917 г. Ее считали либо трагедией, завершившей чрезвычайно краткий период демократического развития и ввергнувшей страну в пропасть тоталитаризма, либо неизбежным результатом структурных дисбалансов, накопившихся к началу ХХ в. в бурно модернизирующейся отсталой стране. Окончание холодной войны и распад Советского Союза, когда, как писали, «исчез результат» революции, подвели черту под этой историографией (20, с. 846). Наступили новые времена критики и интеллектуальных поисков, активной работы в открывшихся для зарубежных исследователей архивах. В этих условиях рождался новый историографический образ России, принадлежащий XXI в. Причем создавался в изменившемся научном контексте, когда социально-политический концепт «Запад» утратил свою аналитическую ценность для профессиональных ученых, сохранившись, однако же, в публичном дискурсе (29, с. 2).
Время поиска и выбора
С окончанием холодной войны социально-политический концепт «Запад» подвергся серьезнейшему переформатированию. Страны бывшего Восточного блока и Прибалтика провели новые границы, отделившись от «неудобного соседа», и официально перестали принадлежать к Восточной Европе. Теперь это страны Центрально-Восточной Европы (СЕЕ), большинство из них – члены НАТО и Евросоюза, что свидетельствует об их стремлении принадлежать и к Атлантическому миру, и к Европе. Россию они дружно относят к «Востоку», используя проверенную стратегию ориентализации «Другого» для выстраивания своей европейской идентичности (см.: 22).
Преемница Советского Союза Россия утратила статус сверхдержавы и перестала быть для «Запада», значительно расширившего границы своей воображаемой географии, значимым «Другим». В 1990-е годы считалось, что Россия скоро присоединится к клубу демократических стран, в чем ей следует помочь посредством уже известных механизмов (рыночная экономика и институты гражданского общества). Однако с наступлением нового тысячелетия стало ясно, что перспективы превращения России в национальное государство со всеми его либеральными институтами более чем проблематичны; она явно встала на путь имперского строительства.
В то же время в 1990-е годы происходят глубокие изменения в представлениях о мире, вступившем в новую фазу своего развития. В первую очередь это коснулось профессионального дискурса, где идея прогресса из составной части общей картины мира превратилась в объект научного анализа. Философы, социологи, историки, культурологи и, конечно же, специалисты в области постколониальных исследований анализировали историю возникновения этой идеи, ее роль в формировании представлений об окружающем мире и в утверждении власти европейцев над колониями274274
Судя по базе данных ProQuest, пик диссертационных исследований этой проблемы в англоязычном мире приходится на 1990-е – начало 2000-х годов, составив несколько тысяч наименований. Затем интерес к ней начинает убывать.
[Закрыть].
Несмотря на резкое усиление консервативной мысли, предупреждающей о «столкновении цивилизаций», идет постепенное избавление от европоцентризма, наблюдается отказ от нормативного подхода, который подмечал лишь нехватку либо отсутствие в той или иной стране важных условий для европеизации. Прежде биполярный мир становится единым, условные границы и барьеры растворяются. Возникает стремление видеть сложность и взаимосвязанность явлений, множественность исторических путей, а не однолинейность «развития», признавать ценность каждой культуры, не прилагая к ней аршин европейского превосходства (24, с. VIII–X).
Вполне закономерно, что в этом интеллектуальном климате победившей политкорректности в зарубежной историографии начинает складываться новый образ России. Он позитивен, поскольку вместо поисков причин «провала» страны, не преуспевшей в «гонке за лидером», историки обратились к рассмотрению ее богатой истории и культуры. Можно было бы даже сказать, что Россию вернули в семью европейских наций, если бы не тот факт, что она чаще всего рассматривается теперь в русле имперской парадигмы – как одна из континентальных империй (наряду с Османской и Габсбургской). СССР при этом больше не изображается «империей зла» или оплотом тоталитаризма (эта теория считается как минимум нерелевантной), а все более глубоко изучается на материалах архивов. О «принижении» нашей страны в зарубежной русистике и речи нет, так что стрелы критиков, пытающихся разоблачить очередных «фальсификаторов» отечественной истории, летят мимо цели. Что же касается публичного дискурса, то здесь консервативный образ «извечной Руси» по-прежнему остается востребован.
В сегодняшней России критика «Запада» тоже разворачивается именно в публичном дискурсе. Голоса профессионалов не слышны, да и не будут услышаны. Как и почти 200 лет назад, «Запад» вновь стал для России конституирующим «Другим», в отталкивании от которого предпринимаются попытки активизировать ощущение собственной идентичности. На мой взгляд, суть сегодняшних споров заключается в том, что если условные «западники» видят некую цель, к которой следует стремиться, то «особый путь», предназначенный России славянофильствующими консерваторами, никаким путем не является. Он подразумевает возвращение к мифическим «истокам» и замирание в высокодуховной идиллии. Фактически это борьба между движением и статикой, хотя с точки зрения историософии можно говорить о противостоянии либерального понимания исторического процесса как линейного движения консервативному, т.е. циклическому. Рискну выдвинуть предположение, что нынешнее обострение сражений с условным «Западом» обусловлено не только совершенно определенными геополитическими и макроэкономическими обстоятельствами, но прежде всего тем, что кризис идеи прогресса наконец докатился и до нас и приобрел такую парадоксальную на первый взгляд форму.
Однако критика «загнивающего Запада» звучит в сложный период: само понятие «западной цивилизации» в условиях глобализации значительно релятивизировалось, да и самоощущение европейцев и американцев более не покоится на идеях дискриминации и принижения «Другого». При этом геополитические реалии все упорнее напоминают нам о тех ключевых моментах истории XIX и ХХ вв., когда понятие «Запад» становилось определяющим в международных отношениях. Не случайно в кардинально новых условиях кризиса Европы, захлестываемой волнами беженцев с «Востока», европейское политическое воображение опять занято Россией и Турцией.
И все же не дело историка анализировать сегодняшнюю ситуацию, которая к тому же меняется буквально ежеминутно – оставим это специалистам. Тем не менее, основываясь на знаниях о прошлом, можно поставить ряд вопросов, способных в чем-то прояснить настоящее. Насколько значимым «Другим» является Россия для Запада, на глазах утрачивающего свою целостность? Выступит ли она тем мобилизующим фактором, который объединит распадающееся политическое и культурное единство Европы и США? И какую роль может сыграть здесь профессиональный дискурс? Возможно, предложенная система координат позволит несколько иначе посмотреть на происходящее сегодня и в нашей стране, и в мире.
Список литературы
1. Большакова О.В. Власть и политика в России XIX – начала ХХ века: Американская историография. – М.: Наука, 2008. – 263 с.
2. Большакова О.В. Поверх барьеров: Американская русистика после холодной войны / РАН. ИНИОН. – М., 2013. – 238 с.
3. Вульф Л. Изобретая Восточную Европу. – М.: НЛО, 2003. – 548 c.
4. Долинин А.А. Гибель запада: К истории одного стойкого верования // К истории идей на Западе: Русская идея. – СПб.: Петрополис, 2010. – С. 26–76.
5. Журавлева В.И. Понимание России в США: Образы и мифы. 1881–1914. – М.: РГГУ, 2012. – 1140 c.
6. Карпович М. О русском мессианстве // Новый журнал. – Нью-Йорк, 1956. – Кн. 45. – С. 274–283.
7. Лихачев Д.С. Национальное самосознание Древней Руси. – М.;Л.: Изд-во АН СССР, 1945. – 118 с.
8. Минути Р. Образ России в творчестве Монтескье // Европейское Просвещение и цивилизация России / Отв. ред. Карп С.Я. – М.: Наука, 2004. – С. 31–41.
9. Струве Г. Русский европеец: Материалы для биографии и характеристики князя П.Б. Козловского. – Сан-Франциско: Дело, 1950. – III, 164 c.
10. Токвиль А. де. Демократия в Америке / Пер. с фр. – М.: Прогресс, 1992. – 559 с. Оригинал: Tocqueville A. de. De la démocratie en Amerique. – Vol. 1. – P., 1835; Vol. 2. – P., 1840.
11. Ульянов Н.И. Комплекс Филофея // Новый журнал. – Нью-Йорк, 1956. – Кн. 45. – С. 249–273.
12. Хархордин О. Основные понятия российской политики. – М.: НЛО, 2011. – 321 с.
13. Цивилизация и варварство: Трансформация понятий и региональный опыт / Отв. ред. Буданова В.П., Воробьева О.В. – М.: ИВИ РАН, 2012. – 350 с.
14. Цыкова К.А. Россия второй половины XIX – начала ХХ в. в трудах Анатоля Леруа-Больё: Автореф. дис. … канд. ист. наук. – М., 2005. – 25 с.
15. Adamovsky E. Euro-Orientalism: Liberal ideology and the image of Russia in France (c. 1740–1880). – Oxford; N.Y.: Peter Lang, 2006. – 358 p.
16. Adamovsky E. Euro–Orientalism and the making of the concept of Eastern Europe in France, 1810–1880 // The journal of modern history. – Chicago, 2005. – Vol. 77, N 3. – P. 591–628.
17. Banerjee A. We modern people: Science fiction and the making of Russian modernity. – Middletown: Wesleyan univ. press, 2012. – VIII, 206 p.
18. Bavaj R. The West: A conceptual exploration. – Mode of access: http://ieg-ego.eu/en/threads/crossroads/political-spaces/political-ideas-of-regional-order/riccardo-bavaj-the-west-a-conceptual-exploration/?searchterm=oriental%20despotism&set_language=en
19. Burbank J. Revisioning imperial Russia: Conference report // Slavic rev. – Chicago, 1993. – Vol. 52, N 3. – P. 555–567.
20. Confino M. Present events and the representation of the past: Some current problems in Russian historical writing // Cahiers du monde russe. – P., 1994. – Vol. 35, N 4. – P. 839–868.
21. David-Fox M. Showcasing the great experiment: Cultural diplomacy and Western visitors to Soviet Union, 1921–1941. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2012. – XII, 396 p.
22. East and West: History and contemporary state of Eastern studies / Ed. by Malicki J., Zasztowt L. – Warsaw: Studium Europy Wschodniej, 2009. – 335 р.
23. Emmons T. Russia then and now in the pages of «American historical review» and elsewhere: A few centennial notes // American historical review. – Wash., 1995. – Vol. 100, N 4. – P. 1136–1149.
24. Enduring Western civilization: The construction of the concept of Western civilization and its «Others» / Ed. by Federici S. – Westport: Praeger publishers, 1995. – XVI, 210 p.
25. Engerman D. Know your enemy: The rise and fall of America’s Soviet experts. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2009. – X, 459 p.
26. Engerman D. Modernization from the other shore: American intellectuals and the romance of Russian development. – Cambridge: Harvard univ. press, 2003. – 399 p.
27. Evtuhov C. Guizot in Russia // Cultural gradient: The transmission of ideas in Europe, 1789–1991 / Ed. by Evtuhov C., Kotkin S. – Lanham, 2003. – P. 55–72.
28. Fukuyama F. The end of history and the last man. – N.Y.: Free Press, 1992. – XXIII, 418 р.
29. Germany and «the West»: The history of a modern concept / Ed. by Bavaj R., Steber M. – N.Y.; Oxford: Berghahn books, 2015. – X, 317 p.
30. GoGwilt Chr. True West: The changing idea of the West from the 1880 s to the 1920 s // Enduring Western civilization: The construction of the concept of Western civilization and its «Others» / Ed. by Federici S. – Westport, 1995. – P. 37–62.
31. Gorer G., Rickman J. The people of Great Russia: A psychological study. – L.: Cresset press, 1949. – 235 р.
32. Hagen M. von. Empires, borderlands and diasporas. Eurasia as anti-paradigm for the post-Soviet era // American historical review. – Wash., 2004. – Vol. 109, N 2. – Р. 445–468.
33. Halecki O. Borders of Western civilization: A history of East Central Europe. – N.Y.: Ronald press, 1952. – XVI, 503 p.
34. Halperin Ch. Muscovy as a Hypertrophic state: A critique // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. – Bloomington, 2002. – Vol. 3, N 3. – P. 501–507.
35. Heller P. The Russian dawn: How Russia contributed to the emergence of «the West» as a concept // The struggle for the West: A divided and contested legacy / Ed. by Browning C.S., Lehti M. – N.Y., 2010. – P. 33–52.
36. Kappeler A. Between science and politics: The German-language historiography of Russia during the 20th century // East and West: History and contemporary state of Eastern studies / Ed. by Malicki J., Zasztowt L. – Warsaw, 2009. – P. 41–60.
37. Keller W. East minus West = zero: Russia’s debt to the Western world, 862–1962 /Trans. from German. – N.Y.: Putnam, 1962. – 384 p.
38. Kingston-Mann E. In search of the true West: Culture, economics, and the problem of Russian development. – Princeton, 1999. – XIII, 301 p.
39. Kirby D. Divinely sanctioned: The Anglo-American Cold War alliance and the defence of Western civilization and Christianity, 1945–48 // Journal of contemporary history. – L., 2000. – Vol. 35, N 3. – P. 385–412.
40. Kivelson V. On words, sources, and historical method: Which truth about Muscovy? // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. – Bloomington, 2002. – Vol. 3, N 3. – P. 487–499.
41. Leroy-Beaulieu A. Lʼempire des tsars et les russes. – P.: Hachette. – T. 1: Le pays et les habitants. – 1881; T. 2: Les institutions. – 1882; T. 3: La religion. – 1889.
42. Malia M. Russia under the Western eyes. From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. – Cambridge: Harvard univ. press, 1999. – XII, 514 p.
43. Mariano M. Remapping America: Continentalism, globalism, and the rise of the Atlantic community, 1939–1949 // Defining the Atlantic community: Culture, intellectuals, and policies in the mid-twentieth century / Ed. by Mariano M. – N.Y.: Routledge, 2010. – P. 71–87.
44. Minuti R. Oriental despotism // European history online (EGO), published 2012-05-03. – Mode of access: http://ieg-ego.eu/en/threads/models-and-stereotypes/the-wild-and-the-civilized/rolando-minuti-oriental-despotism/?searchterm=None&set_language=en.
45. Molho A., Wood G.S. Introduction // Imagined histories: American historians interpret the past. – Princeton, 1998. – P. 3–20.
46. Neumann I.B. Uses of the other: «The East» in European identity formation. – Minneapolis: Univ. of Minnesota press, 1999. – XV, 281 p.
47. Novick P. That noble dream: The «objectivity question» and the American historical profession. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1988. – XII, 648 p.
48. Poe M. A people born to slavery. Russia in Early Modern ethnography, 1476–1748. – Ithaca: Cornell univ. press, 2000. – XI, 293 p.
49. Poe M.T. Moscow, the Third Rome: The origins and transformations of a «Pivotal Moment» // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. – Wiesbaden, 2001. – H. 49, Bd 3. – S. 412–429.
50. Poe M. The truth about Muscovy // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history. – Bloomington, 2002. – Vol. 3, N 3. – P. 473–486.
51. Rostow W.W. The stages of economic growth. – L.; N.Y.: Cambridge univ. press, 1960. – IX, 178 p.
52. Said E. Orientalism. – N.Y.: Pantheon, 1978. – XI, 368 p.
53. Shanin T. The idea of progress // The post-development reader / Ed. by Rahnema M., Bowtree V. – L.: Zed books, 1997. – P. 65–71.
54. Steel R. How Europe became Atlantic: Walter Lippmann and the new geography of the Atlantic Community // Defining the Atlantic Community: Culture, intellectuals, and policies in the mid-twentieth century / Ed. by Mariano M. – N.Y.: Routledge, 2010. – P. 13–27.
55. Szeftel M. The historical limits of the question of Russia and the West // Slavic review, 1964. – Vol. 23, N 1. – P. 20–27.
56. Wallace D.M. Russia: 2 vols. – L.: Cassel and Co, 1877–1878.
57. Wittfogel K. Oriental despotism: A comparative study of total power. – New Haven: Yale univ. press, 1957. – XIX, 556 p.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































