Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 6"
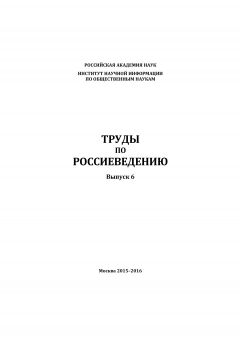
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 37 страниц)
Концепт «Запад» и историографические образы России
О.В. Большакова
Противопоставление России Западу занимает центральное, даже системообразующее положение в политическом воображении нашего общества, все более склонного видеть мир в категориях «мы» и «они». Это противопоставление давно уже стало общим местом, оно кажется чем-то «естественным» и почти извечным. Историки, однако же, склонны датировать начало противостояния «замечательным десятилетием» 1838–1848 гг., когда в русском обществе громко звучали споры славянофилов и западников. Именно тогда, в пору становления «романтического национализма», были сформулированы две точки зрения на Россию и ее место в мире, вокруг которых вплоть до сегодняшнего дня вращаются общественные дискуссии о путях развития страны.
Для истории срок небольшой, но с точки зрения современного человека споры, длящиеся без малого два столетия, – почти вечность. Тем удивительнее накал страстей, превративших дискуссии в противостояние, которое пронизывает все сферы современной жизни, от семьи до «высокой» политики. Сегодня «Запад» стал главным действующим лицом в отечественном публичном дискурсе; официально он признан антитезой «российской цивилизации» и все реже выступает в качестве примера для подражания. Более того, поскольку под «Западом» подразумеваются прежде всего страны – члены НАТО во главе с США, речь идет о сопернике и потенциальном противнике. А с противника, как известно, пример не берут, – во всяком случае, не говорят об этом вслух.
Тем не менее критические голоса из «прозападного» лагеря еще не смолкли окончательно. В числе их аргументов чаще других звучат следующие: во-первых, Россия в силу целого ряда причин безусловно является частью Европы, во-вторых, «Запад» – разный, нельзя противопоставлять Россию чему-то неопределенному. Однако в данном случае как раз можно. Хотя большинство дискутантов и не отдают себе в этом отчета, речь идет о дискурсивном «Западе», которому противопоставляется дискурсивная «Россия». Иными словами, используются некие культурные конструкты, которые в современных социальных и гуманитарных науках называют «концептами».
Столь востребованный сегодня в нашей стране социально-политический концепт «Запад» довольно сложен по своему составу и размыт: одновременно он может указывать на группу стран, на цивилизацию, на соответствующий образ жизни. В отличие от географического понятия, обозначающего направление и сторону света, концепт «Запад» имеет не только пространственное, но и временно́е измерение, поскольку включает в себя категории истории, современности и прогресса. Наполнен он и политическими коннотациями, отсылая к таким понятиям, как рациональность, свобода, демократия, конституционное правление, власть закона, средний класс, частная собственность, индивид и т.д. Обладая, как и любой концепт, ценностной и образно-метафорической составляющими, «Запад» приобрел в ХХ в. особенно сильную эмоциональную власть над умами. Он превратился в оружие политической борьбы, в инструмент для выковывания национальной идентичности, одновременно придав прежде универсальным идеалам пространственное измерение (наиболее очевидным примером является здесь «западная демократия») (29, c. 7–8). В зарубежных исследованиях истории России европоцентристский концепт «Запад» долгое время занимал центральное место, оказывая влияние на формирование определенных «историографических образов» нашей страны.
Надо сказать, что и сам концепт «Запад» имеет свою историю (и предысторию); на протяжении столетий все новые составляющие наслаивались друг на друга, образуя живое и изменчивое целое. Будучи по природе своей реляционным, т.е. существующим исключительно во взаимоотношениях с другими семантическими полями и категориями, «Запад» обретает свою дискурсивную силу и смысл благодаря «контрконцептам» – антонимам, которые носят асимметричный, подчиненный характер. Это прежде всего статичный, пассивный «Восток»; он выступает носителем негативных черт, не только противоположных, но и «низших» по отношению к активному, динамично развивающемуся рациональному «Западу». Однако немаловажными на разных этапах являлись и другие антонимы, в частности такие идеологически нагруженные, как «восточное варварство», «восточный деспотизм», «азиатский способ производства» (29, c. 8).
Механизм бинарных оппозиций, структурирующий картину мира (где «верх» не существует без «низа», «правое» предполагает наличие «левого»), считается ведущим при конструировании идентичностей стран, народов, континентов, которые вырабатываются посредством концептуальной пары «Я–Другой». Примечательно, что Россия (как территориально-государственное образование и как социально-политический концепт) играла в этом процессе далеко не последнюю роль. Для «Запада» в разные исторические периоды она выступала в качестве конституирующего значимого «Другого»: путем отталкивания в западном сознании строился позитивный «автообраз» (см., в частности: 5, с. 14–15).
Попробуем заняться изысканиями в духе «археологии знания» и «истории понятий», чтобы реконструировать процесс формирования концепта «Запад», одновременно подчеркнув его неразрывную связь с Россией. Эта сопряженность отражается, в частности, в тех историографических образах, которые возникали и тиражировались в зарубежной науке. Не следует при этом забывать, что не менее значимым (и даже главным) «Другим» для европейцев являлась Турция. На протяжении веков она играла ведущую роль в оппозиции «Запад–Восток» – основополагающей для европейского (а затем и американского) политического воображения.
Таким образом, концепт «Запад» будет рассмотрен в его взаимосвязи с «Востоком», где дискурсивная «Россия» занимала двойственное положение, находясь, как известно, одной ногой в Европе и другой – в Азии. Историко-археологический метод позволяет выявить точки возникновения таких значимых концептуальных пар, как «Европа–Азия», «цивилизация–варварство», «прогресс–отсталость», которые стали интегральными составляющими оппозиции «Запад–Восток». Целый ряд входящих в нее понятий возникли еще во времена Античности, активно использовались в Средние века и в период раннего Нового времени, хотя означали не совсем то, что сегодня. Сама же эта оппозиция начала оформляться лишь в XVIII в. и ассоциируется с эпохой Просвещения. При всей неизбежной упрощенности попытка историзации позволит, с одной стороны, продемонстрировать относительность вроде бы «извечных» категорий, с другой – понять что-то о современной ситуации, которую никак нельзя назвать заурядной.
Истоки оппозиции «Запад–Восток»
С эпохи Античности ведут свою историю названия частей света Европы и Азии. Их символические взаимосвязи формировались так же постепенно, как и границы. С накоплением новых, политических смыслов получает распространение противопоставление «Европа–Азия». Исследователи отмечают, что термин «Европа» вошел в употребление и приобрел свое политическое значение только во второй половине XVI в., когда активизируется процесс строительства европейской идентичности (46, с. 44; о формировании Восточной Европы см.: 3). Однако разделение на Запад и Восток в тот момент еще не было актуальным. Известно, что Ренессансу было присуще унаследованное от римлян разделение стран на цивилизованный Юг и варварский Север (включая Францию и Германию), и еще довольно долго Россию относили к странам Северной Европы вместе с Польшей, Швецией и Данией (3, с. 35–36). Отголоски этих воззрений прозвучали в 1894 г., когда основоположник американской русистики профессор Гарвардского университета А.К. Кулидж призвал коллег к изучению «истории Северной Европы» (23, с. 1137). Во второй половине ХХ в. разделение на Север и Юг начинает вновь обретать актуальность в процессе глобализации, правда, полюса на этой оси поменялись местами. Теперь развитому Северу – Европе и США – противостоит неразвитый (отсталый либо развивающийся) Юг, однако эта оппозиция пока не стала доминирующей.
Из сказанного можно заключить, что центральное место в европейском структурировании окружающего мира по географическому, казалось бы, признаку занимает идея «развитости». Она оформилась в виде оппозиции «цивилизация–варварство», позволяющей утвердить собственное превосходство над «менее культурными» народами. Однако несмотря на кажущуюся древность происхождения, эта оппозиция принадлежит Новому времени. В Античности варварам противопоставлялись «мы» – жители греческого полиса и Римской империи265265
Отмечается, что почти одновременно понятия «варвары» и «варварство» были сформулированы античной и китайской традициями. См.: 13, с. 5.
[Закрыть], а неологизм «цивилизация» появился лишь во второй половине XVIII в. почти одновременно во французском и английском языках. Тем не менее образ варваров, живущих на периферии античного мира (для греческих авторов это была прежде всего Скифия, для римлян – северные районы Европы, Барбарикум), вошел в европейскую традицию довольно рано и стал значимым «Другим» для построения идентичности европейцев. В Средние века она выковывалась в противостоянии угрозе, шедшей с востока.
«Восток» как противоположность «Западу» являл себя в Средние века в образе сарацина эпохи Крестовых походов, который затем уступил место турку-осману, теснившему дряхлую Византию. Различия тогда лежали не в сфере политики, а в области веры, и первые военные столкновения европейцев с османами способствовали сплочению христианского мира – воображаемой Respublica Christiana. Турецкую угрозу изображали в апокалиптических тонах как последнюю атаку ислама на христианство – что не мешало европейским государям заключать союзы с султаном против своих соперников. Интересно, что обе стороны относились к своему союзнику как к «низшему», т.е. варвару, и не приходится говорить о каком-то равноправии отношений, строившихся на оппозиции «христианство–ислам». В то же время репрезентации других «варваров», явившихся после открытия Нового Света, – американских индейцев – выглядят куда менее враждебными, что объясняют отсутствием серьезного соперничества как в сфере военно-политической, так и религиозной (46, с. 48–49). С точки зрения европейцев, индейцы были не столько варварами, сколько дикарями. Довольно скоро для их обозначения появляется формула «благородный дикарь» (noble savage, bon savage), получившая воплощение в художественной литературе.
Первые европейские описания Московии также относятся к эпохе Великих географических открытий и инспирированы не только появлением новой страны на европейской сцене, но и общим духом того времени с его интересом к далеким и ранее не известным землям. Довольно обширная Moscovitica, сложившаяся в течение XV–XVII вв., пестрит самыми экзотическими рассказами и сообщениями. Однако уже в этих текстах возникает совершенно определенный образ северной страны, которой управляет могущественный князь, а во всем покорное ему население, исповедующее восточную (греческую) веру, пребывает в дикости.
Московия не принадлежала к миру христианской Европы, а после отказа принять Флорентийскую унию и падения Константинополя в 1453 г. она становится фактически единственной независимой православной страной в мире. Исследователи отмечают, что вплоть до конца XVII в. Московия находилась на осадном положении: продолжались попытки папства вернуть ее в лоно христианства, Польско-Литовское государство теснило ее с запада, юг был блокирован турками-мусульманами, с севера выход к Балтийскому морю отрезан шведами (42, с. 19–20). Православие в этот период считалось «второсортным» христианством, объектом для прозелитизма, и Московию все чаще начинают описывать в терминах отсталости и дикости, ассоциируя ее с Азией: с одной стороны, с древней Скифией, с другой – с татарами, от которых московиты унаследовали политический деспотизм.
В авторитетных «Записках о Московии» Герберштейна (1549) впервые было засвидетельствовано очевидцем, что государство «управляется деспотом и населено рабами» (48, с. 118). Герберштейн прямо заявил о «московской тирании», что, по мнению одних исследователей, полностью соответствовало действительности, по мнению других – требовало критики, поскольку иностранцы не могли разглядеть реальности за фасадом «русского политического театра» (см.: 34; 40; 50). Тем не менее сочинение Герберштейна получило невиданную для своего века популярность и стало не только главным источником информации о Московии, но и «предоставило интерпретативную оптику, через которую люди позднего Ренессанса видели Россию» (48, с. 119).
Собственно говоря, эта «оптика» была предоставлена еще Аристотелем, который указал на несовместимость деспотизма со свободолюбивым характером греков и, напротив, на соответствие этой формы правления характеру варварских народов – прежде всего враждебных персов, якобы имевших врожденную склонность к подчинению. Аристотель считал деспотизм исключительно восточным феноменом, в отличие от тирании, которая являлась результатом вырождения монархии. К моменту путешествия Герберштейна в Московию политическая мысль Европы уже занималась разработкой концепции «восточного деспотизма», получившей столь широкое распространение гораздо позднее, в XIX – первой половине ХХ в.
Именно с этой точки зрения Макиавелли рассматривал возвысившуюся Османскую империю и указывал на полную несовместимость турецких форм и практик управления с французскими. Большой вклад в разработку концепции «восточного деспотизма» вносили путешественники в Персию, Индию, Китай и другие страны, расположенные восточнее Европы. Доставленный ими эмпирический материал способствовал выработке понятия «Восток», которое сыграло исключительно важную роль в самоидентификации Европы раннего Нового времени (см.: 44). В политической мысли европейцев, с одной стороны, утверждаются две тесно увязанные между собой концептуальные пары: «абсолютная монархия–республика» и «рабы–свободные граждане». С другой – формируется образ Востока как антитезы всему, что европейцы наблюдали вокруг себя.
Очевидно, что Россию можно было определить только с помощью первой части этих бинарных оппозиций – как абсолютную монархию, управлявшую подданными-рабами. Однако вопрос о ее принадлежности к Востоку, а тем более к Европе, оставался открытым – и прежде всего потому, что «Восточной Европы» как понятия во времена Герберштейна не существовало. Да и Герберштейн вслед за Страбоном проводил границу между Европой и Азией по реке Дон.
Век просвещенья и прогресса
Возникновение концепта «Восточная Европа» исследователи датируют эпохой Просвещения, когда образ Европы в представлении современников обрел некую целостную форму и смысл, утратив непосредственную зависимость от христианской религии (3, с. 39). Наряду с «мысленным разделением» европейского континента на Север и Юг (особенно актуального в период Северной войны) возникают первые признаки представлений о западной и восточной его частях, граница между которыми была достаточно подвижной, перемещаясь от Рейна к Эльбе и Висле. При этом Россия оказывалась самой восточной окраиной Европы, простиравшейся до Уральских гор (правда, довольно часто ей отказывали в праве считаться «Европой», подчеркивая типично «восточные» ее черты – в особенности в политическом устройстве). По словам Ларри Вульфа, Россию, как и Восточную Европу в целом, считали «объектом» конструирования, а не «субъектом». Ее «открывали, прописывали, к ней относились со снисхождением, ее помещали на карте и определяли в соответствии с теми же формулами: между Европой и Азией, между цивилизацией и варварством» (3, с. 51).
Концептуальная пара «цивилизация–варварство» является ключевой для эпохи Просвещения. Следует, однако, учитывать, что «цивилизация» в то время означала всего лишь «продвинутый уровень материального, интеллектуального и морального развития». Она понималась как кульминация движения от «дикости» (пример – американские индейцы) через «варварство» государств Азии и средневековой Европы к высокоразвитому образу правления (42, с. 28–29). В основе такого понимания лежала идея прогресса, зародившаяся в XVI–XVII вв. в период становления науки и светского мировоззрения, в борьбе с религиозной догматикой. Прогресс, означающий движение человечества вперед, от худшего к лучшему, стал основополагающей категорией, определившей систему координат модерного европейского сознания.
Принято считать, что идея общественного прогресса обязана своим происхождением, с одной стороны, обрушившейся на европейцев в эпоху Великих географических открытий информации о разнообразных народах и государствах, с другой – ощущению линейности времени, обострившемуся в ходе революционных потрясений (сначала в Нидерландах, а затем в Англии). Стремлением как-то осмыслить единство человечества и обусловлено «изобретение» стадиальности истории, получившее глубокую разработку в трудах французских просветителей (в частности, у Кондорсе). По общему мнению, на XVIII в. приходится триумф идеи прогресса, сформулированной в самом оптимистическом ключе: «все человеческие общества движутся естественно и закономерно вверх» – от нищеты, варварства, деспотизма и невежества к процветанию, цивилизации и разуму, «высшим проявлением которого является Наука» (53, с. 67). История обретает смысл и цель, универсальную для всего человечества – достижение счастья и благоденствия путем установления «разумного» общественного устройства (в той форме, которую полагали тогда разумной).
В соответствии с историческими воззрениями того времени считалось, что цивилизация «идет» сверху вниз, от просвещенной элиты к социальным низам. Кроме того, господствовало убеждение, что от варварства к цивилизации можно перейти в кратчайшие сроки, посредством энергичных усилий просвещенного правителя. Именно поэтому Петр I снискал восхищение Вольтера, который в своих «Истории Карла XII» (1731) и «Истории Российской империи в царствование Петра Великого» (1759–1763) представил Европе образ России, семимильными шагами движущейся к царству разума и прогресса (42, с. 27, 45). Вольтер изобразил Россию «пространством возможного», что во многом перекликалось с формулировкой Лейбница (Россия – tabula rasa) (15, с. 36).
Действительно, в результате военных успехов Петра Россия становится великой державой, а его реформы так трансформируют институты и социум, что новая империя приобретает форму «просвещенной монархии» – типичного для тогдашней Европы «Старого порядка» (Ancien regime). Россия на равных входит в семью европейских наций; ее репрезентации как «страны будущего», где на огромных просторах возможно проводить самые смелые эксперименты в области управления, получают распространение в европейском публичном дискурсе (46, с. 78–79). Хотя образ Петра как способного ученика (перенесенный затем и на страну в целом) надолго утвердился в политическом сознании Европы, достаточно часто звучали и сомнения в способности русских усвоить ценности европейской цивилизации. Намеченной Вольтером «оптимистической» линии противостояло мнение, высказанное Монтескье и развитое другими философами. Не отрицая того, что Россия представляла собой некую tabula rasa, они подчеркивали отсутствие в ней слишком многого, что обеспечило Европе ее успехи (15, с. 36).
Однако в XVIII в. приговор еще не был окончательным – речь скорее шла о выявлении отличий, которые ярче высвечивали новые (буржуазные) черты европейских обществ. Одно из них выделил Вольтер в своем «вымышленном путешествии» в земли Восточной Европы – отсталость, выражавшаяся тогда в бедности, необразованности и грубости нравов. Понятие отсталости еще не обрело тогда своей пары и служило лишь подтверждением более низкого статуса государств, расположенных к востоку от Эльбы. При этом им не было отказано в праве рано или поздно достичь тех же высот, что и остальная Европа (3, с. 155).
Еще целый ряд тропов (метафорических формул) о России, которые впоследствии получили статус историографических клише, ведет свое происхождение из века Просвещения. Это, конечно, идеи Руссо о том, что цивилизация была привнесена в страну, для этого еще не созревшую, что она носила имитационный характер, что Петр пытался сделать из дворян немцев либо англичан, а не цивилизованных русских. Однако мыслители и политики XVIII в. не только подчеркивали близость России к Азии (а иногда и прямо указывая на ее азиатское происхождение) и высказывали сомнения в возможности цивилизовать огромную империю, населенную «татарами» и «камчадалами». Во второй половине века возникает образ России как «бастиона», защищающего Европу от Азии, – в первую очередь от мусульманской угрозы (46, с. 81–83). Основания для этого имелись: Россия участвовала в двух войнах с Турцией и значительно расширила свои владения на юге главным образом за счет Крымского ханства. Процветавший среди философов-просветителей культ Екатерины II, начало которому положил Вольтер, способствовал восприятию ее побед в первой русско-турецкой войне как триумфа не только России, но и цивилизации. Самое масштабное расширение российских владений трактовалось как исполнение цивилизаторской миссии. Никогда больше Европа, замечает М. Малиа, не реагировала на имперскую экспансию России с большим безразличием (42, с. 76, 78).
В глазах европейского общественного мнения Россия была в тот период «своей», когда речь шла о политике, дипломатии, об аристократии и образе жизни двора, где царили те же моды, что и в Париже. В то время как путешественники указывали в своих записках на чрезвычайно тонкий слой цивилизации, из-под которого проступает дикость, философы-просветители предпочитали говорить о том, что в России существуют два разных народа – просвещенное дворянство и «варварское» крестьянство. Не достает лишь третьего сословия, которое их соединило бы (46, с. 95). Троп об «отсутствующем среднем классе» и о пропасти между цивилизованным дворянством и народом сначала станет общим местом французской литературы (вспомним мадам де Сталь), а затем ляжет в основу исторических интерпретаций.
На протяжении XVIII в. в Европе все возрастало ощущение своей «европейскости» и своего превосходства. Оно реализовалось в первую очередь в противостоянии с Турцией, неуклонно терявшей военную мощь. Турция не была принята на равных в семье европейских держав, альянсы с ней по-прежнему считались не совсем хорошим тоном. При всем тогдашнем увлечении Востоком турки считались варварами, а политическое устройство их страны – далеким от норм цивилизации. Тот факт, что Турция не только воевала с Европой, но и заключала с ней дипломатические и военные союзы (в частности, против наполеоновской Франции), лишь укреплял представление о ней как о «Другом» в европейском сознании (46, с. 52, 57, 79).
В XVIII в. теоретически оформляется концепция «восточного деспотизма», которая ассоциируется сегодня с именем Шарля Монтескье. Известно, что термин «восточный деспотизм» возник во Франции времен правления Людовика XIV: в «памфлетной войне», когда подверглись критике авторитарные интенции королевской власти, короля-Солнце часто сравнивали с Великим Моголом (8; 44). В «Персидских письмах» (1721) Монтескье противопоставлял Восток Европе, а затем в «Духе законов» (1748) дал определение восточного деспотизма как особой формы правления. Его отличительной чертой является отсутствие законов и «промежуточных властей» – опосредующих институций, имевшихся в Европе и сдерживавших там самовластье монархов: привилегий дворянства, независимости судов, вольностей городов, гильдий и корпораций (12, с. 78). Подчеркивая жестокость и невежество восточных деспотов, чья власть покоилась на религии и требовала безоговорочного подчинения подданных, Монтескье указал на прямую связь между рабством и деспотизмом, что стало одной из центральных идей Просвещения.
Критикуя государственное устройство Франции, Монтескье дал систематическое исследование деспотизма в его связах с климатом, религией, экономикой и правом. Оно стало самым авторитетным для своего времени, определив круг понятий на многие десятилетия вперед. Однако для нас более значимо восприятие труда Монтескье, которое довольно быстро свелось к противопоставлению европейской приверженности свободе и азиатского деспотизма (см. целый ряд работ, в том числе: 3, с. 39, 137, 139). Позднее, когда радикально изменился общий исторический контекст, это упрощенное представление утвердилось в качестве стереотипа. И если для Вольтера «просвещенный абсолютизм» (как антитеза «восточному деспотизму») являлся одной из величайших ценностей, то в следующем веке эту форму правления оценят иначе, окрестив «просвещенным деспотизмом» (42, с. 45).
Для историографии же особое значение имеет линия, намеченная Дидро, который, в сущности, явился автором «либерально-буржуазной репрезентации» России во Франции, а затем и во всем мире (15, с. 51). Акцентируя отсутствие в России важнейших элементов – «посреднических институтов», третьего сословия, гражданских прав и защиты собственности, Дидро тем самым выявил основные черты буржуазной идентичности Европы. Он создал некий эталон, перекочевавший в следующий век и с малыми дополнениями существующий до сих пор.
Долгий XIX век: «Запад» и «Россия»
Сегодня Великую Французскую революцию считают водоразделом, открывшим эпоху Нового времени. Тогда наряду с индустриализацией, урбанизацией, развитием науки и секуляризацией возник национализм как идеология и государственная практика. В первые несколько десятилетий XIX в. Европа переживала кардинальные изменения, и процесс дальнейшего выстраивания ее идентичности приобретал особую остроту.
В области международных отношений наблюдалась определенная преемственность с предыдущим веком. Турция по-прежнему являлась для Европы значимым «Другим» – Восточный вопрос оставался одним из узловых и в первой половине века. Однако после Крымской войны Османская империя официально принимается в сообщество европейских держав (что, правда, не означало ее равенства с «цивилизованными государствами»). Характерно, что сама Блистательная Порта перестает считать Европу чем-то «низшим», признав ее военное, экономическое и политическое превосходство, и включается в «гонку за лидером» (46, с. 55). К концу века Османская империя утрачивает стратегический вес. У России в XIX в. была другая история.
После наполеоновских войн, закончившихся триумфом русских войск и созданием Священного союза, проблема европейской идентичности оказалась тесно увязана с соображениями о балансе сил, где роль России была более чем существенной. Однако положение ее в семье европейских наций оставалось двусмысленным. Казаки, раскинувшие в 1814 г. свои походные шатры в сердце Франции, оживили в стратегическом дискурсе Европы образ «варвара у ворот». Двойственное положение России ощущалось и ее императорами: их поведение на международной арене создавало у союзников впечатление постоянных попыток акцентировать свою европейскую идентичность (там же, с. 91). Самый яркий пример – широко известное высказывание Николая I, назвавшего Турцию «больным», который отягощает Европу и чью смерть «нам» никак нельзя допустить. С той же целью Россией неустанно подчеркивается «восточный» характер Порты. Впрочем, стратегию «ориентализации Другого» использовали и в других странах, но уже по отношению к России: в Германии, прокладывавшей «особый путь» между Западом и Востоком (Восточной Европой), и в Польше, боровшейся за место под солнцем.
Процесс построения европейской идентичности в первой половине века протекал на фоне идеологической борьбы, отличавшейся высоким эмоциональным накалом. Развитие либерализма, возникновение классового мышления, рост коммунистической и социалистической идеологии резко меняют общественный климат. По наблюдению М. Малиа, и внешняя политика не была лишена своего рода экзальтации: соперничество на международной арене подавалось в духе манихейской борьбы добра со злом. Волны революций, захлестывавших Европу, привели к тому, что события в какой-то одной стране не могли более считаться ее внутренним делом, угрожая стабильности соседей. В этих условиях российское самодержавие, прежде воспринимавшееся как один из европейских «Старых режимов», начинает выглядеть анахронизмом. Стремление Николая I к реставрации подобных режимов по всей Европе убеждало европейцев в агрессивности «закоснелой русской реакции», превращавшейся в главного врага европейской свободы. В представлениях европейцев Россия обретает черты «чуждой цивилизации», противостоящей Европе и ее утверждающимся демократическим ценностям. Особенно много для внедрения в европейское общественное мнение негативных образов России сделала Польша после восстания 1830 г. Тогда же в Европе формулируется аксиома, что деспотизм и рабство внутри страны неизбежно порождают агрессию и внешнюю экспансию (42, с. 93–94, 98–99).
Отмечая, что в 1830–1840-е годы складывается набор (реперторий) стереотипов о России, доживших до сегодняшнего дня, исследователи выделяют три линии интерпретаций: консервативную, либеральную и социалистическую (радикальную). При этом часто упускается из виду то обстоятельство, что в контексте набиравшего силу национализма метафорические формулы века Просвещения отступают перед агрессивными этническими стереотипами, но все же не сдают своих позиций. В большей степени они сохраняются в либеральном дискурсе, хотя в этот период он и сосредоточен в основном на негативных оценках, фиксируя в России отсутствие конституционного строя и других важных примет «цивилизации».
Однако правит бал в европейском общественном мнении набирающая силу русофобия. Русофильские голоса станут слышны значительно позже, а пока лишь консерваторы-легитимисты в своих рассуждениях о России удовлетворяют ностальгию по Старому режиму, да открытие «русского мира» бароном Гакстгаузеном вносит новую романтическую ноту в европейский дискурс. Природа дискурсивных конструктов такова, что русскую крестьянскую общину одни трактовали как признак умилительной патриархальности, другие – как указание пути в социалистическое будущее, а третьи видели в этом реальную «коммунистическую угрозу» цивилизации. В целом же по «русскому вопросу» возникает единодушие, в первую очередь между консерваторами и левыми радикалами – достаточно вспомнить резкие высказывания Маркса. Российская «азиатчина», «восточные» корни самодержавия и «византийский» мессианизм – все эти преимущественно политические характеристики дополняются рассуждениями о природных свойствах славянства (хотя «националистический», или «расовый», дискурс сложится и проявит себя в полной мере только к концу века).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































