Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 6"
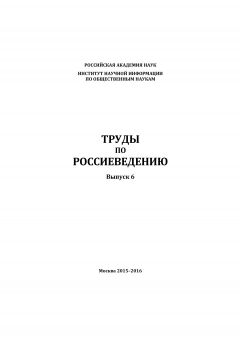
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 37 страниц)
В то же время не стоит забывать, что негативные репрезентации российской монархии отражали европейскую политическую повестку дня; их нельзя отрывать от общих размышлений о том, что такое Европа, что с ней происходит и куда она идет. В контексте усиливавшегося пессимизма относительно перспектив «дряхлой» Европы, отравленной индивидуализмом, продолжается дальнейшее осмысление понятия цивилизации. Франсуа Гизо в курсе лекций «История цивилизации в Европе», прочитанных в Сорбонне в 1828 г., фактически сформулировал то, что позднее начали называть «европоцентризмом». Указав, что все государства проходят один и тот же путь и в своем развитии стремятся к одной цели, он выстроил иерархию стран, каждая из которых оценивалась соответственно близости к идеалу – Франции. Таким образом, понятие «европейская цивилизация» приобретало черты политической идеологии (27, с. 56–57).
Кроме того, присущее веку Просвещения представление о Европе как одной универсальной цивилизации было дополнено в наступившую эпоху романтизма понятием о цивилизации как множественности особых национальных культур. Так, в осознававшей свою отсталость Германии национальная культура – «моральная, духовная и глубокая» – противопоставлялась «бездушной, рассудочной» цивилизации Англии и Франции (42, с. 107).
Категория прогресса дополнилась в XIX в. понятиями «эволюции» и «развития», в равной мере приложимыми к живой природе и к обществу. Однако в представлениях об эволюции общества особую роль играет категория свободы, которая при всем спектре ее значений, от абстрактного до утилитарного, понималась как противоположность рабству (и, следовательно, деспотизму). К середине века был выработан исторический канон, согласно которому тысячелетняя история Европы представляет собой восхождение человечества к свободе. Основные вехи на этом пути – феодализм и рыцарство, Ренессанс и Реформация. Затем в игру вступает средний класс (третье сословие) – главный двигатель общественного прогресса, обеспечивший Европе политическую свободу (конституционное правление). Россия никак не вписывалась в эту схему, выступая антитезой европейскому прогрессу. Ее чаще всего просто не упоминали – как Гегель или фон Ранке, который, собственно, и создал схему европейской «романо-германской» истории.
Параллельно происходит процесс трансформации пространственного понятия «запад» в социально-политический концепт «Запад», подразумевавший в XIX в. в основном Западную Европу266266
Характерно, что пространственное измерение постоянно присутствует в политическом дискурсе – взять хотя бы определение цивилизации как сочетания «английской коммерции и французской свободы». В годы Крымской войны входит в общее употребление термин «западные державы», закрепивший особую географическую общность в сфере международных отношений.
[Закрыть]. В ее противостоянии с остальным миром формировались такие концептуальные пары, как «Запад–Восток» (в которой не только Россия, но и Пруссия, и Австрия зачастую занимали промежуточное положение между «истинным Западом» и «истинным Востоком» – прежде всего Турцией) и «Россия–Европа» (особенно актуальная для российских мыслителей). Нашумевшая книга Алексиса де Токвиля обратила внимание общественного мнения на еще одного поднимающегося игрока на международной арене – Соединенные Штаты Америки. Вопрос об их включении в семью цивилизованных стран уже дебатировался политиками и публицистами (10). Противопоставляя Америку и Россию в своей известной формуле («В Америке в основе деятельности лежит свобода, в России – рабство»), Токвиль при этом обнаружил много сходства между двумя великими странами, каждой из которых «провидение втайне уготовило стать хозяйкою половины мира» (10, с. 296). Однако присутствие Америки в европейском дискурсе было пока минимальным, в то время как России не просто отводилось ведущее место антитезы: фактически она находилась в самой гуще дискурсивных «событий».
Дискурсивное пространство Европы было тогда единым; циркуляция идей, общих мест и ходячих мнений шла с большой интенсивностью, создавая свои смыслы в каждой национальной культуре. Все участники этого взаимообмена были значимы, однако следует отметить особую роль Германии в формировании как русской мысли267267
См. работы Н. Рязановского, А. Валицкого, А.Л. Зорина и др. Однако идеи о «загнивающем Западе», активно проникавшие в русский дискурс из Западной Европы, были почерпнуты главным образом из консервативной французской прессы «второго эшелона» (4, с. 26–76).
[Закрыть], так и общеевропейских представлений о том, что есть «Запад». Наложила свой отпечаток и англо-французская русофобия, берущая, по мнению Р. Баваджа, начало с 1820-х годов и унаследованная веком двадцатым. Критика России активно способствовала кристаллизации понятия «Запад» в его социально-политической ипостаси (18).
Существует несколько интерпретаций взаимоотношений России и «Запада». Одни исследователи полагали, что «русские с удивительной легкостью заимствовали мнения о себе западных наблюдателей и применяли их к анализу собственной страны» (48, с. 111). Другие писали о том, что «Запад» как точка отсчета настолько прочно вошел в историю и культуру России, что его уже невозможно выбросить вон (19, с. 556). Третья интерпретация указывает на русское происхождение концепта «Запад», возникшего в ходе жесткой критики «загнивающей» Европы, которая была услышана ее адресатами268268
Считается, что первым термин «Запад» как обозначение некоего культурно-исторического единства, противоположного «России», употребил в своем «Философическом письме» Чаадаев, заменив им географически неоднозначный термин «Европа» (35, с. 33).
[Закрыть]. Однако скорее речь в данном случае должна идти о циркуляции идей – например, имеются свидетельства о русских вдохновителях знаменитой книги маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году», и не только о Чаадаеве (см.: 9).
Датируя возникновение социально-политического концепта «Запад» XIX в., исследователи указывают на такие узловые моменты его выработки, как дискуссии славянофилов и западников в России, Крымская (Восточная) война и 1870-е годы (подъем идеологии панславизма). При этом все сходятся во мнении, что споры о Западе и взаимоотношениях с ним являлись важнейшей составляющей в формировании русской идентичности в век национализма. В ходе этих дебатов вырабатывается основополагающее противопоставление русской «веры» и «души» западной «рациональности» и «расчетливости», формируется миф о коллективизме русского народа («соборности») в противовес европейскому «индивидуализму». В то же время следует подчеркнуть, что русская идентичность выковывалась параллельно с европейской, во взаимодействии с ней и во взаимоотталкивании: с одной стороны, по тем же законам бинарных оппозиций, которые современные исследователи берут за основу своего анализа, с другой – в диалоге. Соответственно выстраивалась и схема русской истории, которая основывалась на тех же категориях цивилизации и прогресса, понимаемого как движение вперед.
В 1830–1850-е годы получают дополнительную разработку другие компоненты концепта «Запад». Понятие свободы конкретизируется в токвилевской модели либеральной демократии, которая принимает очертания актуальной цели. Для ее достижения виделись два пути: эволюционный (англосаксонский, и прежде всего американский) и революционный (европейский континентальный). Предполагалось, что ассоциации граждан по американскому образцу – зачатки гражданского общества – возьмут на себя функции защиты индивида от государства и станут своего рода школой свободы (12, с. 79). Свобода индивида провозглашалась высшей целью общественного прогресса и ассоциировалась с Америкой (где в это время благополучно существовало рабство в самом своем классическом, «плантаторском» варианте).
Основополагающее место в концепте «Запад» заняла частная собственность – во многом благодаря Марксовой теории об азиатском способе производства. Продолжая линию Монтескье и Гегеля, автор «Британского правления в Индии» пришел к выводу, что отсутствие права частной собственности (поскольку всем владеет суверен) является основой политической системы восточного деспотизма и ведет к стагнации. Теория Маркса придала прогрессу материальное измерение, которое станет особенно актуальным в следующем веке.
Однако наиболее влиятельным в середине XIX в. было учение Огюста Конта об универсальных законах общественного развития, в котором институт частной собственности занимал центральное положение. Конт полагал, что на смену отсталым средневековым крестьянским обществам, погрязшим в невежестве и религиозных предрассудках, придет царство «экспертов», поставивших себе задачей создание процветающего индустриального рая для индивидов-собственников. Образованная элита станет авангардом, самой судьбой предназначенным для того, чтобы поднять мир из средневековой отсталости и повсеместно победить «врагов Разума» (38, c. 94–95). Рациональный экономический строй, организованный на научных началах под лозунгом «Порядок и Прогресс», был признан той нормой, к которой с разной скоростью движутся все участники мирового исторического процесса.
Понимание западной цивилизации как совокупности «европейских ценностей и институтов» включало в себя также идеи о господстве права (власть закона – rule of law) и правовом государстве. Во второй половине XIX в. правопорядок (законоправство) обретает статус некоего «золотого стандарта» цивилизованности, который вырабатывали и закрепляли юристы – специалисты в области активно развивавшегося международного права. Требования к государствам, претендующим на членство в европейском «клубе наций», включали в себя защиту основных прав индивида (жизни, достоинства, свободы передвижения, торговли и религии); наличие организованной и эффективной бюрократии; справедливую судебную систему, развитые кодексы уголовного и публичного права и многое другое (в том числе объявление рабства вне закона) (46, c. 56).
Надо сказать, что после Великих реформ Россия вполне соответствовала этим достаточно размытым критериям. «Рабство» – крепостное право – «пало без единого выстрела» (в отличие от Америки). Были созданы новые суды, система земского и городского самоуправления, вместо рекрутчины введена всесословная воинская повинность, делали большие успехи наука и образование. Перспективы сближения России с европейским миром оцениваются все более благосклонно, особенно в свете достижений русской культуры, которая выходит в пореформенный период на мировую арену. Развитие революционного движения в России, которое стало главной темой для обсуждения европейским общественным мнением в 1870–1880-е годы, также подчеркивало, что империя идет тем же путем, что и другие страны Европы.
Тогда же появляются первые, как считается, профессиональные научные работы, посвященные России. Наиболее известные – «Россия» сэра Уоллеса Маккензи и «Империя царей и русские» Анатоля Леруа-Больё, которые вошли в золотой фонд россиеведения и стали важным источником для зарубежных исследователей императорской России (41; 56)269269
Известно, что труд Леруа-Больё, особенно второй и третий тома, запрещенные в России цензурой, использовались и цитировались Джаншиевым, Корниловым, Кояловичем (14, с. 7).
[Закрыть]. Оба автора начинают историю России с Петра I и рассматривают ее с точки зрения «догоняющего развития», как сказали бы сегодня. Взвешивая шансы России догнать Европу, и Маккензи, и Леруа-Больё расценивают их как весьма благоприятные. По их мнению, Великие реформы значительно приблизили Россию к этой цели, но не позволили окончательно достичь ее, поскольку впереди – трудная задача введения народного представительства и долгие годы обучения парламентаризму.
Удивляющие современных исследователей благожелательность и взвешенность новых исторических сочинений о России были обусловлены несколькими факторами. Во-первых, успехами страны, как экономическими – планы строительства Транссибирской магистрали поражали воображение европейцев, – так и в области культуры. Во-вторых, распространением информации о России, нараставшей в геометрической прогрессии: ее посещают европейцы и американцы, издаются многочисленные описания и записки путешественников, печатаются корреспонденции. В 1870-е годы «загадочная русская душа» заговорила на английском, французском, немецком и других языках в романах Толстого и Достоевского. В-третьих, изменяется система международных отношений в Европе, где возникают три зоны: «зрелые либеральные государства» (Англия, Франция и все теснее примыкающие к ним Соединенные Штаты) – «истинный Запад», по словам Мартина Малиа; «смешанный мир», получивший вскоре название Средней Европы; и реформированная, но по-прежнему старорежимная Россия. Фактически, ей теперь должны были бы противостоять два «Запада», ближний и дальний, однако острота противостояния явно снижается (42, с. 164).
В последней трети XIX в. Россия перестает быть конституирующим «Другим» для Европы. Эту роль в век империализма и первой волны глобализации начинают играть колонии (а точнее, информация о них, поступавшая от востоковедов, о которых писал в своей знаменитой работе Эдвард Саид) (52)270270
Первый конгресс востоковедов состоялся в 1873 г. в Париже.
[Закрыть]. Присоединив огромные пространства Средней Азии, Российская империя осуществляла там «цивилизаторскую миссию» того же рода, что Британия – в Индии, а Франция – в Северной Африке. В изменившемся контексте даже очередное обострение Восточного вопроса – Восточный кризис и русско-турецкая война 1877–1878 гг. – не вызвало по-настоящему серьезных всплесков русофобии. Правда, идеи панславизма предоставили новые козыри тем, кто боялся «русского мессианства». Внесли они свой вклад и в развитие расового дискурса, главным образом в Германии, где идеи о «дегенеративном славянстве», которое следует обуздать (а в перспективе и поработить), получают все более широкое хождение271271
Характерно, что расовый дискурс наиболее активно развивался в только что объединенных, новых государствах Германии и Италии, а вовсе не в «старых» империях, таких как Британия или Франция.
[Закрыть].
В этот период концепт «Запад» отходит в европейском дискурсе на задний план272272
В целом дискурсивная роль «Запада» и не была еще столь сильна, как в ХХ в. Подсчитано, что в своей трехтомной «Империи царей» Леруа-Больё гораздо чаще называет Россию северной, а не восточной страной (16, с. 606–607).
[Закрыть], а на рубеже веков обретает и новую конфигурацию. Смещаются акценты, изменяются вес и значение таких основополагающих его компонентов, как цивилизация и прогресс, пополняется он и новыми понятиями, которые также носят нормативный и этически нагруженный характер. Теряет свою актуальность оппозиция «цивилизация/варварство» (правда, ненадолго – до начала Первой мировой войны). Зато в англоязычном мире на пороге ХХ в. получает все более широкое распространение идея «западной цивилизации», не лишенная мессианского колорита. Она автоматически отодвигала в тень концепт «Европа» и подчеркивала значимость Британской империи, всегда занимавшей особое положение по отношению к «Континенту» (30, с. 57).
Одновременно тема прогресса выходит на первый план. Она становится своего рода идеей фикс в эпоху «высокой» модерности, когда стремительно развивается наука, транспортная революция делает доступными самые отдаленные уголки земного шара, индустриализация и урбанизация кардинально меняют мир. Категория прогресса приобретает новое измерение – «научно-техническое», неразрывно связанное при этом с улучшением условий жизни людей и с понятием «современность» (modernity). Ход времени невероятно ускоряется, возникает своего рода одержимость современностью, которая противополагается «традиции» – этому препятствию на пути к светлому будущему. При всей критике «темных сторон модерности» и «индивидуализма современного человека» повсеместно присутствует общее ощущение неумолимого движения человечества вперед – и страх отставания (см.: 17). Именно в эпоху высокой модерности становится крайне актуальным концепт отсталости как противоположности развитию. Приняв форму категорического императива, он во многом предопределит дальнейший ход истории (особенно в России).
Концептуальные пары «отсталость–развитие», «традиция–современность», «невежество–просвещенность», в идеологической сфере предстающие как «реакция–прогресс», образуют своего рода понятийный каркас, структурирующий публичный дискурс рубежа веков. В этом контексте и рождается идея модернизации, отодвигая в сторону понятие «европеизации». Эстер Кингстон-Манн выдвинула гипотезу о складывании в России начала ХХ в. специфической «культуры модернизации», не признающей идеологических барьеров и определявшей конфигурацию общественных дискуссий в стране. Подчеркивая параллели между Россией и Западом, их участники усматривали в отсталом «средневековом» русском крестьянстве главное препятствие прогрессу, а в утверждении и защите права частной собственности – основу для успешной модернизации и развития (38, с. 4).
Частная собственность все теснее коррелирует со свободой, ассоциирующейся с «Западом», – свободой предпринимательства и свободой личности одновременно. Экономика повсеместно выдвигается на первый план, даже в сфере международных отношений дискуссии вращаются вокруг экономических вопросов (в повестке дня, говоря словами Ленина, – «империализм как высшая стадия капитализма»). Наряду с частной собственностью еще одним «двигателем прогресса» начинают признавать национальное государство, легитимность которого покоится на принципе гражданства. Его актуальность и «нормативность» вскоре подтвердились фактом распада континентальных империй (Российской, Османской и Габсбургской), т.е. «архаических» форм, не соответствовавших критериям «современности».
Таким образом, в начале ХХ в. сложился определенный набор понятий, описывающих современность в ее тесной связи с прошлым и будущим: прогресс (научно-технический и материальный), права и свободы личности, частная собственность, свобода предпринимательства, национальное государство, верховенство закона, конституционализм. Все они являлись пространственно-ориентированными и указывали на запад – там находились страны, обладавшие перечисленными признаками современности и признанные маяком для человечества. В совокупности эти понятия определили содержание социально-политического концепта «Запад»273273
Как отмечают исследователи, понятие «западной демократии» кристаллизуется позднее, в окопах Первой мировой (см.: 29, с. 17).
[Закрыть]. Его притягательность заключалась в способности упрощать сложное, сводя разнообразие народов и культур к общему знаменателю абстрактных, но всем понятных «европейских» норм и ценностей, а также в его объединительном потенциале, позволяющем сплотиться как вокруг этих ценностей, так и против того или иного «врага». Однако свою непреодолимую силу концепт «Запад» проявит гораздо позже, под влиянием новых исторических обстоятельств и с выходом на международную арену нового игрока – Соединенных Штатов Америки.
Короткий ХХ век: Борьба и самоопределение двух систем
Начав после Первой мировой войны преодолевать свою традиционную позицию изоляционистской самодостаточности, США по окончании Второй мировой войны входят на правах «первого среди равных» в Атлантический мир. Отныне он и символизирует «западную цивилизацию».
В межвоенный период продолжалось постепенное сближение Англии и США, и в «воображаемой географии» двух стран формируется то, что стали называть «Англосферой». Этому способствовали многие факторы, в том числе обретение Соединенными Штатами статуса экономической мировой державы, а также бурное развитие технологий в области транспорта и коммуникаций, что резко сократило прежде труднопреодолимую дистанцию между континентами (18, с. 17–18). Однако для того, чтобы Атлантика превратилась из «границы» между Европой и Америкой в «мост», их соединяющий (54, c. 13), потребовалось пережить Вторую мировую войну. Охватив оба полушария, она просто вынуждала мыслить глобально. В военные годы значительно расширяются горизонты прежде достаточно провинциального, сосредоточенного на себе американского общества, меняется его представление о самом себе. На смену американской исключительности (exceptionalism) приходит идеология либерального универсализма, начинается активный поиск общих черт, способных объединить союзников и противников в новом послевоенном мировом порядке, строительство которого намеревались возглавить США (см., в частности: 26).
В 1940-е годы начинает воплощаться в жизнь идея «Атлантического сообщества» (Atlantic community). На дискурсивном уровне это означало переформатирование концепта «Запад», определявшего к этому времени систему представлений и взаимоотношений в мире. Отныне центром силы должна была стать Америка, а не европейские страны. Она приложила массу усилий для того, чтобы кажущийся сегодня «естественным» термин «Атлантическое сообщество» стал реальностью. Его рождение явилось результатом целенаправленной внутренней и внешней политики США, боровшихся за политическую, военную, экономическую и культурную гегемонию в рамках этого воображаемого «Запада» (43, с. 72).
Процесс построения нового сообщества, увенчавшийся созданием Североатлантического союза (НАТО) в апреле 1949 г., был непростым и, как все яснее становится с увеличением временной дистанции, болезненным для Соединенных Штатов. Еще более тяжелым он был для разрушенной войной Европы, где, собственно, и прокладывались новые географические, политические и идеологические границы между «Западом» и «Востоком». Понадобились большая дипломатическая и разведывательная работа, многочисленные консультации, взаимные демарши и уступки, прежде чем стало окончательно ясно, что Советский Союз действительно остается по другую сторону «железного занавеса», о падении которого возвестил Черчилль в своей фултонской речи. Холодная война расколола бывших союзников в борьбе с фашизмом, да и весь мир, на два лагеря: капиталистический Запад и коммунистический Восток.
Конечно, антитеза «капитализм–коммунизм» стала реальностью в международной политике еще в межвоенный период, но тогда она была наиболее значима для СССР, строившего социализм в отдельно взятой стране (см., например: 21), и для Германии. В государствах, которые традиционно означали либеральный «Запад», в 1930-е годы оформляется другая бинарная оппозиция: идеологическое противостояние «свободного мира» и тоталитаризма – тогда, как пишет Питер Новик, в его нацистском воплощении (47, с. 310). «Русская» и «германская» проблемы были тогда внутренним делом Европы, еще представлявшей собой единое культурное и дискурсивное пространство, и вносили раскол в «европейскую цивилизацию». После войны, по общему мнению, решать эти проблемы были в состоянии только Соединенные Штаты (54, с. 14).
Одним из инструментов консолидации с Европой американцы (и прежде всего президент Трумэн) избрали христианство как фактор, способный объединить западный мир путем жесткого размежевания с СССР – этой атеистической «империей зла». Стратегия оказалась успешной, о чем среди прочего свидетельствовала победа христианско-демократических партий в европейских странах. Использование христианства в риторике холодной войны позволило значительно драматизировать ситуацию в духе манихейского конфликта добра и зла и в конечном итоге привело к политизации христианской доктрины (39, с. 412). Таким образом, место старинной концептуальной пары «христианство–ислам» заняла асимметричная оппозиция «христианство–атеизм». Ее вторая, «слабая», т.е. негативно заряженная часть, относилась к «Востоку», получившему теперь новую конфигурацию: он включил в себя СССР и государства, входившие в сферу его влияния.
Общее наследие стран, лежащих по разные стороны Атлантики, не исчерпывалось христианством: Америка начинает подавать себя как наследницу «великих принципов западной цивилизации». При этом усилия американских политиков и публицистов в большей степени были направлены вовнутрь, на изменение представлений американцев о себе и месте своей страны в мире. Наряду с пропагандистскими публикациями в прессе в учебную программу университетов в качестве обязательного вводится курс «западная цивилизация», демонстрирующий органическое единство Нового и Старого Света. Если раньше американцы тщательно фиксировали свои отличия от Европы, выстраивая собственную идентичность как антитезу Старому Свету (хотя и считали Америку «кульминацией давней и великой европейской традиции») (45, с. 4), то теперь проводится мысль о единстве истории и судьбы. Более того, ставится знак равенства между антигитлеровской коалицией и западной цивилизацией. Это дало основания для исключения бывшего союзника – СССР, который, как было уже признано, к этой цивилизации не принадлежал (47, с. 317). Советский Союз стали считать новейшим и наиболее опасным проявлением вековечного русского деспотизма, на основании чего делался вывод о неизбежности российского и, следовательно, советского экспансионизма.
СССР тоже не оставался в долгу: в Европе и Азии, а затем и по всему миру шла огромная работа по созданию «социалистического лагеря» (из стран, которые на Западе стали называть государствами–сателлитами Советского Союза). Драматическая история формирования «Восточного блока» уже хорошо известна, как и та цена, которую заплатило за советизацию население этих стран. Здесь же хотелось бы подчеркнуть симметричность не столько геополитических (НАТО / Варшавский договор), сколько идеологических реалий, не ограничиваясь при этом областью борьбы с инакомыслием (маккартизм / кампания против космополитизма и низкопоклонства перед Западом). И в США, и в Советском Союзе организуется целая индустрия по взаимному обличению. Причем центральное место в идеологическом оформлении соревнования двух систем заняла история – как наука и как память о прошлом.
Начавшееся противостояние двух держав в биполярном мире воспринималось тогда многими как проявление более глубокой, фундаментальной конфронтации Востока и Запада, коренившейся в далеком прошлом. Россия, а точнее, ее преемник – Советский Союз – вновь начинает играть роль значимого «Другого». Восприятие России как олицетворения «Востока» помогало сформировать собственный образ и понимание себя как «Запада». В первые послевоенные годы «ориентализация» России (и Восточной Европы) стала господствующей метафорой, во многом определив процесс самоидентификации Западной Европы и США в условиях конфронтации с восточным соседом и соперником (32, с. 451). Большое значение для формирования публичного дискурса имели работы эмигрантов из Восточной Европы, в том числе и переводные, активно издававшиеся в Великобритании и США (например: 33; 37). По наблюдению Марка фон Хагена, именно эмигранты насаждали убежденность в том, что Азия начинается в России. При этом восточной границей Европы назывались Германия, Польша или Украина – в зависимости от того, откуда прибыл эмигрант-ученый (32, с. 450).
Особую популярность приобрела тогда теория восточного деспотизма. Ее «реинкарнация» наиболее фундаментально представлена в книге Карла Виттфогеля – бывшего члена Коммунистической партии Германии, после эмиграции в США ставшего яростным антикоммунистом (57). Виттфогель делил общества на полицентричные «свободные» западного типа, основанные на праве частной собственности, и на моноцентричные восточные – деспотические, в которых права и свободы личности, в первую очередь право собственности, неуклонно подавляются. В нагруженной политическими штампами и предрассудками эпохи холодной войны книге Виттфогеля явственно проглядывают и опасения Запада по отношению к СССР и его политике в странах Восточного блока («бацилла восточного деспотизма»), и неприятие «тоталитарной» природы царского и советского режимов. Издавна бытовавшие на Западе представления о российской «азиатчине» получили здесь «строго научное» обоснование.
Еще больший вес в первой фазе холодной войны имела теория тоталитаризма. Составляя фундамент «контридеологии свободного мира», она служила своего рода мобилизующим лозунгом и военизировала общественное сознание. В 1940–1960-е годы тоталитарная модель претендовала на господствующее положение и в научных исследованиях России / СССР, но специалистам довольно быстро стала ясна ее ограниченная ценность (47, с. 281).
Антисоветизм второй половины 1940-х – начала 1950-х годов во многом напоминал русофобию 1830–1840-х, однако с одним существенным отличием: в США, а затем и в Европе начинает развиваться серьезное профессиональное знание о России. Глубокое изучение прошлого и настоящего Советского Союза отвечало первостепенным национальным интересам США, и во второй половине 1940-х годов на базе уже существовавших в университетах славистических структур и параллельно с ними стали открываться крупные научные центры. В 1946 г. организуется Русский институт в Колумбийском университете (позднее Гарримановский), а в 1948 г. – Русский исследовательский центр в Гарварде, послужившие образцами для других американских университетов. Большую роль в них играли русские эмигранты, передававшие традиции русской дореволюционной историографии своим американским ученикам. К 1964 г. было уже 33 таких центра, и их количество продолжало расти; докторские и магистерские диссертации исчислялись сотнями (25, с. 82–83).
Изучение Советского Союза и стран Советского блока велось в рамках так называемых региональных исследований (area studies) – междисциплинарных по своему характеру, построенных на цивилизационном подходе. Новая дисциплина Russian studies была нацелена не только на анализ политики СССР, но и на исследование страны в целом: народа и его прошлого, экономики и социальной структуры, языка и литературы, властителей и идей. Начала она укореняться и в Европе, в особенности в ФРГ, где центры по исследованию СССР и Восточной Европы выполняли функцию форпоста в идеологическом противостоянии с ГДР (36, с. 46).
Создавая новое научное знание о почти не знакомой и полностью закрытой для них стране, представители первого послевоенного поколения русистов стремились преодолеть вековые стереотипы о России и русском характере, которые пошли в ход в этот период (в частности, наиболее одиозные «формулы» де Кюстина). Известно, что лекция британского антрополога Джеффри Горера, автора печально знаменитой теории о пеленании русских младенцев, была резко раскритикована в Гарварде (25, с. 47), что не помешало ему, однако же, опубликовать в 1949 г. и множество раз переиздать книгу, получившую самую широкую популярность (31). К сожалению, его самые яркие выводы о причинах пассивности и мазохизма русского народа были с готовностью восприняты публикой, видевшей в России полную противоположность Западу.
Необыкновенную жизнеспособность обыденного стереотипа приобрела и доктрина «Москва – Третий Рим». Она оказалась исключительно востребованной в годы, когда американский мессианизм – убежденность в своем предназначении нести свет свободы во все страны мира – начинал разворачиваться в глобальном масштабе. Крайне популярная в послевоенной советологии (наряду с опричниной Ивана Грозного и нечаевщиной) концепция «Москва – Третий Рим» служила тогда объяснением российского мессианства и имперского экспансионизма. Это «оружие холодной войны» критиковали многие – от русских историков-эмигрантов (М.М. Карпович, Н.И. Ульянов) и советских историков (включая Д.С. Лихачева) до американца Маршалла По (6; 7; 11; 49 и др.). Последний показал, что в конце XVII в. упоминания о «Третьем Риме» исчезают из русской мысли, чтобы появиться уже в 1860-е годы, когда впервые были опубликованы соответствующие источники. Тогда русские историки и подняли риторическую фигуру, использованную монахом Филофеем в послании Василию III, на уровень идеологической доктрины. Идея приобрела политическое звучание в контексте Восточного кризиса и расцвета панславизма, а к концу XIX в. «мессианское» понимание идеи «Москва – Третий Рим» становится уже общим местом.
Не оказав непосредственного влияния на внешнюю политику Российской империи, эта доктрина послужила материалом для строительства философских систем Владимира Соловьева и Николая Бердяева. В них идея «Москва – Третий Рим» трактовалась как свидетельство исконного «русского мессианства», ключ к пониманию национальной психологии. После революции Бердяев выдвинул тезис о том, что истоки большевизма следует искать не только в марксизме, но и в русском мессианстве, что и было подхвачено после Второй мировой войны на Западе наиболее консервативными кругами. Объяснение «советского империализма» давними претензиями России на роль «Третьего Рима» в те годы можно было встретить и в ученых трудах, и в политической публицистике, звучало оно и в Госдепартаменте (49, с. 427). Хотя историки и развенчали эту «теорию», она до сих пор остается востребованной журналистами и политическими комментаторами, оставаясь крайне полезным риторическим инструментом.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































