Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 6"
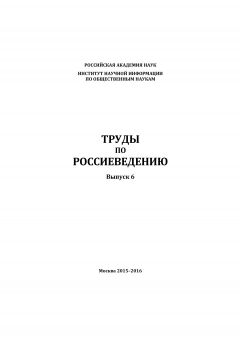
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 37 страниц)
В отличие от «патриотичных» горожан деревенские призывники демонстрировали нечто противоположное: пьяные бунты и погромы, сопровождавшиеся крайним озлоблением, социальными угрозами и поношениями «царя-батюшки», происходили повсеместно (7, с. 19–21, 37–38; 63, с. 32, 96, 106)237237
Некоторые отмечали, что во время русско-японской войны мобилизованные буйствовали еще больше (см.: 56, с. 80).
[Закрыть]. (А между тем журналисты и писатели рисовали совсем иную картину238238
«На лицах шагающих мужиков суровая маска – ничего не прочесть… Лица запасных сосредоточено-деловиты. С такими лицами ходят в церковь… Не гудят трактиры, нет поросячьего визга гармоники… Нет радости, но и нет тревоги…», – писал Иван Шмелев, подчеркивая при этом, что таким настроением охвачены все сословия (90, с. 8–10).
[Закрыть].) И дело было не только в недовольстве запретом продажи спиртного, который воспринимался как покушение на вековой обычай и ритуал. Не стоит думать, что призыв на войну всколыхнул привычное недовольство помещиками и купцами, поддерживаемое социалистической пропагандой. В глубине души архаичных социумов развернулся своего рода поиск «главного врага». Последний был необходим традиционалистскому сознанию для восстановления окончательно порушенной войной картины мира, и без того бывшей «слишком сложной».
В этом контексте следует воспринимать и недолгие шапкозакидательские настроения на фронте. В октябре 1914 г. некий «Жорик» сообщал в Москву о том, что, несмотря на громадные потери, «все воюют с полным сознанием своего боевого долга» и готовы «мстить за наших братьев – славян…». Возможно, это была обычная бравада – кавалер «рисовался» перед дамой. Конечно, сказывалось и влияние показного патриотизма. Сходным образом, в ноябре 1914 г. некий нижний чин писал в Пензу: «Умру около своего 5-го орудия за Царя и Отечество и за Русь, святую Веру» (60, с. 106, 107, 111). Пропаганда подспудно навязывала «стандартную» фразеологию.
Куда более симптоматичны противоположные высказывания. Член Государственной думы большевик Г.И. Петровский в частном письме уверял, что в среде рабочих «отношение к войне самое отрицательное», рабочие, сознавая свою обездоленность, говорят, «какой патриотизм может быть у нас»239239
ГА РФ.Ф. 102. Оп. 265. Д. 977. Л. 2.
[Закрыть]. Разумеется, здесь не обошлось без попытки выдать желаемое за действительное. Но рассчитывать на устойчивое чувство патриотизма в рабочей среде, из которой власть стала усердно извлекать «пушечное мясо», не приходилось. Позднее некоторые наблюдатели отмечали, что русский патриотизм в среде офицеров подменялся «полковым патриотизмом, наподобие губернского у мужиков» (52, с. 317). Можно сказать, что место государственного «коммуникативного разума» у подданного империи занял своего рода сословно-корпоративистский инстинкт.
В начале ноября 1914 г. некий А.Е. Лихачев из запасного (что характерно!) пехотного батальона сетовал, что солдат «как скотину ведут на бойню». Здесь, возможно, сказалось влияние пацифистской пропаганды, сомкнувшееся с личными страхами. Порой непривычное психическое и физическое утомление порождало настоящее отчаяние. Один офицер после недолгого пребывания на передовой жаловался на расшатанные нервы, просился в тыл, аргументируя это тем, что «есть тысячи офицеров, которые еще не нюхали порох, а после войны будут говорить, что они сражались». Со временем навязчивая пропаганда могла породить эмоции, противоположные ожидаемым. В конце 1914 г. некий Штеп, старший врач одного из пехотных полков, писал в Москву: «Как попадается нам московская или петроградская газета, мы зеленеем от злости, читая бумажно-патриотические статьи против заключения мира да еще со ссылкой на армию, которая, дескать, горит желанием воевать…» (60, с. 110, 111, 115, 489, 635).
В любом случае следует различать показную (стадную) реакцию на угрожающее событие и естественную (личную). Они характерны для любых сообществ, ибо связаны с социально-биологической первоосновой человеческого существования. Зажиточные австрийские крестьяне в начале войны больше всего волновались за судьбы своего хозяйства (48, с. 19). В Германии шовинистические восторги демонстрировали преимущественно бюргеры и лица свободных профессий, а в целом событиями управлял глубинный страх, запрятанный за карнавальной формой манифестаций (97, с. 73–83, 96). В русской деревне страх не таили: сообщали, что там «крики, стоны, рыдания не прекращаются». Звучало и недовольство тем, что «берут ужасно много»240240
ГА РФ.Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 14 (письмо «Вари» из Москвы было адресовано А. Рубакину во Францию).
[Закрыть]. Возможно, была подспудная надежда, что кого-то мобилизация обойдет стороной и деревня потеряет только «лишних» людей. «Утверждать… что среди крестьянского населения был патриотический подъем и что война была среди него популярна, я не решился бы, – писал В.И. Гурко. – Война вызвала молчаливое, глухое, покорное, но все же недовольство» (28, с. 644).
Однако главное – в другом. До сих пор не оценено должным образом поразительное явление: если в западных странах всерьез восприняли идею «священного единения» всех слоев общества против общего врага, то в России образованные люди заговорили – кто со страхом, кто с надеждой – о неизбежности революции. Расходились только в сроках. В либеральных кругах на Кавказе, если верить Н.Я. Марру (будущему советскому академику), были убеждены, что «после войны должны наступить коренные реформы… и… если таковые не наступят, то быть беде…» (84, с. 545, 567). А между тем в народе о повторении событий 1905 г., казалось бы, не помышляли.
Особенно остро и столь же неоднозначно реагировала на войну российская революционная эмиграция. Из Франции сообщали: «Все русские покидают Францию… Говорят в России готовятся к революции. Двое русских эмигрантов, приговоренных к смертной казни, радостные мечтают вернуться во время беспорядков в Россию…»241241
ГА РФ.Ф. 102. Оп. 265. Д. 976 (письмо от 15 июля 1914 г. из Гренобля, подписанное «Леля» Н.А. Фон-Глен в Казанскую губернию, с. Александровка, имение Фон-Глен). Л. 10.
[Закрыть]. Известно, что многие эмигранты-революционеры шли добровольцами во французскую армию. Не оставались в стороне люди творческих профессий. «Я как прапорщик запаса решил тотчас же ехать в Россию, чтобы занять место в армии, – писал художник М.Ф. Ларионов из Франции. – Паника по всей Европе стояла неописуемая… Все русские рвутся в Россию…» (цит. по: 37, с. 482).
Трудно сказать, чего было больше в подобных явлениях: патриотизма или революционаризма. Несомненно, однако, что и то и другое было обусловлено эмоциональной импульсивностью, характерной для радикальной среды. Порой эмоции перерастали в психозы. Муссировались «революционные» слухи. «Мне передали.., что все Царство Польское объято революцией, которая может привести к очень печальному результату…», – писал некий «друг Арон» из Одессы в Бричаны, Бессарабской губ.242242
ГА РФ.Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 17.
[Закрыть] Обычные люди, оторванные от «судьбоносных» решений власти, принимались безудержно фантазировать. Фантазии усиливались страхом неизвестности.
Подчас образы войны и революции сплавлялись в психологически странноватую амальгаму. «Поеду только на передовые позиции, хочется судьбу попытать.., – писал один студент. – Настает великое время и великое дело, перед которым вся грандиозная война померкнет. Подготовляется государственный переворот, готовый все переменить и наладить по-новому. Зарождается новая жизнь и новое счастье… Последний день войны будет первым днем русской революции… Не надо больше войны, не надо крови» (17, с. 155). Н.С. Гумилев, романтик войны (что редко встречалось в России), в январе 1916 г. говорил о неизбежности государственного переворота (80, с. 302).
В либеральной среде зазвучали привычные опасения «реакции». «[После победы] … они, Царь и его присные, будут чувствовать еще более твердую почву под ногами и, разумеется, постараются гнуть Россию в бараний рог по-прежнему… – писала М.В. Челнокову в Москву некая “русская женщинаˮ. – Я понимаю, что теперь не такое время, чтобы заниматься распрями – они не помогут, напротив, дадут сумасшедшему Вильгельму лишний козырь…»243243
Там же. Л. 41 об.
[Закрыть]. Непонимание причин и последствий войны усиливало страхи перед грядущим миром.
Особо впечатляют применительно к революционно / контрреволюционным эмоциям дневники профессора Б.В. Никольского, члена Союза русского народа. Этот человек отличался крайней раздражительностью и уникальной язвительностью. Будучи монархистом, он не любил Николая II, именуя его уничижительно – «полковник». Впрочем, начало войны он встретил довольно легкомысленно: немцев следуют побить, значит их «непременно побьют» – иного быть просто не может. «Не могу принудить себя усомниться в нашем успехе», – писал он. Эмоции попросту забивали разум. Он тут же принялся сочинять «продолжение войны»: после разгрома Германии Россия схлестнется то ли с Англией, то ли со всем остальным миром (нечто подобное воображал и Ленин). Примечательно также, что при этом Никольский называл жертвой химер воображения Вильгельма II – это «мечтатель, фантазер», не желающий считаться с действительностью. Увы, трудно сказать, кто в то время был способен считаться с действительностью! Характерно, что Никольский отнюдь не радовался показному «национальному единению», заявляя, что «в Думе все прилично, кроме хулиганского братанья Маркова и Пуришкевича с Милюковым». Заодно он поносил и «братьев-славян» (53, с. 195–198).
Война навязывает не только «революционный» (в худшем смысле слова) образ мысли, но и соответствующий образ действий. В сентябре 1914 г. в некоторых письмах отмечалось: русские солдаты в Австрии занимаются грабежом и погромами, «все низкие страсти здесь в открытую», местное население особенно боится казаков. Казаки, привыкшие «ходить за зипунами», действительно развращали солдат-крестьян. «Казаки наши то же, что курды; я думаю даже, что курды кое-что по части зверств заняли именно у наших казаков» (89, с. 60), – такие представления были распространены на Кавказском фронте. Из армии сообщалось, что «нет сил бороться с мародерством и растущим в войсках инстинктом бессмысленных разрушений» (60, с. 334–336). Впрочем, пропаганда уверяла в противоположном.
В критических условиях «твердые» политические императивы переживают характерные перверсии, преумножая численность «врагов». Профессор Б. Никольский теперь во всем усматривал «враждебные происки». «По-видимому, не врут жиды, приписывая заигрывания с Польшей английским интригам, – писал он в дневнике 25 августа 1914 г. – Что за несчастье с этим царем!» Тут вспоминал он и об «интригах негодяя Сухомлинова». А уже 19 октября в политике, по его мнению, стало «печально и смутно»: «Распутин, с одной стороны, Кривошеин – с другой» (53, с. 202–205). Очевидно, что от «непонятных» событий начинало болезненно разыгрываться воображение, деформирующее, в свою очередь, «политические» убеждения. Так или иначе, странноватый феномен «монархист против царя» проявил себя с началом войны весьма заметно. Начиналось это с «мелочей»: некоторые разочарованно отмечали, что нет такта у «обожаемого Монарха»! (25, с. 131).
Разумеется, на углублении эмоциональных стрессов сказывалось несоответствие реального и желаемого. В авторитарно-патерналистских системах общественное негодование легко опрокидывается на власть – последней для этого бывает достаточно одного «неверного» шага. Уже в конце 1914 г. в Петрограде муссировались слухи о том, что императрица с «“немецкой” придворной партией» готовится заключить сепаратный мир с Германией, а «слабому» Николаю II противопоставляли его «решительного» дядю – верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича (60, с. 340; 84, с. 552). На поверхностный взгляд такое может показаться сознательным антимонархизмом.
Стимуляторы русского бунта
«Образ мира» российской интеллигенции в значительной степени выстраивался на представлениях об облике Европы – как реальном, так и воображаемом. Война заставила усомниться и в западном прогрессе, и в европейской революционности. «Европейские события окончательно перепутали все карты… чувствуется какое‐то угнетенное состояние…», – писал неустановленный автор 29 июля 1914 г. «Мы стоим перед фактом стихийно развивающихся событий… – сообщали 5 августа из Екатеринослава в Москву. – Внешне проходит пока все стройно, если не считать отдельных столкновений офицеров с солдатами, но эта стройность скомкается очень скоро в процессе военных действий, где страх перед чудовищными законами современной войны сломит боязнь перед военно-полевыми судами. Милитаризм организовал и вооружил демократию – он сам пожнет плоды своих трудов»244244
ГА РФ.Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 39, 48.
[Закрыть].
Композитор А.Н. Скрябин уверял, что вслед за огромной мировой войной проснутся Азия и Африка. По его мнению, европейская культура уже сказала свое слово. Из будущих величайших потрясений родится Мистерия, мировой пожар, последует «век социализма» (правда, недолгий). Социалистическим тем не менее может стать и весь земной шар, но может стать и одна лишь страна (74, с. 284–285). В сущности, в войне Скрябин увидел своего рода «Симфонию экстаза». Разумеется, это были крайности гения, живущего в мире воображаемого. Однако бывают времена, когда утопии могут на некоторое время материализоваться.
Русская культура, безусловно, склонна к своего рода «обновленческому» эсхатологизму. С началом войны это тяготение усилилось. «Модный» в те времена писатель Л.Н. Андреев 4 октября 1914 г. в письме еще малоизвестному И.С. Шмелеву так объяснял свою «патриотическую» позицию: «Разгром Германии будет разгромом и всеевропейской реакции и началом целого цикла европейских революций. Отсюда и то необыкновенное и многих смущающее явление, что антимилитаристы и пацифисты Эрве и Кропоткин стоят за войну до самого конца. Отсюда и я, автор “Красного смеха”… также стою за войну. Конечно, ни для кого не тайна, что правительство под шумок уже загибает салазки, арестует и сажает – готовится на всякий случай… Есть у нас, писателей, и особой важности задача: противопоставить русскую культуру германской и доказать, что мы не варвары, хотя у нас нет внешней материальной культуры и богатства. Надобно всеми средствами показать, что русский дух есть вечное устремление к последней свободе, вплоть до анархии, немецкий же – стремление к вечному порабощению, к созданию на земле вечной тюрьмы и военных поселений. И уж, конечно, вовсе не следует искать здесь “национализм”, который также привезен к нам из Германии, как и военные поселения, и враждебен свободному духу нашему. Свобода для всех, а тюремщиков к черту!»245245
Там же. Л. 23–23 об.
[Закрыть].
Так или иначе, и с войной, и с революцией связывались пылкие надежды многих образованных русских людей. Причем, в отличие от Европы, баланс между войной и революцией все более заметно склонялся в пользу последней. В начале апреля 1915 г. М. Горький в частном разговоре высказывал опасение, что сразу после войны «возникнут крупные беспорядки, провоцированные Министерством внутренних дел», причем, к несчастью, от этого не приходится ожидать ничего хорошего, так как «русское движение имеет анархистический характер, антиобщественный» (84, с. 623). В это же время Д.А. Фурманов, будучи на «благополучном» Кавказском фронте, под влиянием сообщений о том, что в тылу «бьют торговцев», «фабрики бастуют», записывал в дневнике: «Можно со дня на день ожидать крупных взрывов, больших осложнений» (89, с. 50). «Взрыв» последовал через месяц – жуткий своей агрессивной бессмысленностью немецкий погром в Москве (17, с. 287–292; 96, с. 36–39).
С началом войны информационные связи между Россией и Западом отнюдь не прервались, стали активно формироваться новые представления друг о друге. Этому способствовали слухи – обычный спутник экстремальных ситуаций. Из Германии 11 августа 1914 г. сообщали: «Здешние газеты распространяют разные небылицы про Россию – будто Малороссия, Финляндия, Польша и т.д. собираются встать и объявить себя самостоятельными, будто солдаты неохотно идут в бой и охотно сдаются в плен и т.д. …Здесь предполагают, что война продлится не более 4–5 месяцев. Больше не в состоянии выдержать ни одна страна… Можно ожидать революции после войны. Это будет, пожалуй, солиднее, чем в прошлый раз» (в 1905 г. – В.Б.). Люди эмоционально переживали революционный опыт прошлого. «Русскому царю надо было подавить приближающуюся вторую революцию и нашлись интеллигенты, которые объединяются с царем против родного народа, опьяняя себя словами: славянство, родина, – и забывая, что нельзя уничтожить германство – родину Вагнера и Бетховена, Канта и Гете», – писал неизвестный автор социал-демократу В.П. Махновцу в Москву. «Обстоятельства сложились так, что Россия, пожалуй, выйдет победительницей и тогда реакция усилится и озвереет, но думаю, что и революция найдет почву в разбитых жизнях, разрушенных хозяйствах, кризисе, безработице. И не только в России… но и в Германии и Австрии… – писал 2 августа 1914 г. неустановленный автор А.А. Арбатской в Москву. – Жить сейчас в Америке абсурдно. Ведь разыграются события, которых мир не видал…»246246
ГА РФ.Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 62 об., 100, 97.
[Закрыть].
Удивительно, но некоторым действительно казалось, что Россия становится эпицентром мировых событий. Эмоции делали людей податливыми на утопии. «Война – это что‐то особенное, она все меняет, все освещает под своим углом, все расценивает и раскладывает по-своему, – писал 28 сентября генерал А.Е. Снесарев в письме домой. – О ней книги написаны, а ничего ясного не сказано» (78, с. 51). Действительно, из «мирного» времени трудно понять, какой набор «погребенных ужасов эпох» (Ф. Ницше) вытолкнет она из народного подсознания.
В войну проявился такой взращенный деспотизмом (не столько реальным, сколько воображаемым) феномен российской политической культуры, как пораженчество. Впрочем, до поры до времени он довольно интенсивно вытеснялся эмоциями другого рода. «В самом начале войны, когда еще не определились ее кровавые контуры, признаюсь, я даже сознательно хотела поражения нашему оружию, чтобы этим была поколеблена и дискредитирована власть и положен конец ее вакханалии, от пьяного угара которой задыхаются 170 млн живых человеческих личностей, – писала 26 сентября 1914 г. некая Н.В. Скурдина А.И. Мельникову в Одессу. – Теперь я этого не хочу, но передо мной также стоит этот мучительный вопрос: чем будет заплачено за все колоссальные материальные потери и невозвратимые утраты людьми? Неужели снова и снова вылезут подонки общества и будут делать политику и управлять рулем внутренней жизни? Думается, что широкое общение с Западом должно проложить новые борозды и в сознании людей, стоящих у власти, и что здоровая струя обновит и оживит загнившие части нашего государственного организма»247247
ГА РФ.Ф. 102. Оп. 265. Д. 978. Л. 6.
[Закрыть].
Поражения вызвали резкий перепад настроений. В сентябре 1915 г. А.В. Тыркова, член ЦК кадетской партии, записывала в дневнике: «Победы и поражения отодвинулись перед… сумятицей внутреннего поражения или, вернее, разложения» (51, с. 156). Естественные трудности военного времени гипертрофировались, а их объяснения приобретали антиправительственное звучание. Разумеется, находились люди, которые это понимали. 22 июля 1915 г. историк М.М. Богословский писал в дневнике: «Не понимаю тех, кто складывает всю вину на управление. Может быть, оно у нас и худо, но только потому, что вообще мы сами худы. Каждый народ достоин своего управления». Представление о том, что «народные избранники» могут подменить бюрократов, вызывали у него насмешку. 8 сентября 1915 г. он комментировал разговоры о Министерстве общественного доверия в таких словах: «Изволите видеть: надо бороться с властью и в то же время не надо колебать престижа власти (имелся в виду А.И. Гучков. – В.Б.). Говорилось о преступлениях и “безнаказанности” власти – словом власть стала у нас подсудимой… У нас говорить против власти есть признак гражданских чувств…». Наивное представление интеллигенции о гражданском долге вызывало у него еще большую иронию. 30 сентября 1915 г. он писал: «У нас гражданином считается лишь тот, кто бурлит, суетится, всячески выступает, критикует и протестует…» (9, с. 60, 75, 86). В сущности, он описал распространенный тип «заметного» российского политика, для которого важно было «возбудить» публику – естественно, против вечно «негодного» начальства.
Беспомощность власти раздражала и возбуждала главным образом правых, а вовсе не левых. Она же усиливала германофобию. Б. Никольский в июне 1915 г. был убежден, что «немецкие деньги питают антинемецкие судороги низов и особенно антидинастическое озлобление», а в феврале 1916 г. считал, что «заговор не немецкий, а тот же масонски-жидовский», как в 1905 г. Впрочем, в своем обличительном пафосе он не забывал и о «безумном сборище глупых, трусливых, бездарных и ничтожных людей» в Совете министров, которые ничего не могут сделать, кроме «сеяния анархии» (53, с. 219, 245, 255). «Всякая революция идет сверху», – был убежден В.И. Гурко (28, с. 655, 700).
Считается, что на нагнетании революционных настроений сказались думские речи Милюкова и Пуришкевича. На деле все было не столь просто. «Читал речи Милюкова и Шульгина, – писал иркутский журналист. – В этих речах как бы воплотился ужас современной русской жизни». В армии реакция оказалась несколько иной. «Наши монархисты получили из-под полы глупую, мальчишескую речь Милюкова и носятся с нею, как кот с салом! – писал генерал А. Снесарев. – Подумаешь, невидаль какая! Я стал читать, да и дочитать не мог: такая дребедень…» (цит. по: 17, с. 359). В «патриотичных» тыловых верхах также возникали критические настроения. В ноябре 1916 г. священник С.И. Остроумов (октябрист) писал, что союзникам «пора бы подумать о прекращении кровопролития». Он не отваживался заговаривать об этом публично, так как был уверен, что такие мнения встретят негодование даже со стороны тех, кто в душе с ним согласен (65, с. 509).
Простых людей больше волновало другое. В ноябре 1916 г. в действующую армию порой писали следующее: «Нас здесь грабят и грабят беспощадно, безжалостно купцы, мелкие торговцы, пекаря, мясники и т.п. сволочь, именовавшая и мнившая когда-то себя патриотами, сейчас превратились все в разбойников и грабят нас средь бела дня, да еще приговаривают, что мы-де все это на законном основании». В декабре 1916 г. из одной запасной команды писали в Самару: «2½ года войны, по-видимому, произвели свое действие, озлобив всех. Проснулись дикие инстинкты… Народ ли виноват в этом? Виновата наша горькая действительность. Народ инстинктивно чувствует неладное и дает выход своему озлоблению в бунте. Если такой порядок продлится далее, то перед нами стоит призрак революции…». Некий Горовиц в декабре 1916 г. писал в армию, что «всем надоела война» и «мы стоим на пороге великих событий» (60, с. 627, 721, 722). «Тыл жил нездоровой жизнью, далеко не соответствовавшей условиям грандиозной народной войны» (29, с. 149), – со временем такие признания сделались обычными. Более того, тыловая жизнь представлялась многим настоящим «омутом разврата» (11).
Характерно, однако, что люди, требовавшие кардинальных изменений, не представляли их конкретно, словно надеясь, что избавление от «царя и немцев» приведет к решению всех насущных проблем. Нараставший протест адресовался в «никуда». Переломить ситуацию официальная пропаганда была бессильна. В декабре 1916 г. газеты именовали на фронте «бумажным навозом» (78, с. 519).
Со временем в народе сложился устойчивый образ предреволюционного «безобразия», апофеозом которого, естественно, были взаимоотношения на самой вершине власти. Легенда выглядела так: «А все царица виновата. Она да еще этот подлец Гришка Распутин: стакнулись оба Расею продать. Подкуп, вишь, был им от Вильгельма, чтобы ему Расею себе взять… Царица-то сродствие Вильгельму приходится… Ну и согласилась… А Распутин примазался к ней… И был между них такой уговор: царя прогнать… А как прогонишь?.. А этот жулик Гришка и придумал: раскопал где‐то единорогов рог… наскоблил этого рога в стакан с вином… А царь выпил и погнало его после этого на вино… И что ни день, то пьян и пьян… Лежит себе, а дела забросил… Напьется и спит… И стал царь как бы не свой, настоящего, что требуется, не понимает. И никакого внимания, что война идет, нашего войска невесть сколько побили… А он все пьет, распьянствовался, как мужик… Вот что подделал ему каторжная душа Распутин!» (44, с. 176–177).
Этот рассказ отчетливо иллюстрирует, как расхожие слухи взаимодействовали с традиционным сказочным фольклором. Не случайно потом стали говорить, что «вместо убитого Гришки Распутина, появился новый “старец” Митя Коляба, вывезенный из Калужской губернии» (1, с. 102).
Некоторым солдатам приближающийся Новый 1917 год сулил надежды: «В нем должна решиться во цвете его дней и наша судьба и может быть наша судьба совпадет с судьбой всего мира». У других солдат в начале января усиливалось отчаяние: германец за «25 биллиардов» «склоняет» к миру, в Петрограде «не стараются спасти свою родину, а стараются спасти германский народ». Другие уверяли, что Германия готова к миру, чтобы платили ей «контробуцию 24 года по 20 млн в год… а Россия чтобы говорила на немецком языке». Писали и о том, что царь на мир не соглашается, а потому нам «придется здесь погибнуть». Говорили также, что «Мясоедовы у нас не перевелись… Везде зло, везде измена…». В середине января 1917 г. на Юго-Западном фронте солдаты отказались наступать, два батальона сдались в плен, мотивируя это тем, что офицеры «попрятались». Однако даже в середине февраля среди солдат (похоже, при штабе) встречались и такие, которые были уверены, что, если бы в тылу не «купчики, сахарозаводчики и проч. мародеры», то «давно были бы побиты немцы, и турки, и австрийцы» (60, с. 728–731).
В тылу слухи приобретали поистине апокалипсический характер. Кадет Л.А. Велихов писал: «Здесь, в Петрограде, Бог знает, что делается… Много, много нехорошего, много страшного… Апатия, растерянность и какая-то зловещая тишина в связи с умопомрачительными слухами… Все как-то смешалось, все понятия перепутались, почвы нет, а будущее темно» (65, с. 469). Люди готовились к худшему. «Здесь идет слух, будто будет буря, огненный дождь и землетрясение, – сообщала Д. Фурманову его мать. – У нас очень много приготовляются… исповедуются и причащаются, боятся, что это уже светопреставление…». Будущий большевистский комиссар задумывался: «Откуда эти нелепые, странные слухи?» Ответ напрашивался сам собой: «Настрадались, перемучились… Народная фантазия облекла эти ужасы в свою доступную, рельефную форму и поверила, приняла их как заключительный, венчающий аккорд всенародного мученья… Наши политические и экономические соображения не имеют… никакой цены» (89, с. 272).
Осенью 1916 г. некий американский журналист, поклонник Л. Толстого и ненавистник самодержавия, специально приехал в Россию, чтобы присутствовать при «Великой Русской Революции». Протестующую толпу на Невском он принял за политическую демонстрацию и очень возмутился, узнав, что собравшиеся не имели никакой цели. Он полагал, что демонстрация «есть явление организованное, стройное, врагу страх внушающее». То, что он увидел, было не «актом разума, а утратой разума». По его мнению, собрались не революционеры, а «сволочь, которую надлежало разогнать палками» (24, с. 344–345). Пресловутого «русского бунта» американец понять не мог. Русская революция развивалась отнюдь не по американскому (а равно и всякому другому), а по своему – «смутному» – сценарию.
Так или иначе, квазирелигиозные эмоции перерабатывались в «политику», причем в политику с ощутимой «классовой» составляющей. В январе 1917 г. солдат больше всего впечатляли вовсе не антиправительственные думские речи, а газетные известия о том, что в то время, как «честный русский народ голодает», в тылу пьют шампанское, разъезжают в автомобилях, «которых не хватает армии, и кричат громко “ура” за победу и наши “бесподобные войска”». Особенно нервировали солдат смутные подозрения о связях жен-крестьянок с военнопленными (60, с. 573, 580, 589, 601–611, 619, 629, 633). Но, разумеется, больше всего сказывалось недовольство тяготами военного быта и армейскими порядками. «Форменный хаос, очковтирательство», начальники ведут “телефонную войну”», – так характеризовал происходящее генерал А. Снесарев (78, с. 478, 510).
В феврале 1917 г. среди относительно бодрых писем с фронта встречались и такие заявления: «Нервы парализовались, омертвели. Из человека ангела здесь делают человека дьявола» (60, с. 329, 726). Известия из «мирной» жизни доводили ситуацию до точки кипения. «Дороговизна и мир, вот что интересует главным образом, судя по корреспонденции, армию и население», – заключал местный цензор (83, с. 339). Писали и о том, что «у человека зародилась злоба и искра злобы не угасает…» (60, с. 733).
Политика или эмоции?
Подлинная революция словно прокатилась мимо всех ее политических «руководителей». Это кажется невероятным. Историки до сих пор гадают, какие силы опрокинули самодержавие. И, разумеется, претендентов на это судьбоносное деяние оказывается более чем достаточно. В частности, в свое время придворные круги уверенно кивали не только на Государственную думу, но и на Совет министров (18, с. 222–223). Между тем в свое время ненавистникам династии ситуация казалась предельно ясной: «От пустого дуновения ветра самодержавие дрогнуло, покачнулось, рухнуло и рассыпалось в прах. Оно пало не от того, что его сломили; оно развалилось от того, что сгнило и дольше “быть” не могло» (24, с. 343).
К февральским событиям в Петрограде забастовки давно стали обычным явлением. Но, как видно, недовольство ситуацией рано или поздно должно было достичь критической отметки. Самодержавие рухнуло под напором людских эмоций. Бастующие рабочие, прежде всего женщины, смогли увлечь за собой мужчин под лозунгами: «Хлеба!» и «Долой войну!» При этом, похоже, последний лозунг доминировал (82, с. 59). Лишь позднее, вероятно, под влиянием социалистических агитаторов добавился политический лозунг «Долой самодержавие» (57, с. 73–78). А тем временем в партийных верхах, особенно «прогрессистских», царила растерянность. А.В. Тыркова, женщина, имевшая репутацию «единственного мужчины в кадетском ЦК», описала в дневнике почти символическую сцену. 27 февраля 1917 г. М.В. Родзянко с А.И. Гучковым собирались отправить телеграмму царю, а графиня С.В. Панина – тоже влиятельная женщина – уговаривала их идти к солдатам, агитировать их. Лидеры октябристов отговаривались: «Пусть они сначала арестуют министров». Положение спас Милюков, который «привел солдат к Думе» (51, с. 176). Впрочем, согласно другим свидетельствам, Милюков в те дни «находился в состоянии бездействия», «вся его фигура говорила о том, что ему нечего делать, он вообще не знает, что делать» (82, с. 83). И эта характеристика относилась не только к Милюкову, но и к другим, «снующим, как тени, депутатам и их бесконечно совещающимся лидерам». «До создания Совета и Комитета Думы случайные люди пытались наладить какой-то порядок в этом стихийном движении»248248
ГА РФ.Ф. 5881. Оп. 1. Д. 784. Л. 3, 6.
[Закрыть], – отмечал наблюдатель.
Очень немногие мемуаристы признавали, что в это время «настроения Таврического дворца диктовались не теми, кто считался руководителями движения, а в значительной степени улицей». А поскольку ясности не было, то приходилось напоминать и о каких‐то «закулисных силах». Казалось, что роль Временного комитета Государственной думы падала, а потому «Родзянко, Керенский и иже с ними вынуждены вертеться как волчки на бурных водах и легализовать все, что приносит народная толпа» (34, с. 122). Увы, поверить в «политиков-волчков» трудно, а потому проще сделать руководителем революции хотя бы Временный комитет Государственной думы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































