Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 6"
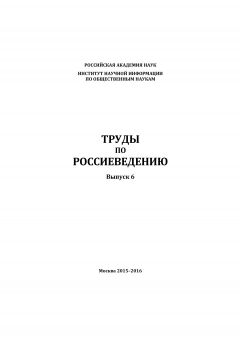
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 37 страниц)
1905 год находится в ряду европейских революций Нового времени, которые ломали старое («старый порядок») во имя нового, современного. Не случайно их называют локомотивами истории. В этом смысле не 1917-й (Февраль или Октябрь), а именно 1905-й и есть настоящая русская революция, открывшая России дорогу в будущее. Тогда победило «дело Февраля», т.е. дело русской свободы и обновления/развития.
Февраль 1917-го – это даже не доигрывание, а повторение 1905-го: обидное и трагическое. Результатом победы «февралистов» над властью (для них самих неожиданной и случайной) стал не триумф свободы, а «расковывание» хаоса русской Смуты, которая своей бессмысленностью и жестокостью превзошла средневековые бунты. Осенью же 1917-го выиграли те, кто проиграл в 1905-м. Большевики пересмотрели итоги русской революции и послереволюционного развития. Их переворот (политический и социальный) – это не прорыв в новое, а его погром. Октябрь 1917 г. – против модéрной России: современных людей (русских европейцев), образов мыслей, форм жизни (в том числе против современного государства, власти современного типа), социального творчества.
Русское массовое общество стало строиться на отрицании и борьбе со всеми этими «пережитками прошлого» – как простая система224224
Подчеркнем: русская социальность в начале ХХ в. плюрализировалась, усложнялась. А сложность – синоним развития и свободы. После революций 1917 г. вектор изменился на прямо противоположный. Русская история как бы развернулась вспять. При этом декорировалась в формы, отчасти заимствованные у современного мира.
[Закрыть], где несвобода и государственный террор являлись ответом (в ответ) на все вызовы времени. Однако и «массовидный» террор (любимое слово Владимира Ленина) большевиков не мог остановить историю. Советской системе пришлось решать те же задачи, которые стояли перед царской: создание передовой промышленности, «оснащение» техникой деревни, ликвидация неграмотности, смягчение социального неравенства и др. Раздавив потенциалы современного общества (русское общество как современное, модéрное), советская власть продвигала и внедряла его идеалы, ценности, проекты, так как не могла без этого обойтись. Но все эти естественные и необходимые задачи слишком долго решались в режиме тотальной несвободы, отказа от культурной преемственности, подозрения/презрения к окружающему миру, что придавало решениям «временный» характер. Советская индустриализация, колхозы, общественное устройство и проч. не были рассчитаны на исторически значительный срок, оказались не способны к внутреннему «росту». Поэтому и развалились под напором новых времен, мало что оставив после себя.
В результате и теперь, спустя 110 лет после Первой революции, мы по-прежнему не знаем, как совместить свободу с порядком, личность/индивидуализм с массой/массовостью, социальную иерархию со справедливостью, национальное с всеобщим (космополитичным), традиции с современностью и т.д. Эти потребности сильны своей естественностью, связанностью с жизнью человека и общества, потому они неизбежно пробивают себе дорогу. Диктатуры, тоталитаризмы и проч., практикующие запреты во всех сферах, идущие на зажим во всем и массовое всеупрощающее и всех ожесточающее насилие, не способны их «снять». Однако они не дают социуму пройти тот путь, набраться того опыта, который позволяет быть «созвучным» времени, искать такие ответы на его вызовы, которые не ставят людей на грань выживания, не заставляют перенапрягать все силы и т.д.
11. Революции как исторический урок. В позитивно-созидательном смысле уроки 1905 г. гораздо важнее для современной России уроков 17-го. Если быть точным, нас должен интересовать именно этот опыт. 1917-й – предостережение: урок того, как не надо делать. А 1905-й – своего рода пособие, ориентир. Эта история показывает, как следует разрешать революционные кризисы, развязывать (а не разрубать) узлы социальных проблем. Не поняв значения Первой революции, Россия (царская, бюрократическая, общественная, а также рабочая и крестьянская) и потерпела поражение, по существу самоликвидировавшись в 1917 г. (точнее, в результате того, на что она пошла в 1917 г.)225225
В России вот уже столетие господствует убеждение: в Феврале 1917 г. потерпел поражение либерализм (как идея и практика), доказав свою несовместимость с социальностью этого типа. Это историческое заблуждение. Поражение потерпела страна, отказавшись от своих либеральных достижений (прежде всего, от власти такого типа), традиций, от тех возможностей, которые давал ей либерализм. А то, что в ней есть запрос на либеральное устроение, Россия доказала своей историей – и не только Первой революции. Поразительно, что полвека спустя, почти сразу после смерти Сталина, десятилетиями терроризировавшего народ, казалось, уничтожившего в стране все жизнеспособное (как мешавшее, угрожавшее его диктатуре), пошла либерализация режима, началась «оттепель». И сейчас наш главный шанс на развитие – в прививках либерализма, в либеральном «прочтении» революции начала ХХ в., в культивировании того отношения к «феврализму» (т.е. к победившему и отринутому страной либерализму), которое выразил (по другому поводу) Б.Л. Пастернак: «Февраль. Достать чернил и плакать! / Писать о Феврале навзрыд». Потому что либерализм – охранительное начало русской жизни. В отсутствие либеральной «подосновы» российские порядки начинают угрожать человеку – его достоинству, свободе, безопасности, существованию.
[Закрыть].
Однако и сейчас, в XXI в., мы делаем выбор в пользу тех исторических уроков (адресуемся к ним, о них говорим), которые не способны стать источником позитивных (для общества, людей, человека) изменений. Это и есть ответ на вопрос: озабочены ли мы тем, как и куда развиваться – вообще проблемой развития.
Список литературы
1. Бродский И. Катастрофы в воздухе // Бродский И. Поклониться тени. – СПб., 2006. – С. 44–81.
2. Ганелин Р.Ш. Политические уроки освободительного движения в записке старейших царских бюрократов // Ганелин Р.Ш. В России двадцатого века: Статьи разных лет. – М.: Новый хронограф, 2014. – С. 9–22.
3. Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 г.: Реформы и революция. – СПб.: Наука, 1991. – 223 с.
4. Гиппиус З. Дмитрий Мережковский // Гиппиус З. Живые лица: Воспоминания. – Тбилиси: «Мерани», 1991. – 384 с.
5. Дмитриенко А.А. Отношение предреволюционного крестьянства к Государственной Думе (На примере Вятской губернии // Полис. – М., 2007. – № 5. – С. 25–34.
6. Дякин В.С. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907–1911 гг. – Л.: Наука, 1978. – 246 с.
7. Маклаков В.А. Из воспоминаний. – М.: Статут, 2016. – 320 с.
8. Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой: Из книги «Конец первой половины ХХ в.». – М.: Худ. литра, 1989. – 302 с.
9. Пайпс Р. Русская революция. – Ч. 1. – М.: РОССПЭН, 1994. – 398 с.
10. Первая революция в России: Взгляд через столетие / Отв. ред. А.П. Корелин, С.В. Тютюкин. – М.: Памятники исторической мысли, 2005. – 602 с.
11. Пивоваров Ю.С. Русское настоящее и советское прошлое. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив. Университетская книга, 2015. – 336 с.
12. Струве П.Б. Интеллигенция и революция // Вехи. Интеллигенция в России: Сб. ст., 1909–1910 гг. – М.: Молодая гвардия, 1991. – С. 136–152.
13. Трубецкой С. Противоречия нашей культуры // Вестник Европы. – СПб., 1894. – № 8. – С. 510–527.
14. Федотов Г. Революция идет // Федотов Г. Судьба и грехи России. – СПб.: «София», 1991. – Т. 1. – С. 127–172.
15. Штейнман М.А. «Пророчества о нашем дне»: 1905 год через призму восприятия русских писателей // Революционаризм в России: Символы и цвета революции. Сб. ст. – М.: РГГУ, 2005. – С. 269–285.
1917 год: Страсти революции
В.П. Булдаков
Большинство политических деятелей, включая революционеров, отказывались понимать, как произошла Февральская революция. «Ни одна партия не готовилась к великому перевороту», – утверждал социал-демократ Н.Н. Суханов. – Все мечтали, раздумывали, “ощущали”…» (82, с. 49). Один из лидеров эсеров В.М. Зензинов писал: «Революция ударила, как гром с ясного неба, и застала врасплох не только правительство, Думу и существовавшие общественные организации… Начавшееся с середины февраля забастовочное движение… рассматривалось как обычное… Никто не предчувствовал в этом движении веяния грядущей революции» (цит. по: 92, № 2, с. 136). «Революция застала нас, тогдашних партийных людей, как неразумных дев, спящими» (49, с. 7), – отмечал другой видный эсер С.Д. Мстиславский.
Всякая революция порождает мифы, парализующие сознание. Следствием русской революции стали и грандиозные заблуждения, пропитывающие ее историографию. Причем ложные представления укоренились столь основательно, что человек, взявшийся опровергать их, серьезно рискует226226
Это было подмечено и западными наблюдателями (см.: 94, с. 551).
[Закрыть]. Так, еще в советское время сформировалось мнение: «дурному» сценарию 1917 г. были «спасительные» альтернативы. В постсоветские времена эта тенденция усилилась. Некоторые современные «исследователи» убеждены, что предреволюционное «благосостояние» никак не предвещало революции, что ее могло и не быть, не вмешайся в ход событий вездесущие «заговорщики». Эти иллюзии сейчас бездумно насаждаются сверху (54) – возможно, из опасений нового пробуждения «опасных» для власти эмоций.
Трудно непредвзято вглядываться в прошлое, если только возможно вообще. Люди привыкли обманываться. Это проявляло себя и в том, что в России, пребывавшей во власти европейских «понятий», беззаботно подверстывали под них всякий неясный конкретно-исторический материал. Между тем французские военные аналитики, к примеру, отмечая внешнее сходство Февраля 1917 г. с началом Великой французской революции, предупреждали: события в России вряд ли будут развиваться аналогичным образом (22).
Всякая революция перенасыщена страстями. На протяжении десятков лет академического изучения революции в СССР самый ее пафос неуклонно выветривался. Эмоциональное неистовство революции вытеснялось «объективной» статистикой, втиснутой в известную схему: «экономика, социальные условия, классы, партии». С помощью привычных для эпохи застоя «валовых» показателей выхолащивался самый «дух» революции.
О влиянии эмоций на поведение возмущенной толпы со времен Гюстава Лебона писали многие. В 1930-е годы к изучению «страстей истории» призывали и Люсьен Февр, и Норберт Элиас. Л. Февр обращал внимание на тесную связь рациональной и чувственной природы человека, предлагал искать корни «сознательных» межличностных отношений в «эмоциональной жизни» (88, с. 117). Сегодня пишут о том, что в определенные моменты истории массы подвержены «фобическим сверхреакциям» (61, с. 14).
Историкам следовало бы задаться вопросом: как это происходит? Почему внутри таких устойчивых «величин», как культура, хозяйство или ментальность, «вдруг» начинается лавинообразный рост «малых возмущений», оборачивающийся тотальным хаосом? (14). Ответ кажется простым: хаос приходит изнутри, из души «маленького человека», тихое существование которого в силу незаметных для него факторов делается невозможным. Исследователи, однако, предпочитают ориентироваться на видимое. Сферу же социологически «невидимого» монополизирует конспирология с ее старыми как мир заговорщическими фобиями.
Кажется, пора нарисовать психологический портрет российской «политики», российской революции. Конечно, сразу проделать такую работу невозможно. Эмоции того времени были крайне противоречивы. Но часто именно они задавали тот или иной «политический» угол зрения «случайным» людям. В данной статье автор намерен лишь указать на пути и возможности продвижения в этом направлении.
Здесь возникает вопрос: с помощью каких источников можно уловить полузадавленные эмоции «злого бессилия», которые, вырвавшись наружу, в определенных обстоятельствах превращаются в стихийный двигатель истории? Какие материалы способны пролить свет на «особые» взаимоотношения эмоций и политики в России?
Очевидно, наиболее впечатляющую информацию можно получить из документов личного происхождения: дневников и писем. Но дневники в России писались по большей части образованными людьми. Что касается писем, то люди недостаточно грамотные попросту не способны адекватно передать свои эмоции. Потому следует особенно осторожно подходить к интерпретации таких источников. Оценка массовых революционных психозов требует более сложных методик извлечения информации из документов общего характера. И это тоже возможно. Разумеется, все, что касается истории эмоций, всегда будет носить приблизительный характер. Приходится учитывать и обилие противоположных реакций на одно и то же «судьбоносное» событие, когда эмоциональность приобретает форму эпидемии.
Безумие эпохи Просвещения?
Вероятно, главный «порок» мыслительной парадигмы эпохи Просвещения состоял в том, что исторический процесс представлялся сплошным движением вперед и единообразным восхождением «наверх». Но мир людей не может быть устроен столь примитивно. Позитивистская самоуверенность развратила и извратила человеческий ум. Люди забыли то, в чем был уверен еще Гераклит: мир гибнет и возрождается, он эмоционально цикличен, а не рассудочно телеологичен.
Впрочем, Ф.М. Достоевский в свое время предупреждал, что миру грозит опустошительная война, когда «миллионы голодных ртов, отверженных пролетариев брошены будут на улицу», а затем «все эти парламентаризмы, все исповедываемые теперь гражданские теории, все накопленное богатство, банки, науки – все это рухнет в один миг и бесследно» (31, с. 411). Конечно, на фоне людского беспамятства подобные профетические заявления смотрелись беспроигрышно. Однако апокалипсические настроения становились почти навязчивыми. И Владимир Соловьев, и Константин Леонтьев также предупреждали, что современный мир катастрофичен, что его ждет скорая гибель. Конечно, можно согласиться с тем, что мир перманентно безумен. Но каково происхождение этого безумия?
Российские «страсти революции» разыгрались задолго до Первой мировой войны. Возможно, они были своего рода эсхатологической реакцией на назревавший европейский кризис. Отсюда тема возмездия, наиболее отчетливо прозвучавшая у Андрея Белого, Веч. Иванова и А. Блока. Но настоящее буйство страстей в России развязала война. Ее сравнивали с «ярко выраженной психической эпидемией, наподобие эпидемий Крестовых походов, средневековых религиозных безумств… и всех тех массовых заболеваний народной психики, которые через известные периоды охватывают мир» (25, с. 56). Впрочем, грядущую революцию на третьем году войны представляли двояко: как «ужасный крах, катастрофу» и как своего рода «очистительную грозу» – «явление, хотя и страшное, но, в конечном счете, почти положительное»227227
ГА РФ.Ф. 5881. Оп. 1. Д. 784 (воспоминания Л. Оболенского). Л. 3, 6.
[Закрыть].
Мнение о том, что российское пространство отличалось особыми психогенными качествами, в частности повышенной эмоциональностью, может вызвать недоверие. Весь европейский ХХ век ознаменован взрывами неадекватных эмоций, вызвавших серию малых и больших потрясений – войн, переворотов, покушений. Все это было незримо связано с духом внутренней агрессивности, накапливавшимся за десятилетия «мирной жизни» и не находившим выхода в повседневности. И эта «энергия отрицания» не могла не соединиться с новым, навеянным восторженно воспринимаемым прогрессом технологий футуристическим мифом.
«Генетический материал» русской революции запрятан в глубине веков, архетип взаимоотношений власти и народа складывался на протяжении столетий (13). На этой основе формировались и интеллигентские утопии, проникавшие в политическую культуру. В свое время выдающийся философ Ф.А. Степун, писал: «В том-то… и коренится трагедия истории, главная причина ее величественного самоистязания и ее метафизического безобразия, что образ будущего, иногда чаемый пророками и художниками, дольше всего остается сокрытым от его фактических творцов. Оптика революционной воли почти всегда мечтательна и одновременно рационалистична, т.е. утопична. Строя планы своих действий, набрасывая и вычерчивая в сознании карты будущего, революционеры утописты невольно принимают картографические фантазии за живую картину будущего…» (81, с. 291–292). Как показывает опыт, «дописывать» былые фантазии довольно просто и, главное, эмоционально «убедительно».
Для политики требуются твердость и воля. Между тем русская интеллигенция, вздумавшая играть в политику, была больна «хронически неврастенией и безволием» (52, с. 250). Безволие, в свою очередь, порождало склонность не только к прожектерству, перерастающему в доктринерство, но и к пылкому идолопоклонству. Такова была естественная реакция на застойный самодержавный патернализм. При этом воображение россиянина удивительным образом сочетается с некритичной абсолютизацией «политического» факта. Однако революционный процесс в России имел архаичную дополитическую основу, что было связано с относительной неизменностью психоэмоциональных реакций homo rossicus'a на ситуацию во власти. Наукообразные утопии, вырабатываемые интеллигенцией, были слишком абстрактны для того, чтобы преодолеть инерционную архаику крестьянской ментальности; они могли лишь стимулировать ее агрессивную составляющую при известных психоэмоциональных обстоятельствах. В сущности это и произошло.
Между тем в Европе уже давно действовали малозаметные, но куда более многозначительные факторы иного порядка. Со времен Возрождения и Реформации Европа сделалась внутренне революционной, ибо нет ничего революционнее раскрепощенного человеческого разума с его имманентной воинственностью по отношению ко всему сакральному. В сущности, научная мысль ждала своего часа торжества над привычной верой. Он наступил к началу ХХ в.
Мир стал слишком тесным, агрессивным и мобильным для того, чтобы внимать голосу церкви или дипломатам старой формации, озабоченным поддержанием привычной стабильности. Сыграл свою роль и фактор социализации науки: ученые впервые попытались применить свои позитивистские теории к общественно-политической жизни и объявить о соответствующих «открытиях». Миф становился наукообразным, приобретая вместе с тем визуальную «убедительность», что в тогдашней обстановке делало его особенно притягательным. Впервые в истории люди превратились в заложников прогресса. Это провоцировало соблазн еще более стремительного рывка вперед, в том числе и через освобождение от всего «мешающего». Мир словно завис в зыбком пространстве между революцией и войной. Но против кого?
Причины, породившие такую ситуацию, стали различимыми лишь сегодня: демографический бум привел к «омоложению» населения; промышленный прогресс убеждал во «всесилии» человека; информационная революция сталкивала различные взгляды и усиливала иллюзорный компонент сознания; соответственно возрастала эмоциональность, а заодно и агрессивная «безрассудность» обычных людей. В самый ход истории вмешалась агрегированная психика «маленьких людей» (17, с. 10, 15–17). На этом фоне поведение правителей, мыслящих по преимуществу категориями прошлых веков, можно выделить лишь в фактор бездумного провоцирования войн и революций. Истинный их «виновник» спрятался за позитивистскими барьерами «прогрессивного» недомыслия.
К началу ХХ в. произошел своего рода эмоциональный перегрев всей европейской культурной среды – относительно «сытой», старающейся мыслить «рационально», но остающейся социально и психологически неустойчивой. Писали о «нервной напряженности человечества нашего времени» (25, с. 57). «Одной из наиболее опасных черт современной мысли является неврастеническая импульсивность, которая делает ее жертвой меняющихся настроений и предположений», – писал известный историк П.Г. Виноградов (20, с. 438) (оставаясь при этом исследователем позитивистского склада). Mass mediа доводили эту импульсивность до вспышек социальной истерии. Эмоции незримо вторгались в «большую политику».
В известном смысле большевики предложили свой «универсальный» проект устранения обострившихся противоречий. Разумеется, он был утопичным, но, однако, подкупал своей псевдогуманистической составляющей, минимизирующей в глазах людей насильственный способ своего воплощения. Конечно, замерить степень агрессивности общества, находясь внутри его, вряд ли возможно. Однако со стороны заметно, когда и как массовое сознание начинает рыскать в поисках образа врага. И каковой, конечно, находится. И тогда остается лишь придать ему звероподобные черты и глобальную масштабность.
Характерно, что в российской церковной прессе проблему разразившейся войны сразу же попытались поднять на историко-онтологический уровень. «Пожар европейский и мировой провиденциально неизбежен, – уверяли в “Церковном вестнике”. – Лживый европейский мiр и не менее лживый европейский мир обречены на этот огонь… Европа уже давно превратилась в огнедышащий вулкан, прикрытый поверхностным и обманным покровом мирной буржуазной жизни»228228
Церковный вестник. – Пг., 1914. – № 35. 28 авг. – Стб. 1040.
[Закрыть]. Подобные заявления, в сущности, были вполне изоморфны образу мысли Ленина, уверовавшего в близость мировой революции. Можно сказать, что вождь революции призвал себе на помощь «революционных» всадников Апокалипсиса.
В те годы многие говорили, что «мир сошел с ума». На этом фоне объяснять, что российское культурное пространство всегда отличалось повышенной эмоциональностью, повторим, задача рискованная. Между тем всякая традиционная культура перенасыщена страхами (даже в тех случаях, когда обычай предписывает скрывать их). Бытование нашего первобытного пращура складывалось из серии непосредственных реакций (а не рефлексии) на внешние обстоятельства. Вдобавок патернализм – особенно в его «крепостническом» воплощении – усиливал «инфантилизацию» сознания. Прочие культурно-исторические факторы консервировали психоэмоциональную архаику. Смесь страха перед будущим и вожделения его трансформировалась в синкретически возбужденное состояние российской психоментальности. И этому были свои объяснения.
В отличие от Европы, в России не существовало разделения власти на светскую и духовную, что препятствовало формированию области собственно политического (отчужденного от сакрального). «Расчетливая» и «предусмотрительная» (в европейском смысле слова) политика подменялась эмоциональными реакциями на задуманное и содеянное властью. Глубинные причины такой подмены в том, что российская история не знала планомерного дисциплинирующего насилия в лице инквизиции – процесс форматирования социальной среды затянулся. Отсутствие в российской средневековой культуре университетов с их непременной латынью также препятствовало формированию универсальной сферы логического, трансформирующего эмоциональные выплески со стороны недовольных низов в «настоящую» политику. «Обделена» была Россия и дисциплинирующей сознание школой средневековой схоластики – отсюда запоздалое следование «непререкаемым» принципам и авторитетам. Можно вспомнить и о том, что в отличие от европейца россиянин, отчужденный от традиций римского права, не умел мыслить категориями формального закона, предпочитая максимы справедливости и правды. Попросту говоря, Homo rossicus не был социально отформатирован для демократии, к которой стремились европеизированные российские политики. Более того, предреволюционная неуверенность во власти придавала его страхам заразительное свойство.
Подданный «абсолютной» власти не понимал условного – в онтологическом смысле – характера политической жизни. Отсюда и постоянная подмена политического «расчета» спонтанными эмоциональными – чаще диаметрально противоположными – реакциями. Обычно они приобретали характер перверсий: между «Да здравствует!» и «Долой!» не оставалось пространства для диалоговых усреднений (разумеется, за исключением случаев «каши в голове»229229
Человек из разряда тихих московских обывателей в конце апреля 1917 г. писал о своих политических представлениях так: «Вот и я, многогрешный, и раньше был собственно диким – вмещая в себя немного октябриста, кадета и социалиста, а теперь совсем одичал… и сам черт не разберет моей платформы… Прирожденный ненавистник войны, чуть не толстовец… не знаю теперь, куда теперь клонить свои помыслы относительно войны. С одной стороны, страшно не хочется ее, с другой стороны, жутко подумать, а как кончать ее теперь? Принесено столько жертв, и неужто все попусту…» (см.: 55, с. 38).
[Закрыть]). «Отказываюсь понимать два сорта людей: монархистов и анархистов», – писала 24 мая 1917 г. студентка Одесской консерватории в своем дневнике (представлявшем скорее калейдоскоп эмоций, нежели хронику событий)230230
Характерно, что после победы большевиков она призналась: «Я все правею и правею и, наверно, доправею до монархистки» (38, с. 146).
[Закрыть] (38, с. 146). Тогдашние эмоциональные порывы носили «стадный» характер, которому трудно было противостоять «рассудительному» человеку. «Политические» пристрастия были своего рода символическим маркером неполитических страстей. И именно эти стихийные эмоции по-своему распоряжались судьбами политиков.
Некоторые российские мыслители догадывались, что за обывательской относительно сытой жизнью может скрываться «древний ужас» (Вяч. Иванов). Кое-кто связывал его выплески с футуризмом. «…Русский футуризм был пророком и предтечей тех страшных карикатур и нелепостей, которые явила нам эпоха войны и революции; он отразил в своем туманном зеркале своеобразный веселый ужас, который сидит в русской душе и о котором многие “прозорливые” и очень умные люди не догадывались», – писал А. Блок (8, с. 181). Сам он, похоже, давно (1911) был уверен: «И темная, земная кровь / Сулит нам, раздувая вены, / Все разрушая рубежи, / Неслыханные перемены, / Невиданные мятежи».
Некоторые о том же самом высказывались по-другому. «В русской политической жизни, в русской государственности скрыто темное иррациональное начало, и оно опрокидывает все теории политического рационализма», – считал Н.А. Бердяев. Происхождение этой «варварской тьмы» он связал с географическим фактором – неспособностью россиянина организовать громадные пространства231231
Это положение в свое время разрабатывал С. Королев (36).
[Закрыть]. Переадресовав эту миссию центральной власти, он вслед за тем возвел ее в нечто трансцендентное. Русский человек «привык быть организуемым» (6, с. 54, 61, 66, 68). Впрочем, известно и другое: «Человек… жаждет завершенности и потому отдается в объятия тоталитаризмов, которые являются искажением надежды» (72, с. 285). Эти заключения можно интерпретировать как возможность стихийного бунта против «дурной организации», препятствующей воплощению «идеала».
Вместе с тем Н. Бердяев писал о «чисто женском» отношении россиян к идолу государственности, из которого мог родиться своего рода «бабий бунт» против объекта поклонения (6, с. 39). Разумеется, подобная гипотеза не по вкусу некоторым российским авторам, привыкшим по советской привычке выводить физическое (а следовательно, духовное) самочувствие народа из официальных данных и задним числом предписывать ему смиренное поведение перед власть предержащими. Однако история раскручивается отнюдь не по тем «законам», которые всякий раз пытается навязать ей ограниченный, но догматично-самонадеянный человеческим ум.
В сентябре 1916 г. во время пребывания в германском плену генерал-лейтенант русской армии А.Н. Розеншильд фон Паулин составил крайне негативное описание поведения русских офицеров в лагерях для военнопленных. Оно заметно отличалось от поведения пленных французов: русские имели «невыразимо грязный и неряшливый наружный вид», пренебрегали элементарной гигиеной, потеряли всякое представление не только о дисциплине, но и об элементарной вежливости, обнаруживали «сплошное наружное и внутреннее хамство». Со своими генералами они вели себя вызывающе, на построениях держали руки в карманах, курили, между собой постоянно конфликтовали. В их среде, особенно в первые дни плена, обнаруживались «не офицерские, мальчишеские и даже хулиганские поступки: площадная ругань, битье по лицу друг друга и пр.». Заметно было также нежелание занимать какую бы то ни было руководящую должность для поддержания внутреннего распорядка. Многие офицеры «пресмыкались перед немцами», своих собственных генералов готовы были оклеветать, а Николая II подчас называли преступником (73, с. 348–349) 232232
Нечто подобное высказывал генерал Ф. Палицын, характеризуя поведение русских войск во Франции: «Ведут себя как дети. Самовольно приходят и уходят, в одежде не соблюдается опрятность… напиваются». По его мнению, сказывалось отсутствие «надзора» (56, с. 34).
[Закрыть].
Конечно, воспоминания этого генерала, нетерпимого и желчного, далеки от объективности. На его злые характеристики можно было бы не обращать внимания, если бы не одно обстоятельство. Оказавшись за пределами привычной среды, пленные русские офицеры вели себя точно так же, как солдаты в России после падения самодержавия. Получается, что даже образованного россиянина отличали крайне низкий уровень «естественной» (без давления сверху) социализации и неразвитость гражданского чувства.
Возникает резонное предположение: «темное начало» и «инфантильный» социальный негативизм были устойчивыми компонентами психики пресловутого homo rossicusʼа. Авторитарно-патерналистская система попросту сделала его «скрытым» бунтарем. Развитое гражданское общество реагирует на экстремальные обстоятельства социальной консолидацией. Российская социальная среда обнаруживала нечто противоположное. Судя по всему, в России в августе 1914 г. даже в правительственных кругах учитывалась «неизбежность народного прогрессивного или даже революционного движения вслед за окончанием войны» (84, с. 534).
Впрочем, вопреки прежним антивоенным обещаниям в августе 1914 г. о революции, похоже, забыли даже социалисты. Вялая реакция на убийство во Франции Ж. Жореса вполне это подтверждала. Более того, на пропагандистских открытках Жорес стал изображаться рядом с Клемансо и другими ярыми сторонниками войны (59, с. 41). Похоже, теперь это абсурдное соседство казалось «нормой». Российские либералы, напротив, боязливо связывали войну с революцией. 3 марта 1916 г. П.Н. Милюков заявил в Думе: «Я знаю, что революция в России непременно приведет нас к поражению, и недаром этого так жаждет наш враг» (46, с. 76). Но в декабре 1916 г. и ему пришлось признать: «Атмосфера насыщена электричеством, и в воздухе чувствуется приближение грозы. Никто не знает, где и когда грянет удар»233233
Цит. по: Русское слово. – Пг., 1916. – 17 дек.
[Закрыть].
Патриотизм vs революционизм
Некоторые современные российские авторы убеждены в естественности патриотического энтузиазма, с которым все слои российского общества встретили весть о вступлении России в войну. Демонстративные манифестации того времени и по сей день считаются выражением общественных настроений. На деле в экстремальных ситуациях громкие заявления и «тайные думы» могут основательно расходиться. За шумным «патриотизмом» мог таиться испуг непредсказуемости234234
Нечто подобное зафиксировали западные авторы, проанализировавшие ситуацию в Германии. Так, М. Залевски отмечает, что «в высокотехнологичный, научно организованный мир модернизма просочились самые древние антропологические прототипы, даже невиданные до тех пор атавизмы: опубликованные суждения о начале войны изобиловали такими метафорами, в которых речь шла лишь о жизни или смерти, о смелости или трусости, о надежде или отчаянии» (32, с. 405). Весьма серьезное отечественное исследование рисует «противоречивую картину милитаристских и антивоенных настроений, доносов и даже поношений императора, идущих от низов и эмоционально взвинченных женщин» в Австро-Венгрии (48, с. 19–20, 65–66).
[Закрыть].
Имеется такое описание поведения тогдашних «патриотов»: «Вчерашние неврастеники, судебные следователи и агрономы, адвокаты, бухгалтеры и акцизные пристава, лихо бряцая палашами, кучками бродят по ресторанам, громко обмениваются приветствиями, пересмеиваются с крашеными женщинами и, нажимая рукой на блестящие эфесы, дерзко и уверенно дают понять глазеющей родине, что им ничего не стоит сложить за нее свои бедовые головы…» (23, с. 3). Но были и другие мнения. «Только люди, любящие борьбу, ищущие победы, любящие чувствовать себя сильнее своей слабости, идут (на войну. – В.Б.) весело, – считал будущий военный министр Временного правительства А.И. Верховский. – Прелесть риска – одна из лучших красот жизни» (19, с. 31). Бывают времена, когда задавленному беспросветной обыденностью обывателю хочется хотя бы на время предстать «человеком войны».
В любом случае дух «патриотизма напоказ» продержался недолго. Страх перед будущим мог породить шаткое состояние «веселого ужаса» лишь в городской среде. Поэтому подъем среди интеллигенции быстро сменился привычным скептицизмом (25, с. 111). Традиционалистские массы воспринимали ситуацию иначе. Страх смерти (всегда ассоциировавшийся в крестьянстве с хозяйственными напастями) не мог не активизировать патерналистский инстинкт. А он не имел ничего общего ни с гражданским патриотизмом, ни с шовинистическим милитаризмом. Эмоции расходились с политикой, хотя последняя не без успеха использовала именно их.
Разумеется, в верхах понимали, что патриотизм – лучшая прививка против революции. Так, общество «Отечественный патриотический союз», созданное в целях «религиозно-нравственного и национально-патриотического воспитания народа» и для «предупреждения революционной смуты в России», намеревалось содействовать устроению церковно-приходской жизни на канонических основаниях, изданию пропагандистской литературы, проведению патриотических манифестаций, устроению мелкого кредита, потребительских союзов, социального страхования рабочих235235
Устав общества под названием «Отечественный Патриотический Союз». Утвержден 7 сент. 1915 г. – М., 1915.
[Закрыть]. Сомнительно, однако, что эта «общественно-бюрократическая» организация, в руководстве которой преобладали высшие церковные чины и светские сановники, могла справиться с такими задачами.
Известно, что перед войной недовольство петербургских рабочих едва не переросло в революционное выступление. Да и независимо от этого население было убеждено в их особой революционности. Со временем даже западные авторы втянулись в «теоретический» спор застойных времен: чего было больше в поведении пролетариата – стихийности или сознательности? (95). И не следует ли при оценке его поведения руководствоваться понятием «классовый инстинкт» (98). Увы, похоже, русский пролетарий – это человек традиционного общества, «смущенный» городской средой. До революции в стихах пролетарских поэтов присутствовала не только тема духовной обездоленности, но и гордость приобщения к машинному производству, а также стремление к «революционно-коллективистскому» преодолению своего положения (12). Правда, считается, что война вызвала в этой среде подъем все тех же «патриотических» чувств, но, похоже, это касалось далеко не всех рабочих. Даже в толпах митингующих встречались рабочие, настроенные и против войны, и против «буржуев», и против царя. А в Екатеринославе запасные, возмутившись запретом бесплатного проезда в трамвае, «взяли штурмом вагоны, повыкидали городовых и навели панику на полицию». Губернатору они угрожали вооруженным насилием236236
ГА РФ.Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 23, 48.
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































