Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 6"
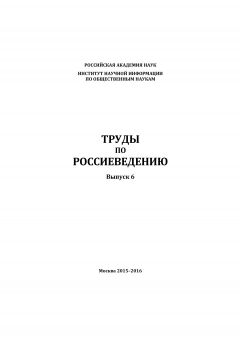
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 37 страниц)
Бунтующие толпы сами пребывали во власти слухов. Полицейских поначалу высмеивали, затем дразнили, наконец, принялись поносить. Начались столкновения. Кто‐то говорил, что «городовых убивают», кто-то, напротив, уверял, что «городовые калечат народ». Утверждали, что «одних убитых восемьсот». Естественно, заговорили об использовании пулеметов (24, с. 346–349) – они стали главным пугалом того времени. Политические лозунги, судя по всему, появились не сразу.
В расправах над офицерами и адмиралами в Кронштадте и Гельсингфорсе политику подменяло ожесточение, вызванное тяготами службы (10, с. 123–125, 226–227). Парадоксально, что те офицеры, которые не поняли, что происходит, пассивно присоединялись к революции249249
Так, к примеру, было в Свеаборге: офицеры, поддержавшие революцию, скоро стали свидетелями жутких расправ над их товарищами. Из воспоминаний одного из таких «революционеров» видно, что восставшие убивали как в порядке личной ненависти к «шкурам», так и «согласно должности» (см.: 50, с. 215, 216).
[Закрыть]. «Грозное начальство обратилось в робкое, растерянное, вчерашние монархисты – в правоверных социалистов, люди, боявшиеся сказать лишнее слово… почувствовали в себе дар красноречия, и началось углубление и расширение революции по всем направлениям», – так характеризовали духовные последствия государственного переворота (62, с. 162). Увы, от подданного рухнувшей империи трудно было ожидать иного.
Принято считать, что победа революции вызвала эйфорию едва ли не во всех слоях общества. Однако подчас это проявлялось своеобразно. П.А. Сорокин вспоминал, что видел на улицах «много пьяных, матерившихся и кричавших: “Да здравствует свобода! Нынче все дозволено!”» Вседозволенность проявлялась по-разному. Возле Бестужеских курсов Сорокин наблюдал толпу, «хохочущую, непристойно жестикулирующую». Оказалось, что «в подворотне на глазах у зевак совокуплялись мужчина и женщина» (79, с. 90).
Революция, конечно, вызвала совсем не те «чистые» эмоции, на которые надеялись пролетарские поэты. Возвращение политических из Сибири комментировали так: «Ораторы студенты на каждой станции выходили и вычитывали как Николай царствовал, правители его жулики были и как на позиции по морде били начальники…» (60, с. 748). С этого обычно и начиналось «политическое» просвещение народа новой властью. На этом фоне нетрудно было выдавать воображаемое за действительное.
На фронте революцию встретили в целом довольно спокойно, хотя и по-разному. Некоторые военачальники считали, что к этому времени «атмосфера разложения» просачивалась даже в отличившиеся своей твердостью части (29, с. 148). На отдаленных фронтах, в частности на Румынском, ходили противоречивые слухи о положении в столице: беспорядки, якобы, продолжались три дня, но были подавлены с помощью пулеметов; конец хулиганским действиям положили рабочие-путиловцы, обещавшие пресечь беспорядки стрельбой из 30 бронированных автомобилей. Известие об отречении императора произвело ошеломляющее впечатление, но все «вздохнули свободнее, точно со всех свалилась какая-то тяжесть гнетущая» (35, с. 107–108).
Революцию связывали с долгожданным миром. В середине марта из некоторых частей сообщали, что «надвигается голодная кровавая смерть», а потому «войны конец близко». Известие о падении самодержавия порой комментировали так: «Романовское гнездо разорено… Все безумно рады совершившемуся». Писали и такое: «Чувствуешь, что свершилось то великое, что мы ждали… хотим быть по образцу Франции или Америки… совершилось чудо…». Другие считали, что «напрасно Николай II думал со своей сворой, что в стране все тихо, что все революционеры переловлены… Суд народа свершился». Здесь же выражалась готовность «отдать жизнь за свободную Россию». Но уже в конце апреля писали, что офицеры – «это провокаторы и контрреволюционеры… их бить надо сволочей…» (60, с. 735, 737–739, 745). Под видом «политики» осуществлялись бессудные расправы.
Человек склонен верить во власть, но только в свою власть. «Чужая» власть ассоциируется не с защитой, а с насилием. Это возбуждает особое недовольство у людей, привыкших вкладывать во власть сакральное содержание. С таких позиций профессору Б. Никольскому события февраля 1917 г. сначала показались «бунтом черни, заставшим всех врасплох», действиями «трусливой, неорганизованной и присматривающейся к безнаказанности» толпы. Но уже 28 февраля он «утешил» себя тем, что «ликвидация династии, видимо, неизбежна» как часть «стихийного восстания против немецкого гнета». Действительно, многие «революционные» расправы того времени происходили под антинемецкими лозунгами. А следовательно, «перевернулась великая страница истории… переворот совершился, династия кончена и начинается столетняя смута, – если не более, чем столетняя» (53, с. 278–280). Эмоции принципиальных контрреволюционеров иной раз наиболее точно указывают на необратимость революционных событий.
Естественно, революционная эйфория не могла продолжаться долго. В марте 1917 г. зазвучали и скептические ноты: «Перед нами сверкает не свобода, а смерть и конец жизни», а потому «домой пойдем с оружием пока все, что полагается, не дадут». К этому времени революционная политика основательно вошла в солдатскую жизнь. Впрочем, в конце марта некоторые уверяли, что «у нас на фронте солдаты и офицеры вошли в полное единение». Между тем в апреле 1917 г. в аналитических записках цензоров говорилось, что «в письмах офицеров видна общая растерянность и неумение пользоваться моментом». Приходилось констатировать, что их письма полны «только жалоб и тех ужасов, которые творятся на фронте солдатами в отношении офицеров» (60, с. 740, 743, 746). «Крестьян замучила чересполосица, интеллигенцию – платформы и позиции», – так в начале апреля 1918 г. подытожил произошедшее М. Пришвин (66, с. 89).
Герой или толпа?
«Народ нуждается в идолах, – писал В. Гурко, – это приподнимает его, создает в нем веру в свою мощь и в свой успех». Он считал, что война не выдвинула в России героев, а создать их искусственно не удалось (28, с. 653). Действительно, гигантский поток «патриотической» лубочной изопродукции призван был скорее забавлять, нежели вдохновлять. Но смогла ли революция выдвинуть своих героев?
Толпа, как известно, рождает вождей. Обычно это диссипативные личности, которые, в свою очередь, и пытались выступать в 1917 г. в качестве «медиумов» общественного настроения. При этом для историка возникает вопрос: то ли они насаждали массам определенную доктрину, то ли просто следовали в фарватере настроений толпы? Не исключено также, что именно от их синергетического взаимодействия рождался некий «порядок» – пусть совсем не тот, о котором мечтали «герои» революционной эпохи.
Среди российских политиков – от либералов до социалистов – было немало выдающихся ораторов, но они быстро сходили со сцены, будучи своего рода заложниками тех или иных политических императивов. Несомненно, А.Ф. Керенский сделал свою политическую карьеру за счет публичной риторики. Но со временем его речи стали, по выражению Л.Д. Троцкого «толчением воды в ступе». «…Керенский был и остался случайной фигурой, временщиком исторической минуты,– утверждал Троцкий. – Каждая новая могучая волна революции, вовлекавшая девственные, еще не разборчивые массы, неизбежно поднимает наверх таких героев на час, которые сейчас же слепнут от собственного блеска…» (85, с. 284). Но этого до поры, до времени не замечали. А. Бенуа уверял, что Керенский казался «чуть ли не сошедшим с неба ангелом – и именно ангелом мира» (5, с. 188). Создается впечатление, что появление тех или иных лидеров было «запрограммировано» всем «излишне эмоциональным» ходом русской революции.
Очевидно, речи ораторов 1917 г. должны были ориентироваться и на настроение, и на утопии масс, взывать не к терпению, а к действию – разумеется, если массы были к этому готовы. Троцкий описывал это так: «Марксизм считает себя сознательным выражением бессознательного процесса… Высшее теоретическое сознание эпохи сливается… с непосредственным действием наиболее… удаленных от теории угнетенных масс. Творческое соединение сознания с бессознательным есть то, что называют обычно вдохновением. Революция есть неистовое вдохновение истории» (85, с. 323). Логика доктринеров никогда не совпадает с умонастроениями масс, но она способна влиять на них с помощью эмоций. Большевистские доктринеры в критические моменты ухитрялись действовать по инстинкту. Как знать, возможно, именно слияние человеческих склонностей и слабостей с энергетикой революционного времени и придавало движению бессознательных толп всесокрушающую силу – важно было лишь дождаться определенного часа.
В июле 1945 г. А.Ф. Керенский в письме В.А. Маклакову горячо возражал против приписывания ему «ЭМОЦИИ непримиримости». Бывший премьер полагал, что он всегда был и остается политиком, который «человеческие эмоции направляет в русло нужного в данное время политического действия» (64, с. 121). На фоне событий 1917 г. подобное заявление может показаться смехотворным: Керенский, этот заложник своих и народных страстей, пытался доказать, что хвост может вертеть собакой! Однако остается вопрос: можно ли было «управлять хаосом»?
В начале апреля 1917 г. правоэкстремистская газета «Гроза», основываясь на настроениях народа, заявила о необходимости начать переговоры о сепаратном мире250250
Гроза. ‒ Пг., 1917. ‒ 2 апр.
[Закрыть]. В сущности, В.И. Ленин в своих «Апрельских тезисах» воспроизвел не только предложения анархистов, но и правых экстремистов. А те и другие представляли собой наиболее взвинченную часть общества. Однако Ленин специально подчеркивал: «Мы не шарлатаны. Мы должны базироваться только на сознательности масс». Разумеется, «сознательность масс» он понимал своеобразно, заявляя о готовности «остаться в меньшинстве», дожидаясь избавления масс от иллюзий «революционного оборончества» (масштабы которого он, несомненно, преувеличивал251251
Интеллигентные молодые люди, поспешившие на фронт с настроением: «Один шаг до смерти или до славы», – встречались редко (см.: 55, с. 36).
[Закрыть]). В общем, это был скорее расчет на перемену вектора общенародных устремлений, нежели на осознание того, что такое социализм (40).
Некоторые считали, что «ораторское дарование Ленина было удивительно: каждое слово падало как удар молота и проникало в черепа». При этом не было заметно «никакой погони за прикрасами, ни малейшей страстности в голосе» (33, с. 87). Впрочем, это наблюдение было сделано в момент, когда Ленин убеждал в необходимости ратификации Брестского мира. К тому времени требовалась не страстность (ее было в избытке у левых коммунистов), а холодный расчет, способный минимизировать пылкие эмоции.
Интеллигентные люди, знавшие Ленина, не могли понять природы его «величия». Его роль в грандиозной перекройке судеб человечества показалась им «историческим недоразумением, промахом, массовой аберрацией» (2, с. 610). Однако история выбирает своих героев, не считаясь со вкусами современников, словно специально для того, чтобы со временем, поразмыслив, они написали их «исторический», а не человеческий портрет. И редким свидетелям удается избежать соблазна причастности к «великому».
Для утверждения в сознании людей примитивных «истин» следует их постоянно повторять. В тогдашней обстановке наиболее эмоциональные ораторы, вольно или невольно, копировали друг друга. Свои подражатели находились и у Керенского, и у Ленина. Описаны, к примеру, такие случаи: «Выскочил на эстраду молодой парень и сразу обрушился на «кровопийц»-помещиков, которые задыхаются от своих богатств, высасывают последние соки у своих крестьян…». И, конечно, он закончил призывом «не теряя времени уничтожить этих тиранов, а земли их делить между собой» (77, с. 76). В общем, это был парафраз знаменитого ленинского: «Грабь награбленное!» 252252
Со слов Троцкого, однажды Ленин смущенно признался ему, что именно он призывал с трибуны «грабить награбленное» (см.: 86, с. 102).
[Закрыть].
В отличие от интеллигентных политиков 1917 г., Ленин, лишенный типичных интеллигентских иллюзий, некоторое время ухитрялся «управлять хаосом». Характерно, что на нечто подобное рассчитывал В. Хлебников, объявивший своих поэтических соратников, «вставших на глыбу захватного права», «зачинателями охоты за душами людей». Похоже, «вождя революции» опередили. Еще до того, как он со страстью незадачливого просветителя взялся переводить учение об «экспроприации экспроприаторов» на понятный народу язык, вирус грабительской растащиловки уже «овладел массами» в России.
Ленин не был фанатиком – те, как правило, обладают неустойчивой психикой. Внешне Ленин не производил ни вдохновляющего, ни устрашающего впечатления. По мнению Ф. Степуна, это был «неладно скроенный, но крепко сшитый… небрежно одетый, приземистый» человек, преподносящий «свою серьезную марксистскую ученость в лубочно упрощенном стиле», но умеющий говорить убедительно «даже при провозглашении явных нелепостей» (81, с. 383). «Это очень невзрачная фигурка, небольшой, хотя и коренастый человечек, лысый, с мелкими чертами лица, маленькими глазками – тип умного интеллигентного ремесленника… – таким показался он бывшему эсеру-максималисту. – Трудно назвать его даже фанатиком… Перед нами очень трезвый человек… И в анализе его почти все верно, но до невероятности все упрощено и схематично». Именно последнее требовалось полукрестьянской толпе. По мнению этого очевидца, на поставленные Лениным задачи отвечала сама масса в том «упрощенном виде, который приводил в ужас даже Ленина…» (47, с. 134).
Только вряд ли Ленин действительно ужасался. С. Есенин попытался передать эффект ленинских выступлений такими строками: «Он мощным словом / Повел нас всех к истокам новым… / И мы пошли под визг метели, / Куда глаза его глядели: / Пошли туда, где видел Он / Освобожденье всех племен…». Так могли воспринимать Ленина только люди, ослепленные социалистическими идеями. Сохранились и не менее характерные свидетельства другого рода. «Ленина я слышал во время одной из знаменитых речей с балкона дворца Кшесинской… – вспоминал гимназист из “буржуев”. – Речь спокойная, без жестов и крика, внешность совсем не “страшная”… Содержание этой речи я понял… по поведению окружающих… Слушатели… Ленина готовы были… сорвать у прихвостней буржуазии и ее детенышей головы. Надо признать – такого раствора социальной ненависти мы еще не встречали, и мы “сдали”; не только испугались, но психологически были как‐то разбиты»253253
ГА РФ.Ф. 5881. Оп. 1. Д. 370 (воспоминания студента И. Куторги). Л. 22–23.
[Закрыть]. Очень похожую ситуацию описал другой очевидец. Ленин показался ему «сильным оратором», который сопровождал свою речь с балкона дворца Кшесинской «энергичными и резкими жестами, ударяя по балюстраде кулаком». За попытку сорвать его выступление криками «Браво, Кшесинская!» юные гардемарины едва не были избиты (70, с. 79–80). Ф. Степун находил в Ленине нечто «архаически-монументальное» – это был человек, который «жил массовой психологией» и при этом соединял «марксистскую схоластику» с «бакунинской мистикой разрушения» (81, с. 345, 358, 384).
Ленин не произносил особенно длинных речей. Это делал Троцкий. «Это же зверь, подхлестнутый сатанинским честолюбием, настоящий апокалипсический зверь из бездны, сжигаемой своей неутоленной жаждой разрушения…», – писал обозреватель еврейской газеты (91)254254
Однако для солдатских масс Троцкий оставался «своим». Описан случай, когда во время митинга солдаты едва не растерзали оборонцев из числа гвардейцев-гусар, один из которых во время выступления Троцкого осмелился выкрикнуть «Долой еврея» (см.: 43, с. 228).
[Закрыть]. Возможно, в этих словах сказывались эмоции отторжения от насаждаемой, как казалось, психологии погрома.
Между тем эмоции даже «самой передовой» – пролетарской – части населения к октябрю 1917 г. представляли совсем не то, чего хотелось бы большевикам. К этому времени интерес рабочих к каким бы то ни было политическим баталиям упал (93, с. 6–8). Но апатия эмоционально непредсказуемой части населения, как известно, тоже может сыграть на руку экстремистам. Строго говоря, большевики нуждались теперь не столько в поддержке большинства активного населения, сколько в его нейтралитете.
На фоне Ленина и Троцкого противники большевиков выглядели неуверенно. После падения самодержавия А. Тыркова так оценивала ситуацию в кадетской партии: «Генералы у нас есть, а армии нет. У левых армия огромная, но нет ума в центре». Между тем она же подметила, что кадетские «генералы», оказавшись во власти, ощущали себя неуверенно. В начале апреля Милюков пригласил товарищей по партии в свои министерские апартаменты. И тут они почувствовали себя так, словно «по ошибке попали в ненадлежащее место» и «невольно спрашивали друг друга – надолго ли это?» (51, с. 178–181). Образованные люди, вышедшие из авторитарной «стабильности», были бесполезны в условиях революции.
Психологические образы смуты
Все это в полной мере проявилось во время апрельского кризиса. Тезисы, предложенные Лениным своим несколько размягчившимся соратникам, были просты: никаких уступок «революционному оборончеству», т.е. тем «дурным» социалистам, которые поддерживают буржуазию и империалистов; соответственно, Временное правительство должно отказаться от завоевательных планов. Ленин был недоволен и лидерами существующих Советов – их следовало заменить «настоящими» революционерами. «Буржуазному» парламентаризму не должно быть места в новой России – его должна сменить «более высокая» форма демократии в лице «Республики Советов, рабочих, батрацких, крестьянских и солдатских депутатов». Ленин предлагал также централизацию банковского дела и постепенный переход к «общественному» контролю над производством и распределением продуктов.
Именно так он понимал «шаги к социализму». Его давний оппонент П.Н. Милюков смотрел на происходящее иначе. 18 апреля он заверил засомневавшихся послов союзных держав, что Временное правительство в полном согласии с ними продолжит войну до победы. И в тот же день рабочие начали праздновать уже привычный Первомай (по новому стилю). О ноте Милюкова они пока не знали, а потому вели себя мирно. Милюков, со своей стороны, постарался сделать все, чтобы ноту не заметили. В тогдашней обстановке надеяться на это было по меньшей мере наивно.
Последующие события представляли собой характерное для революции соединение провокации и анархии, утопии и психоза. Социалисты готовы были проглотить «буржуазную» пилюлю, но кадетский ЦК призвал граждан выйти на улицы 20 апреля для поддержки правительства. Между тем в тот же день солдаты заговорили, что милюковская нота «оказывает дружескую услугу не только империалистам стран Согласия, но и правительствам Германии и Австрии, помогая им душить развивающуюся борьбу немецкого пролетариата за мир…» (69, с. 728). Пронесся слух, что идет распродажа «земель, леса и недр иностранным и своим капиталистам». «Милюков заварил такую кашу, которую ни ему, ни всему правительству не расхлебать», – констатировали наблюдатели (55, с. 35). Солдаты требовали отставки Милюкова и Гучкова и обещали прийти на помощь Совету с оружием в руках. Последовало хождение раздраженных толп к Мариинскому дворцу – резиденции правительства. Демонстрации шли вразнобой, агитаторы действовали с переменным успехом. Но страсти накалялись: появились плакаты «Долой Временное правительство!». 21 апреля на улицы столицы с требованиями мира вышло до 100 тыс. рабочих и солдат. Большевики утверждали, что около трех часов дня на углу Невского проспекта и Екатерининского канала по толпе рабочих начали стрельбу гражданские лица, переодетые солдатами. Результат – трое убитых, двое раненых.
Между тем газеты печатали весьма своеобразные репортажи о происходившем. Так, 21 апреля на Невском появился автомобиль, на крыше которого стоял офицер с портретом Керенского и вопрошал, обращаясь к толпе: «Верите ли вы Керенскому или не верите?» Его поддерживали солдаты-инвалиды, призывавшие: «Долой ленинцев!» Говорили также, что в 12 часов ночи на улице появилось знамя с надписью: «Да здравствует Германия!» (21, с. 274, 276). П. Сорокин утверждал, что в ходе кризиса «два полка в полном вооружении покинули казармы, чтобы поддержать бунтовщиков. Началась стрельба! Грабеж магазинов принял всеобщие масштабы» (79, с. 95). Трудно сказать, то ли он гипертрофировал произошедшее, то ли воспроизводил слухи. А 12 мая московский обыватель пересказывал такую сплетню: «По Петрограду разъезжает грузовой автомобиль, с которого женщины и дети разбрасывают “манифест к народам всего мира”, подписанный каким-то “прапорщиком графом Головкиным-Хвощинским», начинающийся словами: “Ослы! Из-за чего вы воюете?”» (55, с. 41).
Казалось, было о чем задуматься. Однако 27 апреля премьер Г.Е. Львов произнес такую «вдохновляющую» речь: «Великая русская революция поистине чудесна в своем величавом спокойном шествии… Свобода русской революции проникнута элементами мирового, вселенского характера… Душа русского народа оказалась мировой демократической душой… Она готова слиться не только с демократией всего мира, но и встать впереди нее и вести ее по пути развития человечества на великих началах свободы, равенства, братства» (цит по: 46, с. 495). Неудивительно, что эти слова «буржуазного» политика вызвали восторг социалиста-идеалиста Церетели. Новые российские верхи оказались во власти новых (старых по идеократическим параметрам) этатистски-утопических самообольщений. А уже в ходе июньской демонстрации, по мнению наблюдателей, едва ли не все лозунги начинались со стандартного: «Долой..!». Якобы были и такие: «Долой, долой, долой!» (55, с. 49) – неважно кого. Казалось, политический негативизм перерастал в безадресную агрессивность.
Между тем современники в который уже раз писали об «властебоязни» российских политиков, превратившихся с победой революции в «партию ИИ» – «испуганных интеллигентов» (17, с. 566). Очевидно, она происходила от непривычки действовать самостоятельно, воспитанной российским патернализмом. Характерно, что даже левые партии по мере ими же провоцируемого «углубления революции» чувствовали себя все менее уверенно. А.В. Тыркова отмечала, что к началу открытия Учредительного собрания эсеры «раскисли, теряют почву, в своих декларациях повторяют слова большевиков». «Кому из них хотеть победы?» – задавалась она риторическим вопросом (51, с. 212). Эсеры по-прежнему легче чувствовали себя в роли жертвы. Возможно, это было главной психологической особенностью российской политики, неожиданно освободившейся от царской «опеки».
Интересно, как «Гроза» интерпретировала солдатские настроения: «Сами министры под обстрелом не находятся и потому им посылать людей на бойню легко; ответа же за напрасно погибший народ перед Богом, как имел его Царь, они не несут; и потому им решительно все равно, сколько бы русского народа ни было бы перебито…»255255
Гроза. – Пг., 1917. – 7 мая.
[Закрыть]. Газете по-своему поддакивало все большее число обывателей256256
27 апреля Н. Окунев писал в дневнике, что «хотел бы немедленного перемирия и международного конгресса об закончании войны с восстановлением наших довоенных границ и без взятия с нас контрибуции» (см.: 55, с. 38).
[Закрыть]. В общем, газета упорно противопоставляла непосредственные устремления масс планам Временного правительства. В этом она действовала синхронно с ленинской «Правдой», опубликовавшей проект устава Красной гвардии, предусматривавший «временное» вооружение рабочих для борьбы с погромами, контрреволюцией и т.п.257257
Правда. – Пг., 1917. – 29 апр.
[Закрыть]
Разумеется, «Гроза» подходила к массам с совершенно иных позиций, нежели большевики. Однако она ставила им в заслугу то, что они «объединили вокруг себя все полки, отказавшиеся подчиниться правительству из жидов-банкиров, генералов-изменников, помещиков-предателей и купцов-грабителей»258258
Гроза. – Пг., 1917. – 29 окт.
[Закрыть]. С точки зрения тогдашнего интернационализма это был более чем сомнительный комплимент. Но он был справедлив: апеллируя к сознательности, большевики пришли к власти, опираясь (вольно или невольно) на насилие толп, возбужденных иррациональным чувством ненависти.
Неудивительно, что в массах усиливались антисемитские настроения. Так, после начала июньского наступления в Киеве стали распространяться слухи о предстоящем исчезновении продовольствия, и толпы женщин (как считалось, жен жандармов и городовых) стали нападать на еврейские дома и лавки с целью поиска припрятанного продовольствия. На Подоле было избито несколько человек, включая милиционеров-евреев. В дальнейшем нехватку продовольствия и предметов ширпотреба стали постоянно связывать с действиями евреев‐торговцев (15, с. 309, 311, 347, 387, 388, 390, 392, 393, 432, 477).
Несомненно, в психике народа был чрезвычайно силен эгалитаристский компонент, точнее, его уравнительная интенция. Подчас она приобретала агрессивно-мстительные формы по отношению к тем, кто раньше находился наверху социальной иерархии. Так, 4 июля 1917 г. на одном из дивизионных митингов на Северном фронте солдаты (вроде бы, независимо от сходных событий в столице) отказались идти в наступление, мотивируя это тем, что их дивизия, в отличие от других, трижды участвовала в тяжелых боях. Недовольство своеобразно обернулось против «своих» генералов: поступили предложения определить их в обозные, в кашевары, послать на конюшню, казнить, «отвинтить головы». Кончилось тем, что им запретили пользоваться своими автомобилями, вынудили идти пешком под крики разнузданной толпы. Автомобиль, естественно, оседлали солдаты, на котором «понеслись вперед» (30, с. 90–91). Невольно вспоминается мечта деревенских мужиков «покататься на барских тройках».
Послефевральский Петроград фактически оказался в руках рабочих и солдат. Часть солдат у Таврического дворца безуспешно уговаривала лидеров Совета взять власть в свои руки. Тогда и произошел трагокомический случай: В.М. Чернов, пытавшийся урезонить толпу, услышал в ответ слова рабочего: «Принимай власть, сукин сын, коли дают!» Отказавшийся от такой чести «селянский министр» был тут же арестован возбужденными анархистами, по словам Л.Д. Троцкого, «полууголовного-полупровокаторского типа». И тут именно Троцкий приемом, ставшим вполне привычным, выручил Чернова. Он поставил на голосование толпы вопрос об освобождении Чернова – вроде бы, против никто не возражал. По другой версии, на речь Троцкого анархисты реагировали отрицательно; отпустили Чернова матросы (75, с. 638, 755–756, 771, 791–793, 798; 76, с. 384; 67, с. 203–205) – «краса и гордость революции», согласно тому же Троцкому.
Судя по всему, страсти разыгрались не на шутку. П. Сорокин, пытавшийся урезонить окруживших его «революционеров», вспоминал: «Я говорил не с толпой, а с чудовищем. Глухой ко всем резонам, помешавшейся на ненависти и слепой злобе, этот монстр просто громко выкрикивал идиотские лозунги большевиков. Никогда мне не забыть лиц в этой сумасшедшей толпе. Они потеряли весь человеческий облик, превратившись в настоящие звериные морды. Толпа вопила, визжала и яростно грозила кулаками». Самого Сорокина называли «предателем» и «врагом народа», грозили смертью. На слова о том, что его смерть не наполнит пустые желудки населения, не даст земли крестьянам, последовал «животный взрыв смеха». «Так легко настроение толпы колебалось от одного к другому!» – заключал будущий выдающийся социолог. Согласно воспоминаниям этого автора, названным «Автобиографический роман», разъяренных большевиков «успокоил» офицер, «командир полка велосипедистов», объявивший, что бунтовщики на улицах рассеяны (79, с. 102–104). Трудно сказать, что происходило на самом деле около Таврического дворца. Но на продуманный план захвата власти это похоже не было.
Стоило ли удивляться после этого, что в октябре большевики столь легко перехватили власть у зазевавшихся меньшевиков и эсеров? Но «ученый» ум упорно гонит от себя ту «простоту», которая лежит за пределами его базовой мыслительной парадигмы. Отсюда бесконечно множащиеся рассуждения о «технологии» захвата власти большевиками. Однако какое отношение они имеют к реалиям 1917 г.?
После июльских событий солдаты рассуждали так: «Мы отказались от завоевания, от захвата и аннексии, контрибуции. Зачем же нам наступать…». Другие писали: «У нас происходит какой‐то хаос, большевики свое тянут, меньшевики свое тянут, а на фронте нет ни одного такого человека, который рассказал народу, что обозначают эти два элемента». Обилие разных партий вызывало недоумение (60, с. 749). Тогдашняя психосоциальная обстановка требовала «простых» объяснений и соответствующих решений. На почтовых открытках того времени соотношение большевиков и меньшевиков представляли в виде несоразмерных детских фигур: большой поглядывал на маленького сверху вниз, «малыш» демонстрировал смятение. Пугали «мрачные известия о неурожае в “житницах России”, о пожарах» (55, с. 64).
Когда власть и ее институты теряют свою сакральную ауру, настает время «тупых» силовых решений. «В комитеты мы не верим. И даже в Учредительное собрание не верим», – констатировал 22 июля М. Пришвин. А 1 августа он многозначительно (как может задним числом показаться) добавлял: «Государство есть организация силы» (66, с. 82). Но эта сила питается не только оружием власти, но и духом масс.
Все чаще ситуация казалась безнадежной. Поражение Корнилова усилило общественную апатию. Казалось, что будь он даже «гениален, как Наполеон», все равно ничего бы не вышло. В связи с этим обыватели осуждали всех «наших временно-вредо-правителей до детей маломысленных», составлявших российские «элиты», и уверяли, что «именно “буржуи” сознают… бессмысленность и бесплодность» продолжения военных действий. «Надо всем сразу сказать “долой войну” и моментально остановить ее перемирием», – такие размышления встречались в дневнике Н. Окунева (55, с. 75). В общем, большевикам делалась конкретная «подсказка».
Общественные страсти создавали ситуацию ограниченного выбора. «Ваше поведение невольно толкает к контрреволюции… – писала неизвестная женщина «соглашателям» Петроградского Совета. – Я готова взорвать вас, пойти с кадетами, с Корниловым, с самим чертом, только бы, наконец, можно было… успокоиться… не будет серый хам издеваться над чувствами и человеческим достоинством интеллигента»259259
ГА РФ.Ф. 6978. Оп. 1. Д. 298. Л. 94 об.
[Закрыть].
Революция предполагает не только готовность оголтелых инсургентов «взять власть». В патерналистских системах она включает в себя и готовность обывателя отдаться на милость победителя. А.В. Луначарский уверял, что накануне большевистского переворота «в средних и высших слоях общества, кроме озлобления и пассивного ожидания, кроме смятения и уныния, не было заметно ничего» (42, с. 198). Возможно, он «вдохновенно» выдавал желаемое за действительное.
Предсказанная развязка
Предсказания делаются везде и всегда. К ним прислушиваются, ибо их востребованность обусловлена запрятанным в душах людей эсхатологическим мировосприятием. Но реализуются они в качестве своего рода метафизического протеста против ставшей социально бездушной «переусложненности» бытия. Эта невидимая составляющая и является настоящей исторической причиной революций.
Победа большевиков в известном смысле была победой силы и страсти над привычным интеллигентским теоретизированием. Настал момент, когда все решается «не совещаниями, не съездами», – доказывал В.И. Ленин. «Правительство колеблется. Надо добить его во что бы то ни стало!», – заклинал он своих товарищей вечером 24 октября 1917 г. (41). К тому моменту колебалось не только правительство. Колебались все. «Во всем Петрограде невозможно было найти ни одного сколь-нибудь спокойного и уравновешенного человека» (26, с. 272), – уверяли некоторые наблюдатели.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































