Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 6"
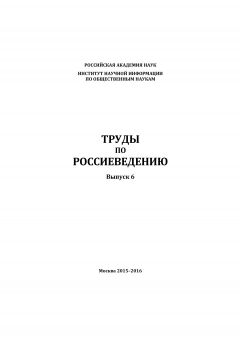
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 37 страниц)
Кстати, Щедрина, имея в виду экзистенциальные дневники Густава Шпета и Михаила Пришвина, предлагает анализировать дневник как феномен письма, а не жанр литературы: «Экзистенциальный дневник имеет одну отличную от других дневниковых форм особенность – это не жанр литературы, но способ письма, фиксирующий “живуюˮ речь и тем самым позволяющий человеку сохранить свою личность. Это первое и самое главное его отличие от других способов письма. Экзистенциальный тип дневниковых записей возникает только в пограничных ситуациях (перед лицом вины, смерти, тяжелых жизненных испытаний, стрессовых ситуаций, в том числе тотального страха быть уничтоженным, стертым с лица земли), т.е. контекст, заставляющий человека писать такой дневник, экстремален. Эта ситуация подводит человека к границам существования, к “последней чертеˮ, выход за которую меняет, как положительно, так и отрицательно, конфигурацию жизненных пристрастий, личностных оценок, ценностных ориентиров» (с. 181).
Характерно, что в дневниках русских философов и писателей, вынужденных жить при советской власти, фиксируется процесс угасания публичной речи. С приходом к власти большевиков в России исчезают философская и культурная «сферы разговора». Пространство общения сжималось, пока не дошло до точки. Коммуникативная атомизация советского общества достигла апогея в 1930-е годы. Об этом писал М. Пришвин в 1939 г.: «…остаются только твои семейные, да еще два-три старичка, с которыми можно говорить обо всем без опасения, чтоб слова твои не превратились в легенду или чтоб собеседник не подумал о тебе как о провокаторе… Что‐то вроде школы самого отъявленного индивидуализма. Так в условиях высшей формы коммунизма люди России воспитываются такими индивидуалистами, каких на Руси никогда не было» (с. 182).
Мне кажется, главный интеллектуально-политический итог книги Т.Г. Щедриной – квалификация исторического движения русской философии как прерванного полета. Русскому философствованию начала ХХ в., русской мысли не дали раскрыться в полную силу, не позволили выйти из «ученичества» и сказать «свое слово». «Прерванный полет русской интеллектуальной традиции – это ее недосказанность, – пишет Щедрина, – требующая внимательного прочтения, актуализации и проблемного исследования. Мы сегодня должны возвращаться к своему интеллектуальному наследию не за готовыми ответами, но за вопросами и проблемами, оставшимися зачастую лишь контурно намеченными, а иногда и просто интонационно схваченными в разговорах о самом главном, о том, что несло в себе личностный смысл» (с. 108). Иначе говоря, суть русской интеллектуальной традиции – в том, чтобы формулировать вопросы, «ставить» проблемы, но не предлагать решения.
Я думаю, с таким выводом согласятся все те, для кого критерий интеллектуальной свободы является главным. Однако уточнение все-таки внесу. Любой полет может быть прерван – как тем, кто летит, так и тем, кто наблюдает за ним со стороны. С этой точки зрения «судьбу» русской философии точно характеризует строчка из А. Вознесенского: ее «сбили как птицу влет». Записки профессиональных охотников за мыслью и простых любителей ее подстрелить для развлечения, фанаберии или других целей пока еще не стали популярным жанром литературы. Между тем русское государство до сих пор тренирует таких стрелков.
Нереализованная идея столетней давности
В заключение хочу поблагодарить Т.Г. Щедрину за то, что она неожиданно помогла мне сделать микрооткрытие. В августе 1917 г. Шпет писал жене: «Чем больше теперешние “любителиˮ России будут стараться на проведение своих идей, связанных с прошлым и своими корнями, тем труднее будет создание новой России. С Россией произошло то, что с домом Романовых: и чем скорее Романовы придут к сознанию нового положения, смирятся и, отбросив державные планы (курсив Т.Г. Щедриной), примутся за мелкую и скромную работу, тем им лучше. Россия должна отказаться от мировой политики, перейти на роль второстепенного и даже третьестепенного государства, заняться внутренним устроением и культурой, культурой, культурой, тогда она не погибнет вовсе, даст новых людей и новый “патриотизмˮ» (Шпет брал это слово в кавычки) (с. 104). Испытывая также ненависть ко всему тому, что называют термином «русская душа», Шпет тем не менее не мог отказаться от размышлений об этом: «Не могу оторвать себя даже мысленно от России», – восклицал он (с. 105).
При чтении этого отрывка меня будто ударило током. Изучением творчества Макса Вебера я занимаюсь с 1974 г. Но только в 2007 г. были опубликованы переводы на русский язык его статьей о России и русских революциях. Примерно тогда, когда Шпет писал жене (лето 1917 г.), Макс Вебер опубликовал статью «Русская революция и мир», где дал очерк взаимосвязи между российским империализмом, интеллектуализмом и национализмом. Вебер исходил из того, что государственные интересы не могут быть объективными, поскольку они зависят от идеалов и ценностей. Здесь он не привнес ничего нового: от Гегеля идет традиция трактовки международной политики как сферы реализованного произвола. Зато Вебер описал причины русских революций: реализуя свои специфические идеалы и ценности, царизм построил в России самую страшную за всю историю из мыслимых систему порабощения народов298298
См.: Вебер М. О России: Избранное / Пер. А. Кустарева. – М.: РОССПЭН, 2007. – С. 157.
[Закрыть].
Эта система так влияла на русскую мысль, что русский интеллектуал, к какой бы партии он ни принадлежал, становился ориентирован не национально, а националистически и империалистически. Империализм способен выступать в деспотической, либеральной и социалистической формах. По определению Вебера, империалист – это тот, кто за пределами сферы интересов свой нации силой вмешивается в дела других наций. «Русские политики должны забыть о делах чужих наций; только так они могут доказать, что они подлинные демократы» (с. 138), – таков веберовский вердикт.
Как видно, мысли выдающегося германского социолога и русского философа, живших в воевавших тогда между собой странах, совпадают почти «дословно». Оба советовали России отказаться от мировой политики. Оба связывали патриотизм с демократией. Случайно ли это совпадение? Как бы то ни было, два выдающихся ума предложили такую трактовку патриотизма, которая требует отказа России от мировой политики и ее сосредоточения на культуре. В ХХ в. Россия «забыла» об этом «проекте». В СССР культура была пристегнута к политике. Реанимация геополитики в постсоветские времена привела к появлению геоэкономики и геокультуры. Взаимосвязь между империализмом, интеллектуализмом и национализмом в российском случае не разорвана.
Г.Г. Шпет утверждал: борьба культуры и государства – правило русской истории. «Правительство существенно лишено творчества и существенно утилитарно. Правительственная и бюрократическая интеллигенция присвоила себе в России прерогативы интеллигенции аристократической. Отсюда специфические особенности истории русской культуры. Правительство существенно консервативно, оно репрезентирует народный инстинкт самосохранения и потому не может быть творческим»299299
Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии / Отв. ред., сост., коммент., археограф. работа Т.Г. Щедрина. – М.: РОССПЭН, 2008. – Ч. 1. – С. 70.
[Закрыть].
Примеры борьбы между культурой и государством во множестве дает социальная и политическая история нашей страны на протяжении последних 100 лет. Книга Т.Г. Щедриной является своего рода методологическим и содержательным введением в то дело, о необходимости которого было заявлено столетие назад.
Россия: Исторические пути и перепутья в ХХ веке
В.Л. Шейнис
Рецензия на книгу:
Пивоваров Ю.С. Русское настоящее и советское прошлое. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив: Университетская книга, 2014. – 336 с
Своей новой работе академик Ю.С. Пивоваров предпосылает эпиграф – слова Альбера Камю: «Моя книга вторгается непосредственно в текущую историю, чтобы заявить ей протест, и тем самым она становится пусть скромным, но поступком». Перед нами книга-размышление о «вечных» вопросах русской истории, которые «не решены и никогда решены не будут», но снова и снова возникнут в трудном процессе самопознания нашего общества. Книга ученого, осмысливающего историю последних десятилетий ХХ в. и остро переживающего неясный посыл ХХI столетия перед лицом «социальных необходимостей, требующих от нас преодоления советизма». Книга современника, заявившего свой нравственный императив: «автор делает ставку на свободу воли человека» (с. 3, 7, 10, 13). Очень многое привлекает в труде Ю. Пивоварова.
Культурный бэкграунд. Мне кажется, что автор получает интеллектуальное наслаждение, адресуясь к работам предшественников, соприкасаясь (и отталкиваясь) от идей Петра и Никиты Струве, Александра Зимина и Льва Тимофеева, Николая Карамзина и Василия Ключевского, и многих, многих других.
Переосмысление событий, многократно описанных, и взглядов, казалось бы, устоявшихся. Автор не обинуется бросить вызов: «Историю нельзя… невозможно понять так, как ее понимают профессиональные историки», – и приглашает к дискуссии.
Манера изложения. О сложных проблемах автор ведет разговор в жанре «некоего подобия дневников», написанных по свежим следам обжигавших событий 2008–2014 гг.
Стиль. Текст раскован, параллели неожиданны, многие примеры ошеломляющи300300
Кто бы решился, к примеру, вслед за Б. Парамоновым (Николай II – двойник Юрия Живаго) выстраивать параллель: Ленин – инженер Гарин. Или Ленин – Штольц, взявшийся реализовывать то, что привиделось во сне Обломову? – Прочтите, подумайте. См.: с. 76–80, 88.
[Закрыть]. Автор постоянно обращается к образам классической литературы, поэзии, кино, к своим повседневным наблюдениям. «Русская литература создала ту Россию, в которой мы живем, – замечает Ю. Пивоваров. – Именно писатели придумали основные русские типы, сформулировали основные русские вопросы, “сконструировалиˮ основополагающие русские мифы» (с. 118).
По широте и разнообразию затронутых тем, по остроте спора, в который вступает автор, по манере и стилю изложения его книга ярко выделяется в потоке историософской и политологической литературы. Она не может и не должна в нем затеряться. Я попытаюсь представить эту замечательную книгу читателю, во многом соглашаясь с автором, но подчас полемизируя с ним.
На пути к Февралю
Согласимся с А. Солженицыным: «Россия напрочь проиграла ХХ век». Эта оценка для Ю. Пивоварова принципиальна. Истекший век, развивает он мысль писателя, – «результат напрочь проигранной Революции. Поражение потерпели все: народ, интеллигенция, священство, элиты и пр. К сожалению, русское общество не хочет этого понимать». Ни победа в Отечественной войне, ни прорыв в космос, ни обретение статуса «второй великой державы» и т.д. не могут заслонить главного: «…более античеловеческого, немилосердного и губительного для собственного народа социального порядка в новой истории припомнить нельзя. В России в ушедшем столетии произошла антропологическая катастрофа» (с. 48).
Почти ничто, полагает автор, в предшествовавшие десятилетия не предвещало столь трагического оборота событий. Особенно отчетливо контраст бросается в глаза при сопоставлении с прошедшим историческим периодом – от «Великих исторических деяний Александра II» до Февральской революции. Это, настаивает он, «единая историческая эпоха», подлинное время реформ. Именно тогда «Россия пережила свой золотой социальный век»: «…феноменальный подъем экономики… рост и расцвет городов… блеск свободной науки и университетов… общественное самоуправление снизу доверху по всей империи – строилась великая русская демократия…» (с. 69). И даже к контрреформам в царствование Александра III автор склонен отнестись снисходительно: то было время «некоей естественной приостановки для того, чтобы прийти в себя, осмотреться, успокоиться – и двигаться дальше» (с. 116).
Согласимся: забывать о том, что входило в русскую жизнь в предреволюционные десятилетия, легкомысленно. И все же картина победного шествия прогресса по русской земле в годы царствования ее трех последних монархов преувеличенно мажорна, отвлечена от серьезных противоречий, невосполнимых задержек, преград на этом пути, которые во многом предопределили обвал.
Верно, что при Александре II развитие страны в общем (хотя и не без откатов) шло по восходящей линии и в некоторых областях (суд, право, свобода печати и др.) выходило на уровень, который и ныне недосягаем. Но мне хотелось бы привлечь внимание к тому, сколь опасны могут быть уступки реакции и трагичны остановки на пути реформ. В 1881 г. успешная акция первомартовцев, так и не понявших, что они сотворили, поменяла неустойчивое соотношение сил в верхах, сломала пружину поставленного было на взвод механизма политической реформы и отсрочила продвижение России к Конституции на 25 лет – и каких лет! Когда Александр II еще не был похоронен, новый царь – любимый персонаж наших «патриотов» – созвал совещание высших сановников империи, чтобы решить, как быть с уже подписанным убитым царем квазиконституционным проектом Лорис-Меликова. Когда читаешь суждения тогдашних мракобесов о необходимости твердой власти, о народных традициях, об интеллигенции, которой следует поучиться у народа, о крестьянах, отданных под власть кулаков и жидов, и т.д., так и слышится клекот современных стервятников301301
См.: Былое: Журнал, посвященный истории освободительного движения. – СПб., 1906. – № 1. – С. 189–194; Пг., 1918. – № 5. – С. 162, 184–193.
[Закрыть].
Проект Лорис-Меликова, довольно осторожный по сравнению с современными ему европейскими конституциями, будь он реализован в России, где уже с 1860-х годов начинали набирать силу и влияние земские учреждения, суды, университеты и др., был бы прорывным шагом: учредил бы институт, вокруг порядка формирования и роли в государственной системе которого шло бы перетягивание каната от самодержавия к «общественности». И происходило бы это при еще живом царе-реформаторе, способном в критические моменты сыграть роль арбитра и пойти наперекор консервативному дворянству и бюрократии.
Вопрос о возможностях и пределах реформирования России в предфевральские десятилетия – центральный, и свою позицию Ю. Пивоваров заявляет предельно ясно и обосновывает обстоятельно. «Настоящая реформа – а мы признаем реформы трех последних царствований настоящими – не крушит наличный мир, а преобразовывает его, совершенствует. По своей природе она нацелена не на уничтожение каких‐то, казалось бы, устарелых форм, а на развязывание возможностей для становления тех сил, что зреют в рамках этого мира» (с. 118). В идеале наименее болезненные для общества реформы именно так, видимо, и должны были бы проводиться. Если покопаться в истории разных стран, можно, наверное, найти примеры подобного проведения реформ. Беда России, однако, заключалась в том, что самые необходимые, даже уже не терпящие дальнейшего отлагательства реформы встречали (и встречают) бешеное сопротивление радетелей «устарелых форм», а их консервация тормозила и коверкала реформы.
Обратимся к тем сюжетам, которые рассматривает для обоснования своей концепции автор. Их можно сгруппировать по трем основным пунктам: «исторический компромисс» между самодержавием и обществом – Николай II – Столыпин.
Основные законы от 23 апреля 1906 г. («Конституция Николая II»), утверждает автор, привлекая авторитетные суждения В. Маклакова и В. Леонтовича, уже зафиксировали компромисс между властью и обществом. «Максимум того, что общество могло тогда «переварить», оно получило. И максимум того самоограничения, на которое тогда могла пойти власть, она установила… всем следовало оставаться в этих рамках…» (с. 25, 28). А почему, собственно, и как измерены эти максимумы? Формулой компромисса – Конституцией (не говоря уж о том, что всегда творила и творит власть в обход и нарушение закона) – не были удовлетворены обе стороны; и «компромиссно-консенсусное начало» в их отношениях не нарастало, а подрывалось. В подтверждение этого можно привести множество фактов ограничения и нарушения дарованных свобод. Сама Конституция с суверенитетом царской власти и невозможностью Думы влиять на исполнительную власть, с известной 87-й статьей, открывавшей для правительства обширное поле для маневров также и в законодательной сфере, и т.д. была, как справедливо замечает автор, «потенциальным источником нового взрыва» (с. 118). Взрыв мог бы и не произойти? Это так, но при одном по крайней мере из двух условий: если бы общество и его представитель – Дума смотрели на себя глазами царицы Александры Федоровны302302
«Царь правит, а не Дума», – писала Николаю II императрица. См.: Переписка Николая и Александры Романовых. – М.; Пг.: Госиздат, 1923. – Т. 5. – С. 153.
[Закрыть] и (или) если бы царь не пребывал в убеждении, что его долг – передать наследнику власть в том виде, в каком он ее получил от своего отца.
В нашем обществе происходит переоценка личности и исторической роли последнего русского царя. Образ, нарисованный Ю. Пивоваровым, вероятно, понравится многим: на протяжении всего своего правления Николай II уходил в privacy, пожертвовал во имя этого властью и превратился в никому не нужного «лишнего человека». Он – «лучшее в новой русской истории олицетворение» выбора «в пользу достойного, человечного и справедливого», а под конец жизни «явил себя в блеске достоинства» (с. 69, 70, 72, 73, 79, 88). Признаем за автором право на такую оценку личных качеств человека, с честью встретившего смерть.
Однако получил он колоссальную власть на беду себе, своей семье и стране в переломный период ее истории. А. Солженицин несправедливо обвиняет царя в том, что он не «продрог в безжалостности», чтобы совладать с «Либерально-радикальным Полем»: «…слабый царь, он предал нас»303303
Солженицын А. Размышления над Февральской революцией // Российская газета. – М., 2007. – 27 февр.
[Закрыть]. Но он не мог подавить нараставшую оппозицию и по своим личностным качествам, и по объективным обстоятельствам. Он действительно был слаб и вдобавок напичкан предрассудками, а потому не мог стать ни «выдающимся деятелем», ни «реформатором власти» (с. 68, 69). В словах С. Витте: император не терпит «иных, кроме тех, которых он считает глупее себя, и вообще не терпит имеющих свое суждение, отличное от мнений дворцовой камарильи (т.е. домашних холопов)»304304
Витте С.Ю. Воспоминания. – М.: Госиздат, 1960. – Т. 3. – С. 33.
[Закрыть], явно прочитывается обида отставленного царедворца. Николай II все-таки в критические моменты приближал к себе и Витте, и Столыпина. Но неоспоримы реалии: царская воля не просто органично проявляла себя в ущербном поведении (благоволение к «черной сотне» – Дубровину и ему подобным, позор распутинщины), но и препятствовала превращению России в «нормальную страну» (воспользуюсь понятием Ю. Пивоварова), т.е. развитию процесса, исходным пунктом которого могла стать (но не стала!) Конституция 1906 г.
Ярко представляет автор фигуру Петра Столыпина. Его речь при открытии II Думы – действительно впечатляющая программа, реализация которой позволила бы привести правовой порядок в стране в соответствие с Конституцией 1906 г. (с. 26–27)305305
Столыпин П.А. Речи в Государственной Думе и Государственном совете. 1906–1911. – Нью-Йорк: Телекс, 1990. – С. 36–46.
[Закрыть]. Можно пойти дальше и вспомнить вторую большую государственную программу, продиктованную Столыпиным незадолго до его гибели. Будь она осуществлена, утверждает А. Солженицын, она превзошла бы реформы Александра II и явила Россию «впервые в полном раскрытии своих даров». Но, во‐первых, даже полная реализация потенциала, содержавшегося в Основных законах 1906 г., могла стать лишь промежуточным, а никак не конечным пунктом в демонтаже самодержавного строя. А во‐вторых, и это главное, Солженицын не зря описывает нараставшую изоляцию выдающегося реформатора в структурах власти – путь к гибели премьера. Он справедливо отмечает, что отношения неординарного реформатора с царем – «уязвимая перемычка всей столыпинской работы», что уже в апреле 1911 г. «чуткие придворные носы распознали, что Государь бесповоротно охладел и даже овраждебнел к Столыпину»306306
Красное колесо. Узел I. Август четырнадцатого // Солженицын А.И. Собрание сочинений: в 20 т. – Вермонт; Париж: YMСА-press, 1978–1983. – Т. 11. – С. 219, 239–243.
[Закрыть].
Энергия и устремленность выдающегося реформатора не могли компенсировать ни его предельную зависимость от капризного самодержца, ни коренной дефект государственного устройства, конституированного в 1906 г., – полнейшую независимость исполнительной власти (не только собственно правительства, но и теневой камарильи) от народного представительства. Это врожденный и поныне являющий себя в разных обличьях порок «русской власти». Ведь и в условиях обострившегося политического кризиса в годы войны царизм не соглашался удовлетворить архиумеренные требования оппозиционного Прогрессивного блока в Думе – создание правительства даже не парламентского большинства, но «пользующегося доверием общества»307307
См.: Дякин В.С. Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны, (1914–1917). – Л.: Наука, 1967. – С. 102–109.
[Закрыть]. Выправить положение, замечает В. Шульгин, мог бы только «второй Столыпин»308308
«Нельзя же в самом деле требовать от страны бесконечных жертв и в то же время ни на грош с ней не считаться, – писал Василий Шульгин. – За поражения надо платить. Чем?.. Той валютой, которая принимается в уплату: надо расплачиваться уступкой власти… хотя бы кажущейся, хотя бы временной…» (Шульгин В.В. Дни. 1920. – М.: Современник, 1989. – С. 125–126).
[Закрыть]. Но под рукой у монархии в последний год ее существования оказался лишь Б. Штюрмер, проходивший «производственную практику» у В. Плеве, ставший премьером с подачи Распутина и царицы, невежественный не только в дипломатии, но и в географии воюющих стран. «Одного этого назначения, – написал П. Милюков, – было достаточно, чтобы охарактеризовать пропасть, существовавшую между двором и общественными кругами»309309
Милюков П.Н. История второй русской революции: Воспоминания. Мемуары. – Минск: Харвест, 2002. – С. 26–27.
[Закрыть].
Трагедия 17-го года
«Зачем Февраль?» – ставит вопрос Ю. Пивоваров и отвечает: «По большому счету, Февральская революция произошла потому, что, к сожалению, ни общество, ни власть не поняли: революция уже (в 1905–1907 гг.) была».
Автор отмечает исторические обстоятельства, которые вели к Февральскому перевороту: влияние войны, безответственность властей, заговор военных, стакнувшихся с «общественниками» и т.д. Но все это, по его мнению, причины второго порядка: при более дальновидном поведении главных фигурантов развитие могло продолжаться в рамках, на которые Россию вывела Конституция 1906 г. Мне трудно с этим согласиться. То, что буржуазно-демократическая революция 1905–1907 гг. была незавершенной, то, что «исторический компромисс» между самодержавием и рвущейся в ХХ в. Россией не мог остановиться на достигнутом, видно хотя бы из программы Временного правительства, объявленной уже 3 марта 1917 г. и содержавшей перечень мер, элементарных с точки зрения европейского прогресса310310
Хроника России: ХХ век. – М.: Слово/Slovo, 2002. – С. 212; Керенский А.Ф. Русская революция. 1917. – М.: Центрполиграф, 2005. – С. 118–120.
[Закрыть]. Преобразования, за которые несколько десятилетий бились русские либералы и революционеры и которые были либо начаты, либо осуществлены за несколько недель второй русской революцией, были абсолютно невозможны при сохранении самодержавной власти, а поражения на фронтах и политический кризис делали эти преобразования неотложными.
А все, что стало происходить в стране после Февраля и главное – куда «слиняло общество летом-осенью (особенно осенью) 1917 г.» (с. 29), – не укладывалось в известные каноны европейских революций. И здесь объяснения, которые предлагает Ю. Пивоваров, глубоки и оригинальны. С петровских времен страна была фундаментально расколота на две субкультуры («два враждебных склада и направления нашей жизни», по В. Ключевскому). Соответственно весной 1917 г. развивалась не одна, а две разные революции. Одна – общества, окрепшего и осознавшего свою силу особенно в годы войны, восставшего против традиционной власти. Оба фигуранта принадлежали к верхней, европеизированной (хотя и в разной мере) культуре. Вторая – крестьянская, уравнительно-передельно-захватная революция, покончившая, в частности, со столыпинской реформой (с. 28–34). Действительно, что можно было ждать от десяти с лишним миллионов вооруженных крестьянских парней, изнуренных тремя годами жизни в окопах и вожделевших принять участие в земельном переделе, коль скоро все сдерживавшие их путы были разорваны или ослаблены?
Со второй половины 1917 г. стала набирать силу третья – большевистская революция, которая осуществила передел государственной власти. В 1917 г. столкнулись две революции. Как поезда. Историческая катастрофа подобна железнодорожной: оба поезда сошли со своих путей. «К весне-лету 1917 г. Революция европеизированной субкультуры достигла своих целей. Здесь бы ей остановиться, передохнуть, “подуматьˮ и начать строить. Но именно в этот момент в нее врезалась Революция традиционалистской, крестьянской субкультуры. Ее мощь лишь начинала разворачиваться. Большевики сумели сыграть на этом столкновении: на “временномˮ угасании одной Революции и подъеме другой. Развал государства и армии дал еще одну волну мощного разрушительного свойства» (с. 34). Такова, в общих чертах, концепция Ю. Пивоварова. Связка Февраля с Октябрем, взломавшим Российское государство и общество, подтверждена ходом свершившихся событий. Но нимало не оспаривая анализ глубинных процессов в книге Ю. Пивоварова, мне хотелось бы поставить иной вопрос: следовал ли Октябрь за Февралем с неотвратимостью чередования времен года?
Чтобы пояснить мысль, позволю себе сделать небольшое отступление. Досконально рассматривая глубинные процессы (особенно завершившиеся), объективные связи, мы нередко заключаем, что при данных условиях, при данном соотношении и характере действующих сил в развитии событий закономерен только известный результат. На самом деле этот результат в лучшем случае наиболее вероятен. В динамичных, изменчивых, остро конфликтных ситуациях воля нескольких или даже одного человека, исходящего из собственных представлений о должном и сущем и оказавшегося способным решающим образом повлиять на поведение других людей (иногда – больших масс), перенаправляет ход событий в неожиданном направлении и создает новую ситуацию с иными вероятиями и закономерностями. Так в 1917 г. на авансцене появился Ленин, личный выбор которого навязал окружению (а затем и стране) захват власти партией меньшинства – решение, которое многим сначала казалось неосуществимым или провальным. Или из Лондона в июне 1940 г. прозвучал голос до того не самого заметного французского генерала, который перевел ситуацию разгрома в ситуацию надежды, мобилизации сил сопротивления и привел Францию в число главных победителей, решавших судьбы Европы и мира.
Вернемся к конкретным обстоятельствам 1917 г., наличие и связи которых не были, как мне представляется, изначально и неотвратимо предопределены. Попробую противопоставить детерминистскому подходу альтернативный.
Во-первых, мощным ускорителем и катализатором разрушительных процессов была мировая война. О том, какие невыносимые тяготы и социальное озверение принесет с собой первая большая война ХХ в., мало кто мог догадываться и в Европе, убаюканной мирными десятилетиями, и в России. Конечно, напряжения между державами нарастали так быстро и резко, что войну колоссального масштаба едва ли можно было предотвратить. Но каждый год отсрочки (не говоря уж о 10–20 годах «покоя», которые запрашивал у истории Столыпин) был бы важен для России. Парадокс заключался в том, что за войну выступили и провластные, и либеральные круги, сомневался Распутин, колебался царь, а против войны, не имевшей ничего общего с национальными интересами страны, высказывалась лишь интернационалистская партия большевиков. Когда пройдет милитаристская истерия, антивоенная позиция станет одним из главных активов этой партии, который позволит ей подняться из небытия.
Во-вторых, после свержения царизма русская революция прошла несколько развилок. На каждой из них выбор пути не был предопределен. Но люди, к ногам которых неожиданно свалилась власть, воспринимали происходившие события в понятиях и устремлениях уходившего времени. Так, наверное, на крутых исторических поворотах бывает всегда. Беда, однако, в том, что держатели власти не смогли оценить, как скоротечен момент, который дал им свободу выбора, и сколь огромна ставка, какую мог сорвать победитель. Отбросив пошлую максиму: история не знает сослагательного наклонения, я рискну утверждать, что историческая судьба России в ХХ в. сложилась бы иначе, если бы Временное правительство вкупе с большинством, сохранявшимся в Советах до корниловского мятежа, сподобилось принять и провести в жизнь три решения.
Не обольщаясь плодами чаемой победы и не затевая авантюру с наступлением на фронте, выйти из войны. (Летом это можно было сделать на более достойных, чем Брестский мир, условиях, не раскалывающих страну.)
Найти приемлемую (пусть юридически не безупречную) форму признания и легализации земельного передела, который уже полным ходом творила крестьянская вольница. (Это было бы временным отступлением от столыпинского плана, но не обрекло бы, в терминах Пивоварова, эмансипационную революцию быть раздавленной альянсом большевиков и крестьян, с. 39–44.)
Не заморачиваясь разработкой совершенного избирательного закона и не стремясь выгадать на отсрочке народного вотума, провести выборы в Учредительное собрание, которое сообщило бы легитимность новой власти, пока это сделать было не поздно311311
Сходный вариант альтернативной истории описывал известный историк Виталий Старцев. См.: Старцев В.И. Октябрь 1917-го: Была ли альтернатива? Фантазии и реальность // Свободная мысль. – М., 2007. – № 10. – С. 96–107.
[Закрыть]. Предложения, содержавшие указанные три пункта, вечером 24 октября привезла Керенскому делегация Совета Республики в составе Н. Авксентьева, А. Гоца и Ф. Дана. Вероятно, в эти часы предотвратить Октябрьский переворот было уже поздно. Но своевременно осуществленные эти меры могли бы повлиять на ход событий312312
«Немедленно принять весьма существенные решения по вопросу о войне, земле и Учредительном собрании и немедленно оповестить об этих решениях население рассылкой телеграмм и расклейкой афиш, – предлагали посланцы предпарламента. – Мы настаивали, что это непременно должно быть сделано той же ночью, так, чтобы утром уже каждый солдат и каждый рабочий знали о решениях Временного правительства». См.: Дан Ф.И. Последняя попытка лидеров ЦИКа // Анин Д. Революция 1917 года глазами ее руководителей. – Roma: Edizioni Aurora, 1971. – С. 392.
[Закрыть].
В-третьих, сам Октябрьский переворот еще не был окончательным выбором. «Гражданская война была состязанием двух меньшинств при политическом безразличии “народаˮ, т.е. большинства простонародья, “настроенияˮ которого колебались так же, как колеблется погода», – цитирует высказывание Б. Струве Ю. Пивоваров (с. 46). Можно обозначить ряд переломных пунктов, когда стрелка могла склониться в другую сторону. Особенно вероятно это было вначале, когда «еще не смели верить в свою неслыханную, немыслимую удачу все эти… кремлевские мечтатели», – замечает автор, и указывает на сохранение Учредительного собрания как «последний, единственный шанс для всех нормальных (не-уголовников)» (с. 17). Я, правда, думаю, что упустили этот шанс не офицеры, которые отправились на Дон вместо Петрограда (где их с высокой вероятностью перебили бы), а выигравшие выборы в Учредительное собрание эсеры, которые раскололись и не вывели в защиту Констинуанты поддерживавшие их тогда еще заводы и воинские части в столице.
Я опять о трагедии упущенного времени. Ведь через несколько месяцев Учредительное собрание, первое (и последнее) в России избранное на всеобщих свободных выборах, но отразившее кратковременное, отчасти даже случайное соотношение сил, было сброшено в отвал. И страна втянулась в Гражданскую войну, в которой, думаю, победа ни одной из сторон не могла принести ей исцеления. Война забросала социальное поле «зубами дракона» надолго. Три года империалистической и четыре-пять лет Гражданской войны с их кровью, грязью, разгулом насилия протянули свои щупальца в последующие десятилетия, доформировали ту Россию, в которой мы живем сегодня. Более ощутимо, чем столетия татарщины и крепостного рабства.
Большевистский режим
В отличие от Великой французской революции (в ее время, к слову, тоже было достаточно жестокостей и бесчинств), которая позволила утвердиться новому порядку, вызревавшему в недрах старого, наша революция «раздавила этот новый порядок и ревитализировала многое из того, что, вроде бы, уже уходило» (с. 132). Большевизм, продолжает Ю. Пивоваров, явление того же порядка, что и фашизм, гитлеризм, маоизм. Исторически порожденный общинной и другими революциями в России, которые разнесли в 1917 г. и общество, и прежнюю власть, он был первым в ряду тоталитарных режимов ХХ века. «Энергия этих революций напитала большевизм сначала как движение, затем как Режим. И он, побив всех остальных, встал на ноги и поволок Россию за собой» (с. 96).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































