Текст книги "Труды по россиеведению. Выпуск 6"
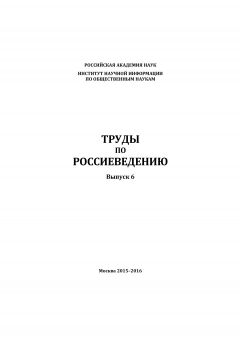
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 36 (всего у книги 37 страниц)
Об исторических путях и беспутье323323
Печатается по изд.: Новая газета. – М., 2015. – 18 февр. Михаил Эпштейн – философ, культуролог, лингвист.
[Закрыть]
М. Эпштейн
XX век Россия провела под знаком революционной утопии и в значительной мере сумела навязать ее миру. Речь шла о прыжке в царство свободы, о грядущих веках коммунистического изобилия. А в ХХI в. произошел разворот к утопии прошлого, причем тоже – на века, горизонта пока не видно. Окно в Европу, прорубленное Петром, уже закрывается. И если пятилетние планы было принято выполнять за три года, то по скорости движения в прошлое постсоветская Россия уже опередила Советский Союз, за один год одолев три века.
Историческая неприкаянность
Собственно, и та Утопия, на которую страна затратила минувшее столетие, тоже быстро, уже в 1920–1930-е, обратилась в свою противоположность, в крепостническое государство. Теперь этот вектор движения к архаике стал уже сознательной политикой – назад, в Средневековье, в столетия одиночества на отшибе от Европы и Азии. А отсюда уже недалеко и до возвращения к периоду феодальной раздробленности Руси…
Вспоминается «Заблудившийся трамвай» Н. Гумилева (1920 г.) – как метафора страны, заблудившейся в смене эпох:
Мчался он бурей темной, крылатой,
Он заблудился в бездне времен…
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.
Но вагон неудержимо несется в пропасть безнадежно смешавшихся времен, и вот уже в окне мелькает:
Вывеска… кровью налитые буквы
Гласят – зеленная, – знаю, тут
Вместо капусты и вместо брюквы
Мертвые головы продают.
Похоже, что за истекшее столетие мало что изменилось, и стране по-прежнему все равно куда стремиться, вперед или назад, в будущее или прошлое, лишь бы, ускоряясь туда или сюда, не жить в настоящем, в одном времени с человечеством. Ибо она умеет только выживать – на пределе сил, пребывая в том изнеможении и беспамятстве, куда, если верить платоновским «Чевенгуру» и «Котловану», завела народ предыдущая утопия.
И сегодня – все та же потребность отгородиться от настоящего, заговорить себя магическими заклинаниями, не важно, какими: «коммунизм» или «наш мир». Коммунизм, несмотря на миллионы жертв, так и остался призраком, каким явился впервые в Коммунистическом манифесте («Призрак бродит по Европе», 1848 г.). Потом этот призрак поселился в России и напитался кровью не только ее, но и почти половины человечества. Теперь в Европу запущен новый призрак под названием «Румир», гораздо более чахлый, но все равно жаждущий крови. По сути, «Новороссия» – еще больший призрак, чем коммунизм, ведь и своя-то территория, «Старороссия», остается неухоженной, невозделанной и кроме даровых недр матери-земли мало какими рукотворными богатствами может похвастаться.
Как князь Всеслав в ночи «волком рыскаше», так Россия мечется по географическим и историческим просторам, от Ивана Грозного до «бесклассового общества», от древней Корсуни до светлого будущего всего человечества, – лишь бы убежать от самой себя, от гнетущей пустоты, раскрывающейся в ее сердцевине. Страна только потому и посягает на чужое, что это вывернутая форма избавления от себя. Ее гораздо больше волнует Америка, Европа, Украина, чем собственная жизнь. Только через воинственное соприкосновение с чужим она начинает ощущать себя, а внутри нее – как будто мертвенность, бесчувствие, безжизние. Разве что внутренний враг, «национал-предатель», чужой среди своих, приятно ее «оживит», став целью скорейшего уничтожения…
Если вырваться вперед не получилось, если безнадежно отстали – рванем назад, в азиатщину, в Московскую Русь, Третий Рим, крепостное право… Опередим всех на путях к «Великой Традиции». Словно история – это игровая площадка, картинг, где легко и весело рулить куда попало. Страна лихо разгоняется то в одном, то в другом направлении. Вместо того чтобы выравняться, влиться в общее движение цивилизации – рвется туда, куда ее развернуло тормозами и инерцией. Лишь бы убежать от самой себя…
Это и есть то ничто, которое экзистенциальные мыслители, от Кьеркегора до Бердяева, Хайдеггера и Сартра, считали глубинной основой, точнее, безосновностью бытия. Но для них ничто – это отправная точка, способность взглянуть на бытие извне, помыслить и выразить его. Для России ничто – это точка прибытия, та «вукоебина» (емкое сербское слово – «глухое место, приволье волкам»), где она, устав от усилий модернизации и по-прежнему исторически неприкаянная, хочет укрыться. Мечется по всем просторам Евразии, то в Афганистан устремится, то в Арктику, ища спасения от какой-то сосущей пустоты. Почему она так безжалостно губит свое – и зарится на чужое, в общем-то не нужное ей? Почему ни в Европе, ни в Азии, нигде, куда приходит Россия, не возникает ничего нового, творческого, радостного, никакой пользы и воодушевления, кроме все той же мертвящей, цементирующей власти и разъедающей ее, но одновременно не разлучной с ней коррупции?
Означает ли это, что мы опять вернулись к Чаадаеву? «Опыт времен для нас не существует. Века и поколения протекли для нас бесплодно. Глядя на нас, можно сказать, что по отношению к нам всеобщий закон человечества сведен на нет… Весь мир перестраивался заново, у нас же ничего не созидалось: мы по-прежнему ютились в своих лачугах из бревен и соломы… Я не перестаю удивляться этой пустоте, этой удивительной оторванности нашего социального бытия» (1829).
Неужели этим отрывом от человечества и суждено завершиться тысячелетним приключениям российского духа? Сейчас политика перестает быть только политикой, поскольку задевает уже метафизический нерв существования страны, тот, где коренятся начальные и последние смыслы: куда, зачем? И всякий человек, причастный к России, ее культуре и языку, чувствует какой-то внутренний обвал, голос небытия, заклинающий то голосом В. Высоцкого: «Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!.. Хоть немного еще постою на краю», – то голосом А. Белого: «Довольно: не жди, не надейся – Рассейся, мой бедный народ!.. Исчезни в пространство, исчезни, Россия, Россия моя!»
Гнуться не ломаясь?
Можно ли долго гнуться, не ломаясь? Есть ли мера изнашиваемости у исторического материала, который постоянно растягивается в разные стороны, испытывается на краях, загибается то в архаику, то в прогресс, то в анархию, то в диктатуру, разгибается и вновь складывается по тем же самым швам? Еще один сгиб – и произойдет разрыв: обветшавшая историческая субстанция просто не выдержит таких многократных разнонаправленных деформаций.
Эта гибкость, если не сказать, развинченность внутреннего стержня, была свойственна и крупнейшим представителям российской культуры, которые постоянно бросались из крайности в крайность, изменяя себе, сжигая то, чему поклонялись, и поклоняясь тому, что сжигали.
Петр Чаадаев был одновременно отцом и западничества, и славянофильства: в своей «Апологии сумасшедшего» он переворачивает смысл первого «Философического письма» и превозносит как залог грядущего величия России ничтожество ее прошедшего и настоящего.
Николай Гоголь вытравляет из себя художественный дар и «кощунственный» смех и сжигает свой заветный труд, второй том «Мертвых душ».
Виссарион Белинский отрекается от своего гегельянского примирения с действительностью и готов «по-маратовски», огнем и мечом истребить одну часть человечества ради счастья другой.
Федор Достоевский устами одного героя тончайше глумится над своими же идеалами, провозглашенными другим, и наделяет одинаковой силой голоса «за» и «против».
Лев Толстой отрекается от своих величайших художественных творений ради крестьянской правды и опрощения.
Владимир Соловьёв в своей предсмертной «Повести об Антихристе» выставляет в ироническом и демоническом виде те заветные идеи, которым посвятил свою жизнь пророка-мыслителя: всеединство, универсализм, экуменизм, теократию, объединение церквей.
Василий Розанов совмещает в себя юдофила и юдофоба, ревностно выступает и за левых, и за правых, борется с христианством и умирает причастником Христовых тайн.
Александр Блок, рыцарь Прекрасной Дамы и Вечной Женственности, карнавально представляет ее в образе блудницы в «Балаганчике» и «Незнакомке».
Владимир Маяковский, поэт космически-трагедийный и мистериальный, в послереволюционные годы отдает себя на службу государственной пропаганде и «наступает на горло собственной песне».
Андрей Платонов, утопист, коммунист, технофил, создает глубочайшую антиутопию социалистического общества – царства пустоты и смерти.
Даниил Андреев проповедует как религиозный идеал универсальное государство-церковь – Розу Мира, которое прокладывает путь Антихристу.
Русским писателям и мыслителям был в высшей степени свойствен жест сознательной или бессознательной иронии, опрокидывающей то, что создавалось десятилетиями напряженного труда, – решительность самоотрицания. Возможен путь органического роста, когда писатель, переходя из возраста в возраст, встает как бы на плечи самому себе – и поднимается все выше (перефразируя Ньютона, который говорил о своих предшественниках, – но мы и сами свои предшественники в разных возрастах). А можно себя прежнего – опрокинуть, отчего величины не складываются, а вычитаются. Вот и Россия постоянно вычитает из себя разные стадии своего прошлого, даже когда пытается вернуться к давно прошедшему.
Таков знаковый код русской культуры: он включает в себя постоянную смену плюса на минус и минуса на плюс. Недавние интернационалисты разоблачаются как космополиты, великодержавные шовинисты чествуются как патриоты. Революция в России – не рывок вперед, не однократное событие, а шарнир, на котором постоянно все крутится. Такая крутизна, «выкрутасность», все шире и опаснее раскручивает страну во все стороны, и это безразличие масштаба к векторам есть самое печальное и саморазрушительное в ее истории. По мысли Дмитрия Быкова, в России масштаб важнее векторов. Можно согласиться, но это повод для глубокой скорби, а не воодушевления. Самое трагическое – безвекторная масштабность, можно даже сказать, масштаб безвекторности, отчего страна и вертится по-хлыстовски на историческом беспутье. «Неподвижный странник», как ее иногда называют. Она поворачивает куда угодно, лишь бы дойти до края, убедиться в бесплодности очередного поворота – и развернуться в противоположную сторону.
Гротескность социальных структур
Неизвестно, что будет нам исторически ближе в следующий момент: полет на Марс или поход на половцев, наиновейший «айпад» или ордынское «айда».
Повесть Владимира Сорокина «День опричника», как оказалось, не шарж, а хроника ближайшего будущего, точнее, уже настоящего, в котором наспех заимствованная у Запада техника сплетается с наследием тягчайшего деспотизма. Первая фраза: «Моё мобило будит меня: удар кнута – вскрик». Действие происходит в России 2027 года, отгороженной от остального мира Великой Русской Стеной. В стране восстановлено самодержавие, процветают ксенофобия, лубочно-квасной патриотизм и всевластие карательных органов, а единственными источниками дохода ничего не производящей страны являются продажа природного газа и поборы с транзита китайских товаров в Европу. Подборка новостей как будто взята из нынешних газет. «Дальневосточная Труба так и будет перекрыта до челобитной от японцев, китайцы расширяют поселения в Красноярске и Новосибирске, суд над менялами из Уральского казначейства продолжается, татары строят к Юбилею Государя умный дворец, мозгляки из Лекарской академии завершают работы над геном старения, Муромские гусляры дадут два концерта в Белокаменной, граф Трифон Багратионович Голицын побил свою молодую жену, в январе в Свято-Петрограде на Сенной пороть не будут, рубль к юаню укрепился еще на полкопейки».
Все это кажется гротеском, но в данном случае – это не художественный прием, а причуда самой реальности, где накладываются, не перемешиваясь, отдаленные пласты времени. Повесть, вышедшая в 2006 г., намного опередила свой собственный хронологический расчет: понадобилось всего 8 лет, a не 21 год, как в книге, чтобы гротеск стал восприниматься как репортаж.
К этим переходным структурам, возникающим в процессе ускоренной архаизации российского общества, можно отнести удачный термин Григория Померанца: «гротескность социальных структур». Это обнаружилось еще в 1990-е годы, когда страна переживала ускоренную модернизацию: к тоталитарному телу, в котором бьется идеологически пылающее сердце, приставляется демократически мыслящая голова. Тем более гротескна эта реальность сегодня, когда в общество ХХI в. встраиваются культы и фетиши допетровской Руси. Когда-нибудь в будущем, по мере «обустройства» России, гротескность, возможно, сгладится и возникнут более строгие, одномерные модели. Но было бы не простительным для исследователя упустить этот момент «вселенской смази», каламбурного смешения знаков и пренебречь гротеском как методом адекватного описания возникающей эклектической культуры: посткоммунистической, полукапиталистической, полуфеодальной, средневековой.
Мост или пропасть?
В своей «Русской идее» (1946) Бердяев выделил пять эпох русской истории: «Есть Россия киевская, Россия времен татарского ига, Россия московская, Россия петровская и Россия советская. И возможно, что будет еще новая Россия. Развитие России было катастрофическим».
За последние десятилетия к перечисленным пяти Россиям успели прибавиться еще две: Россия постсоветская (демократическая, капиталистическая, рыночная, либеральная, взошедшая при Горбачеве и Ельцине) и Россия… здесь разброс возможных терминов еще шире: евразийская, или фундаменталистская, или антизападная, или изоляционистская, или автаркия, или чучхерия (от корейского «чучхе», самобытность), или Новомосковия (отгородившаяся от Запада, подобно Руси допетровской). Если Россия постсоветская на протяжении четверти века пыталась совершить скачок модернизации, то Россия евразийская за несколько месяцев совершила прыжок на несколько веков назад, в свое доевропейское прошлое.
Одновременно это и географический кульбит: Россия повернулась лицом к Востоку. Но к какому? Еще остается в силе вопрос философа-поэта Вл. Соловьёва, обращенный к родине: «Каким ты хочешь быть Востоком: Востоком Ксеркса иль Христа?» Несмотря на усиление церковного фундаментализма, действующего от имени Христа, ответ уже, кажется, дан – в пользу Ксеркса. Точнее, Ксеркса в обличье Христа – самая жуткая подделка, какую только можно вообразить.
Россия традиционно представлялась особой цивилизацией, которая соединяет Европу и Азию, но не принадлежит ни той, ни другой. Ее миссия – цивилизовать Азию, служить форпостом Запада на Востоке. Но какую же Азию теперь способна окультурить Россия? Японию? Китай? Южную Корею? Индию? От всей той «дикой Азии», которую, в воззрениях Вл. Соловьёва и его последователей, была призвана цивилизовать Россия, осталась разве что Северная Корея. Да еще ряд малонаселенных среднеазиатских стран (впрочем, и среди них большинство не пожелало примкнуть к «евразийскому» союзу). К нашему времени оказалось, что России некого цивилизовывать, кроме самой себя. Уровень ее промышленности, науки и техники, медицины, экономических и политических свобод упал ниже и европейского, и азиатского. И теперь страна воспринимается не как мост между Европой и Азией, а как огромная расщелина или пропасть, над которой Западной Европе и Восточной Азии, все теснее смыкаясь, придется когда-нибудь самим наводить мосты, заполнять встречей своих цивилизаций пустеющий промежуток.
Историческая аритмия
У Владимира Сорокина представлены не просто отдельные анахронизмы. «День опричника» – это, по сути, целый век или даже тысячелетие «опричнины»: кромешной жизни невпопад с миром, анахронический модус бытия страны, которая никак не может решить, в каком времени ей жить. Есть такой странный недуг – «хронопатия», патология в восприятии времени, нарушение связей между его объективным и субъективным ходом. Хронопат вечно опаздывает, не в состоянии уложиться в заданные сроки, потом подгоняет себя, его лихорадит, он развивает бешеные темпы, которые расшатывают его нервы и погружают в долгую прострацию. Применительно к странам и народам это можно назвать исторической аритмией. Российская история, состоящая сплошь из взрывов и застоев, – классический случай такой аритмии.
Эта историческая аритмия учащается с каждой эпохой. Если для перехода от советского к постсоветскому понадобилось шесть лет перестройки, то для скачка из мирового пространства в Новомосковию – всего месяц: март 2014-го, когда Россия бросила вызов Западу.
Эта расшатанность, раздерганность исторической походки может, конечно, сойти за широту души и рассматриваться нераздельно с географическим простором. «Ровнем-гладнем разметнулась на полсвета» (Н. Гоголь, «Мертвые души»). В системе облагораживающих понятий эта «разметность» – своего рода эластичность, топологическое выворачивание исторического пространства, многообразие политических режимов при сохранении неизменной оси вращения. Россия пробует себя в разных исторических формациях: от анархии до тоталитаризма, от застоя до смуты, от революции до консервации, от рабовладения до капитализма, от коммунизма до фашизма. Но ей не столь важна природа и сущность данного социального строя, сколько сам момент пробы, погони за своим ускользающим «Я». Россия познает себя через отрицание всего того, что раньше о себе узнала и чем себя определила. Отсюда не только географическая, но и историческая обширность страны при отсутствии явно выраженного прогресса, поступательного движения. Это скорее вращение вокруг своей оси, перебирание и отбрасывание разных моделей. Никакие социальная форма и религиозная идентичность не пригодны для такого велико-пустотного существования, которое прокладывает путь из ниоткуда – через все – в никуда. Россия – самая большая страна не только по территории, но и по исторической вместимости. Она не столько двигалась вперед во времени, сколько испытывала все новые и новые варианты своей исторической участи.
Эту способность цивилизации сохранять свои основные свойства, проходя через многочисленные, диаметрально направленные формации и деформации, можно назвать историопластикой. Прогрессивность и пластичность – разные характеристики исторического движения: первое определяет меру развития, второе – размах колебаний.
Но очевидно, что размах этот не беспределен, – и на очередном крутом вираже разогнавшуюся тройку может выбросить на историческую обочину, мимо которой бодро шествуют другие народы и государства.
Только спокойствие, или Почему власти не стоит волноваться324324
Печатается по изд.: Новая газета. – М., 2016. – 31 окт. Сергей Смирнов – доктор экономических наук.
[Закрыть]
С. Смирнов
Когда почти пять лет назад бурлила, возмущенная грязными выборами белоленточная Москва, настроен я был печально и пессимистично. Потому как понимал, как и большинство тех, кого считаю своими единомышленниками: шансы на победу парламентскими методами неотличимы от нуля. Перетрусившая власть испугалась не этого: она тоже прекрасно понимала, что изменить оппозиции ничего не удастся, а ее борьба с фальсификатом обречена лишь на микроуспехи – ну парочку-тройку наиболее рьяных адептов существующего режима можно образцово посечь, но никак не на глобальный успех – реструктуризацию Государственной думы.
Власть испугалась отчего-то российской «цветной» революции, а спустя два года, когда протестное движение фактически сошло на нет, – российского «майдана». У страха глаза велики: ничего подобного нынешнему режиму пока не грозит, а пугаются наши власти призрака. Вспоминая, что риск непарламентского переворота материализовался в 1917-м с отрицательными для страны последствиями и в 1991-м, давшим, увы, не реализованный пока шанс на нормальное развитие России.
Однако, страшась и пугаясь, власть не видит коренного отличия современной ситуации от предшествовавших тем двум переворотам. А ключевой, по уроженцу Трира, – конечно, вопрос о собственности. Но вот по моему, уроженца Москвы, мнению, речь идет не о «заводах, затонах и пароходах» и не о доходных домах, а о вполне конкретном имуществе, которыми обросли многие российские домохозяйства за последние четверть века. Индивидуальные предприниматели с их средствами производства, владельцы квартир, автомобилей, дачных домов, вкладов – тех активов, которыми их владельцы могут распоряжаться по своему усмотрению без каких-либо существенных ограничений.
Но при этом в анамнезе – сворачивание нэпа, раскулачивание, перевод первых кооперативных домов конца 1920-х годов в государственную собственность, естественно, без возвращения паев, раскулачивание, неоднократные денежные реформы, – стоит ли продолжать? Боязнь повторений экспроприаций, какой бы словесной мишурой они ни были обсыпаны, заставляет собственников поддерживать ту власть, которая не покушается на их имущество. Вот это первично. А геополитика, идеология, свара со всем миром – все это вторично, но дополняет, порой удачно, собственную гордость гражданина: государство мало того, что не покушается на мою собственность, так еще и показывает кузькину мать «нерусскому миру».
В 1991-м первый российский президент и правительство реформ о таком якоре политической стабильности могли лишь мечтать. И к октябрю 1993-го не сложилось. А вот в начале 2000-х стала складываться социальная опора нынешнего режима. Ну вот, например, в 1990 г. в собственности граждан находилось всего 26,4% жилого фонда России (в городах существенно меньше, а именно 15,1%). В 2000 г. она достигла 58,1%. В этот же период доля жилья, находившегося в государственной и муниципальной собственности, снизилась с 68,1 до 32,9%. Но окончательное закрепление отношений собственности в жилищной сфере произошло в следующее десятилетие. В 2012 г. доля жилья в собственности граждан составила уже 83,5%, а в государственной и муниципальной – всего 12,8%. Величина под риском для населения – около 2,8 млрд квадратных метров, или, при средней стоимости квадратного метра 50 тыс. руб., – 140 трлн рублей. Имеет смысл затаиться и не злить власть.
Автомобили опять же. Входили в рыночную эпоху с 59 собственными легковыми автомобилями в расчете на тысячу жителей, в начале путинской эпохи (2000) их число возросло до 132, а вот в 2014 г. их было уже более 283. Имеет смысл затаиться и не злить власть.
Или вот вклады населения в кредитных учреждениях. Да, за первый геополитично-кризисный 2014 г. при падении реальных располагаемых денежных доходов населения на 1% вклады населения в кредитных учреждениях, скорректированные на индекс потребительских цен, увеличились на 1,7%. В 2015 г. в реальном исчислении они сократились на 5,3%, увеличившись при этом в абсолютных размерах до 23,2 трлн рублей. Имеет смысл затаиться и не злить власть.
Во всех этих случаях цена возможных потерь для собственников слишком велика. И потому большинство будет и дальше поддерживать существующую власть, которая гарантирует абсолютному большинству нерушимость прав собственности. В пределах разумного, конечно, но ведь отжатие бизнеса, неформальные практики его ведения затрагивают абсолютное меньшинство россиян. По барабану небизнесменам, а таковых большинство. Равно как и наезды на несогласных с политикой нынешней власти по барабану молчащим, ибо за ними собственность. А ведь неизвестно, что учинят оппозиционеры, придя к власти. Вспоминая почти классика, есть опасность, что победитель «на обломках самовластья вновь химеру возведет».
В нынешней ситуации есть, однако, и бесспорные плюсы: маргинальные идеи того же Глазьева насчет мягких вариантов запрета валюты имеют мало шансов быть реализованными. Ибо зачем злить средний класс?
Хотел бы оказаться плохим прогнозистом, но подозреваю, что сложившаяся ситуация – всерьез и надолго.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































