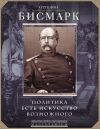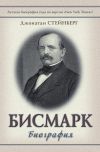Текст книги "Так говорил Бисмарк!"

Автор книги: Мориц Буш
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 39 страниц)
Тьер и первые переговоры о перемирии в Версале
30-го октября рано утром, прогуливаясь вблизи Сен-Клу, я встретил Бенигсена, который в этот день намеревался вместе с Бланкенбургом отправиться на родину. На мой вопрос он мне сообщил, что там господствует полнейшее единодушие, и настроение народа не оставляет желать ничего лучшего. Возвратясь домой после 10 ч., я узнал от Энгеля, что незадолго до моего возвращения был Тьер. Он приезжал из Тура за получением пропуска для проезда через наши линии в Париж. Гацфельд, рассказывая о том, что завтракал с Тьером в Hôtel des Reservoirs и провожал его до экипажа, в котором он с лейтенантом фон Винтерфельдом должен был доехать до французских форпостов, прибавил, что Тьер по-прежнему остроумен и любезен. Он первый узнал Тьера, провел его в зал и уведомил министра о его прибытии. Министр тотчас же вышел к нему, и между ними наедине завязался разговор, продолжавшийся не более двух минут, после чего шеф позвал Гацфельда и дал ему поручение сделать необходимые приготовления для скорейшего доставления Тьера в Париж. Он сообщил ему также, что после приветствия Тьер сказал ему, что он приехал не затем, чтобы вести с ним переговоры. Гацфельд нашел это совершенно естественным, так как Тьер неимоверно честолюбив и охотно заключил бы с нами мир уже для того только, чтобы этот мир назывался миром Тьера, – но не знает, что скажут о том в Париже.
Между тем шеф отправился со своим двоюродным братом на смотр, который делал в это утро король 900-му отряду гвардейского ландвера. Во время нашего завтрака шеф возвратился и привел с собой маленького, кругленького, гладко выбритого господина, который оказался саксонским министром фон Фризеном.
Он придвинул себе тарелку, и так как тут присутствовал и Дельбрюк, то мы имели честь сидеть за столом с тремя министрами. Шеф начал разговор о вновь прибывших сегодня гвардейцах и сказал, что лица и широкие плечи их внушат страх парижанам. Потом, обратясь к Гацфельду, спросил: «Надеюсь, что в разговоре с Тьером вы не упоминали о Меце?» «Нет, он ничего не говорил о Меце, хотя, без сомнения, все знал». «Конечно, он знает все». Гацфельд заметил еще раз, что Тьер по-старому был очень любезен, но все еще тщеславен и самолюбив; например, он ему рассказывал, что на днях, встретив мужика, спросил его: желает ли он мира? – «Конечно». – «Знает, с кем говорит?» – «Нет». – Тьер назвал себя и спросил: не слыхал ли он чего о нем? Мужик и на это отозвался незнанием. В это время подошел другой и, когда мужик спросил пришедшего: кто такой Тьер, то он ответил, что он – член палаты. «Очевидно, что Тьер сердился на то, что о нем так мало знали», – заметил Гацфельд.
Его превосходительство фон Фризен указал на неосторожную поспешность бежавших версальцев и на честность немецких солдат. Открывая сегодня комод в своей квартире, которая, вероятно, уже раза три или четыре отводилась под постой войска, он нашел между разными женскими нарядами, чепцами, платками и лентами сначала один, а потом и другой сверток с 50 наполеондорами в каждом. Эти 2000 франков он хотел передать консьержу, но тот предложил ему сберечь их самому. Как кажется, деньги эти были препровождены в одно из присутственных мест, назначенных для хранения подобных находок.
Шеф, выйдя на короткое время, возвратился, неся футляр, в котором лежало золотое перо, поднесенное ему одним ювелиром для подписания мира. Оно было очень красиво, особенно бородка. Когда это художественное произведение, величиною около 6 дюймов и украшенное с обеих сторон маленькими бриллиантами, обошло всех и когда им достаточно налюбовались – чего оно вполне заслуживало, – шеф, отворяя дверь в гостиную, обратился к Дельбрюку и Фризену и сказал: «Теперь, господа, я к вашим услугам». «Итак, – возразил Фризен, смотря на Дельбрюка, – я уже переговорил с вашим превосходительством обо всем относящемся к делу, между тем…» – тут они вошли в гостиную. Опять возобновился разговор о Тьере, и Гацфельд заметил, что через день или два он вернется и что он не хотел въехать в Париж через Шарантонские ворота. «Потому что народ его там повесит, – сказал Болен. – Я бы хотел этого». Но за что же, подумали мы про себя.
Вечером разгулялась погода, все время очень пасмурная, и прояснилось голубое небо. На одной лесистой возвышенности, над Ласель-Сен-Клу, был прекрасный вид на форт Мон-Валерьян, который наши солдаты называли Бальдрианом или Буллерьяном, и, когда шеф уехал, решили мы, Бухер и я, отправиться в экипаже к описанной местности.
Дорогою по ту сторону деревни Пти-Шеснэ в разных местах были проложены засеки и устроены в стенах парка бойницы. Направо от далеко тянущейся каменной стены, которая окружает имение Борегар, были устроены на возвышенном поле для защиты маленькие шанцы. Далее находился артиллерийский парк. Один офицер описал нам дорогу к форпостам через Ласель, оттуда виден форт, но мы сбились с пути и, взяв влево, очутились против Буживаля, опять в той же местности. Вторая попытка попасть на настоящий путь – нам также не удалась. Мы поехали мимо деревни Ласель, попали в лес на перекресток и приняли еще худшее направление. О близости форпостов, в цепи которых мы теперь находились, мы и не подозревали. И так мы подвигались наудачу далее, спустились по лесной долине, которая открыла нам местность Мальмэзон. Форт не был виден, нас окружал лес; кругом господствовала тишина, солнце садилось, и уже наступили сумерки. Наконец у подошвы долины, которую пересекала песчаная дорога и где были устроены баррикады, подскакали к нам три офицера, требовавшие, чтобы мы вернулись, так как с канонирских лодок в немцев же могли попадать снаряды, почему здесь и запрещено было ездить в экипажах. Они указали нам путь в Вокрессон, куда мы и направились по глубоко изрытой дороге и откуда уже через прекрасный буковый лес добрались домой. Форта, к сожалению, мы так и не видели, но зато могли осмотреть местность, бывшую театром военных действий 21-го октября.
За столом шеф говорил подробно о возможности созыва немецкого сейма в Версале и французского законодательного корпуса в Касселе в одно и то же время. Дельбрюк заметил, что зал собрания слишком мал, чтобы вместить всех, на что канцлер возразил, что в таком случае сейм может собраться и в другом каком-либо городе, в Марбурге, например, или же в Фрицларе.
Понедельник, 31-го октября. Утром я написал несколько статей, между прочим указал на французского батальонного командира Гермье, который как Дюкро, не сдержав данного честного слова, бежал из лазарета и разыскивается теперь как беглец. В 12 ч. прибыл Готье и имел большую аудиенцию у шефа. За завтраком рассказывали, что деревня Ле-Бурже, которая лежит на западе от Парижа, за день до этого взята нашими приступом. Битва была ожесточенная. В плен взято более 1000 человек, но и мы потеряли около 300 человек убитыми и ранеными, причем 30 офицеров оставили на месте. В числе убитых должен быть и брат графа Вальдерзее. Речь зашла опять о Тьере, и Гацфельд сообщил нам, что этот последний должен вернуться ночью в Версаль. Разыскивая вечером кого-то в Hôtel des Resevoirs, он случайно узнал о приезде одного старого господина. Тьер в разговоре сказал ему, что от 10 часов вечера прошедшего дня до 3 часов пополудни он имел совещание с министрами временного правительства, в 6 часов утра был уже на ногах и до 2-х принимал различных посетителей, после чего приехал сюда для свидания с союзным канцлером. Он сообщил также о начавшихся вчера беспорядках в Париже, и когда у Гацфельда вырвалось радостное «неужели!», то он тотчас умолк.
Через несколько дней мы узнали подробности об этих беспорядках, начавшихся из-за того, что французское правительство объявило ложным известие от 30-го октября о капитуляции Меца и пустило слух, будто нейтральные государства требуют мира. Все это взволновало умы парижан точно так же, как и весть о взятии Ле-Бурже, стоившем им стольких людей, и в удержании которого, как объявил теперь французский правительственный орган, не представлялось необходимости. Этим настроением воспользовались радикалы. В полдень 31-го вооруженная толпа собралась перед Hôtel de Ville, и в 2 часа предводители их ворвались в здание, требуя низвержения правительства 4-го сентября и провозглашения коммуны; но после 10 или 12 часов мятежники были отброшены батальоном национальной гвардии.
Мы возвратились в Версаль 31-го октября, и мне дано было поручение озаботиться, чтобы напечатанный в официальной газете приказ от 27-го числа Фогелю фон Фалькенштейну был бы перепечатан и в остальных наших газетах. Точно так же следовало опубликовать о дурном обращении французов с нашими пленными. Наконец, была написана вторая статья против вмешательства Бейста в нашу борьбу с Францией, которая, однако, не была опубликована вследствие изменившихся за это время некоторых отношений. Я привожу отрывок из нее, характеризующий тогдашнее положение дел. В нем говорится следующее:
«Когда в борьбе двух держав одна из них оказывается более слабою и близкою к падению, то во вмешательстве третьей нейтральной державы в эту борьбу, требующей перемирия, весьма понятно видно опасение за участь слабейшей, но никак не одинаковое доброжелательство по отношению к обеим сторонам. В настоящее время перемирие было бы выгодно для побежденных и невыгодно стране, одерживающей верх. Если еще, кроме этого, третья держава старается подстрекнуть на то же и другие державы, то тем уже она сама нарушает нейтралитет. Ее пристрастное напоминание превращается в пристрастное притеснение, ее обращение принимает характер насилия и угрозы».
«В таком положении находится теперь Австро-Венгрия; если справедливо говорят венские официозные газеты, она приняла на себя посредничество и подстрекает нейтральные державы к установлению перемирия между воюющими. Всем известно, что граф Бейст нарушил состоявшееся прежде соглашение Венского кабинета с делегатами временного правительства, подстрекаемый к тому Шадорди, помощником Фавра. Еще яснее разоблачилась игра австро-венгерской дипломатии в речи, сказанной австро-венгерским уполномоченным в Берлине, в которой он поддерживал представления Англии. Член британского посольства говорил в дружелюбном тоне, не менее объективно отнеслась к войне и Италия, Россия совсем воздержалась от вмешательства. Эти три державы усердно работают в Туре, желая беспристрастно обсудить настоящие дела. Депеша, читанная г. фон Вимпфеком в Берлине, о предложении, сделанном Австро-Венгрией в Typе, нам не известна – но написана, во всяком случае, в тоне для нас почти враждебном. В ней говорится, что Австрия видит в этом деле общеевропейский интерес и что нейтральные державы будут осуждены историей, если они позволят разыграться у Парижа приближающейся катастрофе».
«Депеша открыто принимает оскорбительный и колкий тон, говоря, что человеколюбие требует, чтобы побежденной стране были облегчены условия перемирия, между тем как Германия душит Францию, не позволяя ей сказать ни слова. Во всей депеше сквозит ирония, которая весьма мало отличается от английской.
Обсудил ли австрийский канцлер последствия, которые могут произойти от этой игры?
После падения Меца невероятно, чтобы Австрия препятствовала нам в заключении мира, необходимого в интересах наших на западе. Тогда мы постараемся припомнить ей все – и это вмешательство, и эти обиды. Хорошее впечатление, произведенное вначале нейтралитетом Австро-Венгрии, изгладится, готовившееся чистосердечное сближение будет прервано и, вероятно, на долгое время. Предположим другой случай: допустим, что благодаря вмешательству графа Бейста мы должны будем уменьшить наши требования, допустим, что мы должны будем отказаться отплатить ей за все старые и новые оскорбления. Уверен ли государственный канцлер в том, что мы не задумаемся при первой возможности воздать сторицею недоброжелательному соседу нашему за то, что он нам был помехой на западе? Мы поступили бы неблагоразумно, отложив наш расчет с разоблачившимся вновь неприятелем до тех пор, пока покровительствуемые им французы окрепнут и в благодарность за оказанную им услугу вступят с ним в союз против Германии».
Вторник, 1-го ноября. На рассвете опять слышна была сильная артиллерийская пальба. В 11 часов посетил меня депутат Бамбергер, приехавший из Нантейля в Париж только на третьи сутки. За завтраком обсуждали сражение при Ле-Бурже, причем говорили, что французы поступили бесчестно, сделав вид, что желают сдаться, и когда наши офицеры простосердечно приблизились, то стали по ним стрелять. Из числа 1200 человек, взятых нами в плен, – часть вольных стрелков, почему шеф сказал: «Вольные стрелки! Неужели их еще берут в плен? Их следовало бы расстреливать!»
За обедом около Дельбрюка сидел красный иоганнит – граф Ориола, мужчина с резкими восточными чертами лица, с черной окладистой бородой. После обеда он и Бухер отправились на Марлинский водопровод, откуда они при лунном свете любовались прекрасным видом Парижа и форта, тщетно разыскиваемого нами вчера. Князья Веймарские и Кобургские выехали туда же из Hôtel des Reservoirs. Кто-то вспомнил о находке Фризена и о приказе военного министра или коменданта города, по которому списки всех ценных вещей, найденных в домах, покинутых хозяевами, должны быть предварительно опубликованы; если затем, по прошествии некоторого времени, эти вещи не будут востребованы, то их следует конфисковать. Шеф одобрил это распоряжение и при этом заметил, что такие дома надо сжигать, охраняя лишь дома тех благоразумных жителей, которые остались. От него мы узнали, что граф Брей предупредил его о сегодняшнем своем посещении. Немного спустя он сообщил нам о приезде Тьера, который пробыл у него более 3-х часов, условливаясь насчет перемирия, но что на предложенные им условия согласиться невозможно. Во время этого разговора Тьер вскользь упомянул о провиантном запасе Парижа. Шеф остановил его и сказал: «Извините, уж об этом мы знаем лучше, так как в Париже вы пробыли только один день. Парижане имеют продовольствие до конца января. Я хотел только выведать правду», – прибавил шеф, он так смутился, что я тотчас же понял, в чем дело».
За десертом шеф упомянул о том, что сегодня много ел. «Сегодня съел два с половиной куска бифштекса и два куска фазана. Это не мало и не много, потому что я положил себе за правило есть один раз в день. Я завтракаю, да, но съедаю только два яйца и выпиваю две чашки чая без сливок, и до вечера это все. С детства я привык ложиться не ранее 12 часов. Обыкновенно я засыпаю тотчас, но затем просыпаюсь в час или два и уже долго не могу заснуть. В это время я обдумываю разные дела, мысленно составляю депеши – конечно, не вставая с постели. Прежде, вскоре после моего назначения министром, я действительно вставал и занимался ночью, но утром все это казалось мне никуда не годным, тривиальным. На рассвете я засыпаю и сплю до 10 часов утра, а иногда и долее».
В эту ночь французская артиллерия работала опять усердно, в особенности в полночь выстрелы следовали один за другим.
Среда, 3-го ноября. Прошедшую ночь во время сильной канонады шеф вставал, говорил нам Энгель; но в этом нет ничего необыкновенного. В девятом часу я прогулялся через Монтрель по дороге в Севр до железного водопровода, поддерживаемого четырьмя колоннами. Между тем за мной присылал министр. Войдя в десять часов к нему, я застал у него офицера генерального штаба Бронзара, который пришел просить его к королю. Возвратившись от короля, министр приказал мне телеграфировать в Берлин и Лондон о том, что Тьер пробыл у него вчера три часа, и вследствие их переговоров сегодня перед обедом был собран у короля военный совет, на котором присутствовал и он. В 2 часа Тьер уже показался во дворе. Это мужчина среднего роста, с умным выражением лица, похожий и на купца, и на профессора. Так как визит его, по всей вероятности, продлится долго, дела же у меня никакого нет, то я вторично предпринял утреннюю свою поездку мимо деревень Монтрель, Вирофле и Шавилль, которые составляют почти одну сплошную улицу, примыкающую к Севру; отсюда я хотел пробраться до батареи или шанцев; но на том месте, где дороги расходятся, я был остановлен караулом, не пропустившим меня далее. Действительно, для пропуска надо было иметь особое разрешение генерала. Несколько минут я разговаривал с солдатами, бывшими в сражении при Верте и Седане. Одному из них неприятельским выстрелом разорвало патронташ и обожгло все лицо. Другой рассказывал, что они недавно застали врасплох в своих домах французских солдат, которых не пощадили. Полагаю, что это были вольные стрелки. В этих деревнях видно много кабаков. Из жителей большая часть осталась. Народ почти без исключения бедный. Никаких точных сведений я не мог собрать о разрушениях, произведенных французскими войсками в Севре, а также об обстреливании фарфорового завода. Последнее даже считают вымыслом, и, как говорят солдаты, в завод попали только три бомбы, разбившие вдребезги несколько окон и дверей.
Возвратясь домой около половины пятого, я узнал, что Тьер только за несколько минут вышел от шефа с весьма довольным лицом. Шеф же вышел прогуляться в сад. С 4 часов опять началась страшная канонада.
К обеду нам подан был сегодня паштет из форелей – подарок одного берлинского ресторатора, который в то время прислал канцлеру бочку венского мартовского пива и… свою фотографическую карточку. О Тьере министр сказал: «Он весьма дельный и любезный человек, не сентиментален и не похож на дипломата. Без сомнения, он стоит выше Фавра, но не только не годится в посредники, но даже и в лошадиные барышники… Его очень легко озадачить, и он тотчас же выскажется. Так, в разговоре я между прочим узнал, что у них провианту достанет только на 3 или 4 недели». Берлинский паштет послужил ему темою для рассказа о том, как несколько лет назад в Варцине поймана была в прудах 5-фунтовая форель «такой величины» (показал он руками); появление ее все окрестные лесничие считали чем-то сверхъестественным.
По поводу того положения, которое мы должны были создать себе в предстоящих французских выборах, я считаю не лишним указать на следующий прецедент, дававший нам основание к «беспримерному» воздержанию Эльзаса и Лотарингии от подачи голосов. Один американец сообщил нам, что во время последней войны Соединенных Штатов с Мексикой было заключено между ними перемирие с той целью, чтобы дать возможность этой последней стране выбрать себе новое правительство, которое бы могло заключить мир с Соединенными Штатами; но при этом было постановлено, чтобы те провинции, уступка которых требовалась, не были допускаемы к выборам. Этот случай как нельзя более подходит к настоящему.
Четверг, 5-го ноября. С утра была прекрасная, ясная погода. С 7 часов сильно гремят на Мон-Валерьяне железные львы, потрясая окрестные долины. Я делаю для короля выдержки из двух статей – «Morning Post» от 28 и 29-го октября. В них говорится об императрице Евгении, и они написаны, вероятно, Персиньи или принцем Наполеоном. Из них явствует, что в условии с депутатами императрицы было упомянуто только о Страсбурге и об узкой полосе земли по берегу Саары с народонаселением в четверть миллиона. «Это произошло, вероятно, по недоразумению», – заметил шеф. – Мне поручено было телеграфировать, что канцлер вследствие вчерашнего совещания предложил Тьеру перемирие на 25 дней на основании военного status quo. В 12 часов пришел опять Тьер для переговоров, которые продолжались до трех часов. Требования французов неслыханны. Кроме двадцативосьмидневного перемирия, в продолжение которого должно быть созвано национальное собрание для выбора временного правительства, они требуют, чтобы им не препятствовали снабдить провиантом не только Париж, но и крепости, находящиеся в осадном положении, а также дать восточным департаментам, которые впоследствии должны отойти к нам, право участвовать в выборах.
Когда пришел Тьер, мы отправились – я, Виллиш и Вир – прогуляться мимо Глатиньи, Шеснэ и Роканкур на Марлинский водопровод, на платформе которого вскоре показались также Дельбрюк и Абекен. В ясную погоду далеко видна окружающая местность. Впереди – развалины домов; далее через лес и парк – деревни, Ласель и Буживаль, и светло-голубая Сена, по берегам которой цепью расположены деревни. Над этим ландшафтом, правее, возвышается на небольшой безлесной горе форт Мон-Валерьян, окна которого, освещенные вечерним солнцем, ярко горели. Еще дальше, правее, виднеется восточная часть Парижа и купол Дома инвалидов. Левее, между островами и столбами перекинутых мостов, струится Сена. По сю сторону, на расстоянии часа ходьбы от того места, где мы находились, виден город и замок Сен-Жермен, позади Версальский дворец и множество дач и деревень. В телескоп, взятый нами у солдат, ясно можно было разглядеть толпу людей, копающих как будто картофель на полях, ниже форта, а также около одного белого дома – марширующих французских солдат, ружья которых ярко блестели на солнце.
Возвратясь в Версаль в 4 часа, мы узнали, что на этот раз Тьер, прощаясь с шефом, был не так весел, как прежде; что Бельзинг, который в последнее время все болел, просил у шефа позволения возвратиться в Берлин и что на его место уже назначен Вольманн. Шеф поручил мне телеграфировать в Лондон, чтобы вперед все прокламации Гамбетты сообщались ему не по телеграфу, потому что он совсем не интересуется так поспешно узнавать суждения этого господина.
За обедом, между прочим, рассуждали о предстоящих выборах в Берлине. Дельбрюк был того мнения, что они будут лучше прежних, если Якоби не будет опять выбран. Граф Бисмарк-Болен с ним не соглашался, он не надеялся на перемену. «Берлинцы, – сказал канцлер, – всегда делают оппозицию, и притом по-своему. Они имеют свои добродетели – разные и очень уважаемые; они храбро сражаются, но считают себя глупцами, если не противоречат правительству. Но в этом, – продолжал он, – недостаток не одних берлинцев. В больших городах делается то же, и в некоторых отношениях даже хуже. Вообще они не так практичны, как жители равнин, жизнь которых и деятельность ближе соприкасаются с природою и которые вследствие этого сохраняют больше здравого смысла. В больших городах, где народонаселение густо, индивидуальность скоро исчезает, – продолжал он. – Различные мнения, схваченные как бы на лету по слуху, перетолковываются толпою, передаются газетами и за пивом так укрепляются, что искоренить их совершенно невозможно. Второе зло – это народная вера или, лучше сказать, народное суеверие. Верят в то, чего не существует, считают долгом оставаться при своем убеждении и потом восторгаются абсурдами. То же самое и во всех больших городах – в Лондоне, например, где уличная чернь составляет особенную, отличную от других англичан касту, Нью-Йорке и особенно в Париже. Парижане своим политическим суеверием составляют отдельный народ во Франции, пристрастный и ограниченный в своих понятиях и ничего не имеющий за душой, кроме пустых фраз».
Министр сообщил нам, что сегодня по окончании переговоров с Тьером он неожиданно предложил ему вопрос, уполномочен ли он на дальнейшие переговоры. «Он удивленно взглянул на меня, – продолжал министр, – и я сказал ему, что с форпостов мы получили уведомление о начавшейся во Франции революции и о провозглашении в Париже нового правительства. Он, видимо, был этим огорчен, из чего я мог заключить, что он считает делом возможным победу красных и падение Фавра и Трошю».
Л., который теперь состоит постоянным корреспондентом «Moniteur», отказался поместить статью из «Norddeutsche Allgemeine-Zeitung» о капитуляции Меца, так как он признает Базена изменником. Он готов был подчиниться моим требованиям, но с тем, что он сейчас же сложит с себя редакцию, так как он «не может отказаться от своих убеждений».
В самом деле?
От девяти до десяти часов Тьер опять был у шефа.
Пятница, 4-го ноября. С утра стоит прекрасная, ясная погода. По желанию министра я исправил статью «Daily News» о его переговорах с Наполеоном при Доншери. Он три четверти часа разговаривал с ним в верхней комнате ткацкой и только самое незначительное время под открытым небом. Далее, он никогда не ударял указательным пальцем левой руки о правую, чего у него и в привычке нет, а также никогда с ним не говорил по-немецки. К хозяевам обращался на немецком языке, так как муж и жена порядочно объяснялись на нем.
С одиннадцати часов Тьер опять у министра. Вчера он послал в Париж некоего г. Кошери узнать, существует ли правительство 4-го сентября, и ответ, как говорили за завтраком, получен утвердительный. После того как Бланки с красными занял ратушу и продержал в ней в плену несколько часов регентов, Пикар освободил их с помощью 106 батальонов, как сообщает Абекен (вероятно, 106-го батальона), – и правительство устояло.
Рано утром меня уведомили о том, что по направлению к югу летит над городом воздушный шар. Ветер был благоприятный; после обеда за ним последовал и второй; первый был белый, а второй – трехцветный. За обедом в присутствии Бамбергера шеф сказал между прочим: «Насколько я замечаю, газеты обвиняют меня в том, что я не принимаю серьезных мер, а также и в том, что Париж до сих пор не бомбардируют. Вздор! Впоследствии они меня будут обвинять в понесенных нами потерях, которые, во всяком случае, незначительны. Мы потеряли в маленьких стычках гораздо больше людей, чем бы нам стоило большое сражение. Я желал того – но тщетно».
Речь зашла о том, что офицеры генерального штаба прежде утверждали, что два или три форта, выбранные для первоначальной атаки, могут ее выдержать только 36 часов.
Затем было говорено о созыве имперского сейма и таможенного парламента. Кроме того, небезынтересно было сообщение, сделанное за обедом Боленом, о том, что один служащий в Версале, кажется, он сказал – государственный прокурор, – пойман и уличен в письменном сношении с Парижем. Каким путем – еще неизвестно; может быть, через какой-нибудь подземный ход, который, пожалуй, тянется под Сеной до противоположного берега. Вечером я получил известие от Л., что Бамбергер, назначенный прусским консулом в Париже до окончания войны, взял на себя редакцию «Moniteur».
Ровно в 9 часов в переднюю вошел Тьер, где я его еще раз увидел прежде, чем он взошел в гостиную шефа, у которого он пробыл до 11 часов. Говорят, что он завтра опять хочет ехать в Париж. Во время их разговора получена телеграмма, в которой Бейст уведомляет, что если Россия не будет противиться решению Пруссии по отношению к Франции, то и Австрия поступит точно так же, но не иначе. Эта телеграмма тотчас была подана шефу в гостиную.
За чаем граф Бисмарк-Болен занял нас следующим рассказом: «На форпосты, – говорил он, – несколько дней назад пришел какой-то человек к дежурному офицеру, с которым и взошел в дом, но вскоре вышел переодетый вольным стрелком, проскользнув в кустах, и потом стремглав пустился бежать. С форпостов пустили в него несколько выстрелов, но он благополучно добрался до Севрского моста; он прыгнул в воду и, таким образом, бегом и вплавь добрался до противоположного берега, где был принят французами как соотечественник. Это один из наших лучших шпионов», – заключил свой анекдот рассказчик[11]11
Этот анекдот напоминает мне другой, который описывали французские газеты, но где обмануты были не французы, а немцы. Герой был лесничий Боннэ.
[Закрыть].
Суббота, 5-го ноября. Погода была с утра пасмурная, но потом на несколько часов тучи рассеялись.
Мы узнали, что несколько офицеров из находящихся в Риме папских зуавов отправились из Швейцарии во Францию, чтобы сразиться при Шаретте с немцами, т. е. с врагами ультрамонтанского стана, но не за республику, как старались распространить газеты. Около часа продолжалось совещание канцлера и Дельбрюка с другими немецкими министрами, которым шеф докладывал о своих переговорах с Тьером, а также о скором приезде всех немецких высочайших особ. Кейделль в 4 часа пополудни отправился в Берлин. Целый день была слышна пальба, но не такая сильная, как в предшествующие дни. За нашим обедом из генералов присутствовал только Дельбрюк, но потом присоединился к нам также и канцлер, возвратившийся от короля, у которого он завтракал. Пока по просьбе канцлера Энгель наливал ему рюмку водки, он вспомнил следующую милую поговорку, которую он слышал от одного генерала: «Детям следует пить красное вино, взрослым гражданам – сект, а генералам – водку».
Затем канцлер сообщил нам, что некоторые известные лица чересчур назойливо обращаются к нему с вопросами и разными другими требованиями. В эту минуту ему была подана депеша следующего содержания: «Фавр и другие представители Парижа объявляют, что об уступке владений теперь не может быть и речи, но что вся забота их должна состоять в защите отечества». «Ну, так теперь мы избавлены от всяких переговоров с Тьером», – заметил шеф. «Да, – подтвердил Дельбрюк, – с такими упрямыми и тупоумными людьми после этого действительно не может быть и речи о мире». Потом министр сказал Абекену, что принц Адальберт намеревается писать императору (какому?) приветственное письмо, называя его «mon cousin», что вовсе не идет. Тальони заявил, что император письменно сам называл его так. «Я полагаю, что принц все-таки не имеет права называть его кузеном, – продолжал министр, – а должен назвать его «mon oncle». Кто-то заметил, что многие немецкие князья, которые и не состоят в родстве с королем, называют его «мой дядя». Наконец канцлер приказал телеграфировать в Берлин, чтобы узнать, какая в данном случае должна быть наиболее приличная форма.
Кто-то рассказал, что в замке Борегар найдено великолепное вино, которое конфисковано для войска. Бухер заметил, что это прелестное имение император Наполеон хотел купить для мисс Говард. Кто-то другой вставил, что теперь оно пока принадлежит герцогине или графине Бофремон. «Бофремон! Это напоминает мне Тьера, – сказал министр. – Он затягивает наши переговоры тем, что вмешивает в них совсем посторонние вещи, рассказывает, например, о том, что он тут и там делал или советовал, спрашивает, как поступить в том или другом случае, что бы сделали при тех или других обстоятельствах. Так, он мне напомнил один разговор мой с герцогом Бофремоном в 1867 году, когда я будто бы сказал, что император в 1866 г. не воспользовался представлявшимися ему выгодами, – он мог бы сделать приобретение, хотя и не на немецкой земле и т. д. – В сущности, это правда! Я припоминаю. Мы были в Тюильрийском саду, где в то время играла военная музыка. Наполеон летом 1866 г. не имел только храбрости взять то, на что с его точки зрения, он имел право. Он должен был бы ухватиться за предложение Бенедетти, когда мы двинулись против Австрии. В то время помешать мы ему не могли; невероятно также, чтобы и Англия была тогда против него. Но, – сказал он, обращаясь к Дельбрюку и покачиваясь то взад, то вперед (что в подобных случаях составляет его привычку), – он всегда был и остался…» Относительно Бофремона министр сказал следующее: «Бофремон происходит из старинной богатой и известной бургундской фамилии Руэ. Это великолепный канканер, любимец парижских гризеток и кокоток, остроумный, но распутный. Промотав все свое состояние, он женился на очень богатой женщине и начал мотать и ее деньги, но она выхлопотала развод».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.