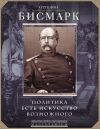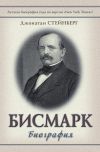Текст книги "Так говорил Бисмарк!"

Автор книги: Мориц Буш
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 39 страниц)
За столом между нами сидели два лица: одно – в гусарской форме с женевской перевязкой, другое – в пехотной с аксельбантом; первое был силезский граф Франкенберг, большого роста красивый господин с рыжеватой окладистой бородой, второе – князь Путбус. Оба награждены за свои заслуги орденом Железного креста. Гости говорили о том, что в Берлине сильно желают бомбардировки и сетуют на ее замедление. Слух, будто высокопоставленные дамы являются одной из причин замедления, теперь, по-видимому, представляется общераспространенным.
Потом, когда разговор коснулся обращения с французским сельским населением, Путбус рассказал, что один баварский офицер сжег целую красивую деревню и приказал выпустить вино, хранившееся там в подвалах, потому что тамошние крестьяне вели себя вероломно. Кто-то другой еще заметил, что солдаты где-то ужасно исколотили священника, пойманного в измене. Министр снова хвалил энергию баварцев, но затем в отношении второго случая он прибавил:
– С этими людьми нужно или обращаться с возможно большим вниманием, или же делать их безвредными. Одно из двух. – И несколько подумав, он прибавил: – Их надобно вешать с учтивостью, соблюдаемой до последней ступеньки виселицы. Грубо можно обращаться только с их друзьями, когда можно предполагать, что они не сердятся за это. Как грубо обращаются, например, с их женами в сравнении с другими женщинами.
Разговор идет о герцоге Кобургском, потом о марлиском водопроводе и о том, что в него не попадают ядра с форта; наконец, по инициативе князя Путбуса, о какой-то маркизе делла Торре, у которой, по его словам, было несколько бурное прошлое; она любила лагерную жизнь, была с Гарибальди под Неаполем и с некоторого времени находится здесь и ходит с женевским (красным) крестом. Кто-то упомянул о картине, заказанной у Блеймтрей, и это подало повод другому застольному гостю заговорить о другой картине, долженствовавшей изображать генерала Рейля, передающего королю на горе перед Седаном письмо от Наполеона. Картину порицали за то, что на ней генерал снимает фуражку так, как будто намеревается кричать «ура» или «виват». Шеф заметил:
– Он вел себя, во всяком случае, прилично и с достоинством. Я тогда сам говорил с ним, именно в то время, когда король писал ответ. Он уговаривал меня не ставить крутых условий армии, столь великой и в то же время столь мужественно сражавшейся. Я пожимал плечами. Тогда он сказал, что раньше, чем сдаться, они взорвут себя с крепостью на воздух. Я сказал: «Ну что же, и взрывайте себя – faites sauter!» – Потом я спросил его, уверен ли еще император в армии и офицерах. Он дал утвердительный ответ. – Имеют ли еще значение слово и приказание императора в Меце? Рейль и на это ответил также утвердительно, и, как мы видели, тогда он был еще прав. Мне кажется, заключи он тогда мир, он был бы теперь еще уважаемым правителем. Но он… я сказал это уже шестнадцать лет назад, когда никто не хотел верить мне!.. глуп и сентиментален.
Вечером Л. объяснил, что с одним из журналистов, пишущим отсюда корреспонденции, случилось несчастье. Рассказывают, будто Д. Кейслер, посылающий известия в берлинские газеты, приблизительно дней восемь назад исчез по дороге в Орлеан, и опасаются, не убит ли он вольными стрелками или по меньшей мере не попал ли он в плен[13]13
Как известно, с ним случилось последнее.
[Закрыть]. Было бы менее прискорбно, если бы это случилось с враждебным Пруссии корреспондентом венской или франкфуртской газеты, известным Фогтом, который, как кажется, воображает, что имеет привилегию писать отсюда под охраной немецких властей всевозможные клеветы. Еще в начале войны, при Саарбрюкене, он завел, говорят, ссору с нашими офицерами, а теперь он осмелился обнародовать, будто пруссаки под Орлеаном не явились своевременно на помощь баварцам, предоставили последних их собственной судьбе, следовательно, некоторым образом были причиной поражения. Прогнать с театра войны такого господина было бы приятнее, чем история с несчастным корреспондентом.
Около десяти часов я сошел вниз к чаю и застал там еще Бисмарка-Болена и Гацфельда. Шеф был в зале с тремя баварскими уполномоченными. Приблизительно четверть часа спустя он отворил одну половинку двери, высунул голову с очень веселым лицом и затем, заметив, что у нас еще есть общество, он подошел к нам с бокалом и уселся за стол.
– Итак, договор с Баварией заключен и подписан, – сказал он растроганным голосом. – Создано единство Германии, а с этим вместе и император.
С минуту царило молчание. Потом я попросил позволения взять себе перо, которым он подписался.
– С Богом! В добрый час, возьмите себе все три пера, – возразил он, – но золотого там нет между ними.
Я пошел и взял себе три пера, которые лежали возле документа и из которых два еще были мокры. (Как мне после говорил В., канцлер подписывал тем пером, которое имело бородку по обеим сторонам.) На столе стояли две пустые бутылки шампанского.
– Дайте нам еще одну вот этого, – сказал шеф служителю. – Это – событие.
Потом, после некоторого раздумья, он заметил:
– Газеты не будут довольны, и кто пишет истории по обыкновенному шаблону, может порицать нашу сделку. Он может сказать (я привожу здесь, как и всегда между кавычками, в точности его собственные слова), этому дураку следовало бы требовать больше, он и добился бы большего, они должны были бы уступить, – а насчет того что «должны были бы», то он, пожалуй, и будет прав. Я же заботился больше о том, чтобы это дело доставило людям внутреннее удовлетворение; в самом деле, что это за договоры, которые заключаются по принуждению? А мне известно, что участники ушли совершенно довольные. Я не хотел прижимать их, не хотел воспользоваться положением дел. Договор имеет свои недостатки, но в таком виде он прочнее. Я считаю его важнейшим из всего того, что нами достигнуто в нынешнем году… Что касается дела об императоре, то я в переговорах заставил их признать его тем, что выставил им положение их короля, которому все-таки удобнее и легче уступить известные права германскому императору, нежели соседнему с ним королю Пруссии.
Потом, за второй бутылкой, которую он распил с нами и с подошедшим к нам в это время Абекеном, он заговорил о своей смерти, в точности определил лета, до которых ему назначено дожить.
– Я знаю это, – сказал он в заключение после сделанных ему возражений, – это мистическое число.
Четверг, 24-го ноября. Утром работал долго и написал несколько заметок в смысле мнения, высказанного вчера вечером шефом о договоре с Баварией. После обеда, когда мы гуляли с В. в дворцовом парке, он рассказал мне, что некий полковник К. в каком-то месте в Арденнах приказал арестовать адвоката, поддерживавшего изменнические сношения с шайкой вольных стрелков. Военный суд произнес над этим человеком приговор – смертную казнь. Говорят, он просил о помиловании, но об этом узнал будто шеф и сегодня велел написать военному министру, что он будет ходатайствовать у короля, чтобы не препятствовали ходу правосудия.
За обедом были гости шефа: полковник Тилли из генерального штаба и майор Гилль. Шеф, снова жалуясь на то, что военачальники сообщают ему слишком мало и слишком редко спрашивают его мнения, говорил: «Так оно было и с назначением Фогеля фон Фалькенштейна, который теперь приструнил Якоби. Если бы мне пришлось высказаться по этому предмету перед рейхстагом, то моя совесть была бы чиста. Больших хлопот и нельзя было бы причинить мне». «Я пришел, – повторяет он, – на войну, благоговея перед войском; в будущем я буду держать себя парламентарно, а если они дальше будут делать мне неприятности, то я велю поставить себе стул на крайней левой стороне рейхстага».
Упоминают о договоре с Баварией и говорят о том, что во встреченных при его заключении затруднениях причастны и люди, проникнутые чувством национальности, на что министр замечает: «Удивительное дело, бывают ведь очень умные люди, которые, однако, ничего не смыслят в политике». Далее, переменив вдруг тему, он заявляет: «Англичане выходят из себя, их газеты требуют войны вследствие письма, содержащего только изложение известного обсуждения права, так как то, что в нем излагается дальше, – это уже нота Горчакова».
Потом он еще раз заговорил о замедлении бомбардировки, которое по политическим соображениям возбуждает в нем сомнение. «Вот теперь доставлен громадный осадный парк, – говорил он, – весь мир ждет того, что мы будем обстреливать город, и между тем до сегодняшнего дня орудия бездействуют. Это, наверное, повредило нам у нейтральных держав. Действие седанской победы этим весьма значительно умалено и из-за чего?»
Пятница, 25-го ноября. Телеграфировал утром о капитуляции Тионвилля, последовавшей между вчерашним и нынешним числом; приготовил для короля статью из «Neue Freie Presse», выставляющую ноту Гранвилля робкой и бесцветной, и хлопотал о том, чтобы во всех наших газетах, получаемых во Франции, были перепечатаны телеграммы, в которых в прошлом июле выражалось Наполеону одобрение со стороны французского населения по поводу отправленного нам объявления войны.
После обеда я пошел с В. на один час во дворец, осмотрел галерею исторических картин, которая в своем роде имеет громадное значение и содержит, между прочим, весьма интересный бюст Лютера. Потом мы прошлись по главным улицам города, завернули в обе большие церкви и к памятнику Гоша, причем, как и всегда, мы встретили много священников, монахинь, а также и монахов и удивлялись громадному числу винных лавочек и кафе в Версале. Одно из этих заведений имело странное название «Au chien qui fume», и на вывеске была изображена собака, державшая в морде трубку. Находившийся на улице перед наружными дверями народ был везде учтив, в особенности женщины. Хотя газеты и говорят, что матери и няньки отворачивались, когда кто-нибудь из нас гладил их ребятишек по щечкам, но этого я на основании моего личного опыта подтвердить не могу. Они были этим точно так же довольны, как это и всюду бывает, и говорили детям: «Faites minette а Monsieur». Высший класс, конечно, никогда почти и не показывается на улице, а если это и случается, то дамы являются в трауре – по случаю отечественного горя – и черная одежда делает их очень изящными.
При своем обычном вечернем посещении Л. рассказывал, что Самвер уже с некоторого времени опять исчез, следовательно, вопреки газетным известиям он никуда не назначен префектом; далее – что город имеет удовольствие давать у себя приют другой интересной личности, именно американскому спириту Юму, который, если я не ошибаюсь, приехал из Лондона и именно с рекомендациями, доставившими ему вход к наследному принцу.
Суббота, 26-го ноября. Я написал несколько заметок; из них одна касалась странного похвального списка лиц, помещенного Трошю в «Figaro» от 22-го ноября. Шеф, прочитывая отчасти вслух отмеченные им места, сказал мне:
«Геройские подвиги этих защитников Парижа отчасти до такой степени заурядны, что прусские генералы и не сочли бы их даже заслуживающими упоминания, отчасти же это хвастовство, отчасти это, очевидно, невозможно. Прежде всего «храбрецы Трошю», если сосчитать, сдались в большем числе в плен, чем французы во все время осады Парижа вообще». «Далее, в числе их фигурирует капитан Монбриссон, которого удостаивают отличия за то, что он, идя во главе атакующей колонны, велел поднять себя на каменную ограду парка для того, чтобы оттуда произвести рекогносцировку, чту, собственно, было только его долгом и обязанностью. Затем это театральное тщеславие по поводу того, что солдат Глетти par la fermeté de son attitude взял в плен трех пруссаков. Какая твердость выдержки! А наши померяне перед этим покоряются! В парижском бульварном балагане или в цирке оно на месте, а в действительности-то!»
Далее говорится о Гоффе, который в разных combats individuels убил ни более ни менее как двадцать семь пруссаков. Надо полагать, он – жид, этот убийца три-надевяти душ – быть может, двоюродный или троюродный брат «мальц-экстракта – Гоффа», жительствующего по старой или новой «Wilhelmstrasse» – во всяком случае, miles gloriosus. И наконец, еще Терру, взявший fanion и вместе с тем portefanion. Это значок, служащий для построения войск; у нас и нет таких. И подобные вещи официально сообщает старший генерал. В самом деле этот похвальный список что-то совершенно вроде картин сражений под общим заглавием «Toutes les gloires de la France», где для потомства изображен каждый севастопольский или маджентский барабанщик потому только, что он там барабанил.
За обедом в качестве гостей канцлера присутствовали: граф Шиммельманн (голубой гусар с несколько восточным типом лица, на вид ему лет под тридцать) и шурин Гацфельда (американец веселого нрава, смелый). Последний, между прочим, рассказал вот что: «Вчера со мною произошел целый ряд неудач. Одна вытекала из другой. Прежде всего со мною желает говорить один человек, у которого ко мне важные дела (Одо-Россель). Я велел попросить его подождать несколько минут, так как я еще занят неотлагательной работой. Когда я потом, спустя четверть часа, спросил о нем, он уже ушел, а от этого, может быть, зависит европейский мир. В двенадцать часов я отправился к королю, и это послужило причиною того, что я попадаюсь в руки человеку, который заставляет меня выслушать письмо и задерживает меня, таким образом, долгое время. Таким образом, я потерял час времени, и только теперь могли быть отправлены весьма важные телеграммы, так что они сегодня уже не будут получены на месте, куда назначены, а между тем могут быть приняты решения и могут сложиться обстоятельства, которые вызовут весьма серьезные последствия для всей Европы и совершенно изменят положение дел в политике».
– Но всему этому виною – пятница, – прибавил он, – пятничные переговоры, пятничные мероприятия. – Потом он спросил: – Побудил ли кто-нибудь из вас, господа, мэра устраивать в Трианоне все нужное (для короля Баварии)?
Гацфельд возразил, что он сам говорил с ним об этом деле. Шеф ответил: «Tres bien, если б он только пришел. Мне и в голову не приходило, что я когда-нибудь буду играть роль маршала в Трианоне. А что сказали бы на это Наполеон, Людовик XIV?» Потом говорилось еще о том, что американский спирит Юм находится здесь уже несколько дней и что он был приглашен наследным принцем к обеду. Бухер выставил его как человека опасного и заметил, что он был осужден в Англии за обманное домогательство наследства. После обеда он передал мне, что, по газетным сведениям, несколько времени назад он выманил у одной богатой вдовы завещание в свою пользу, но впоследствии наследники подали на него жалобу, и наконец он был приговорен судом к уплате большой суммы в виде вознаграждения за убытки. Следует опасаться, не прислан ли он теперь кем-нибудь действовать на влиятельные лица в смысле вредном нашим интересам, и потому ему хотелось бы похлопотать у шефа, чтобы этот молодец был выслан.
Вечером я сделал для короля извлечение из нескольких статей «Монитера» и прочел в «Прусских ежегодниках» трактат Трейшке о «Люксембурге и о Германской империи». С половины одиннадцатого до половины двенадцатого ночи снова происходит весьма жаркая пальба с фортов и канонирских лодок. По этому поводу шеф заметил: «Они долго молчали; допустим же им теперь это удовольствие».
Воскресенье, 27-го ноября. Утром я получил речь, которою открыт был рейхстаг. Я послал ее тотчас к Л., чтобы перевести ее и напечатать. После двенадцати часов Россель является снова. Шеф приказывает просить его подождать минут десять, а между тем сам гуляет в саду с Бухером. Так как мне делать нечего, я спать отправился к Г. в Ласель; на пути туда я был три раза остановлен пикетами, чего прежде никогда не бывало. Поболтав с часок с удовольствием с Г. и другими офицерами, жившими в великолепном дворце у рынка, я отправляюсь домой, снабженный паролем: «Zahlmeister, Hermann». Один интендантский чиновник, ехавший в город в красивой коляске, посадил меня с собою. Он нашел экипаж с лошадью «в заложенной стеною конюшне, в Буживале, и извлек их оттуда». Он же, кажется, нашел также и заведовал большим винным складом, который теперь, вероятно, уже приходит к концу.
За столом присутствуют граф Лендорф, а также лицо в баварской офицерской форме, граф Гольнштейн; это красивый, бодрый господин с полным красным лицом; на вид ему лет под тридцать, приятен и прост в обращении. Он, как говорят, обер-штальмейстер короля Людвига и принадлежит к числу его приближенных. Шеф заговорил сперва о русских делах и сказал: «Вена, Флоренция и Константинополь еще не высказались, но заявление сделано Петербургом и Лондоном, а в настоящем случае они – самые важные места. Но тут все обстоит хорошо». Потом он рассказывал разные анекдоты из своей охотничьей жизни: об охоте за сернами, «для которой у него все-таки не хватает духу», о самом тяжелом кабане, которого он убил, «одна голова которого весила от 99 до 101 фунта», и самом большом медведе, которого он застрелил. Затем темой разговора сделались мюнхенские дела, причем Гольнштейн, между прочим, заметил, что французское посольство, однако, до начала войны очень ошибалось относительно поведения Баварии.
– Оно заимствовало свое мнение, – сказал он, – от двух или трех ревностных католических и враждебных Пруссии салонов; победу патриотов считало делом верным и даже верило в перемену престола.
– Что баварцы пойдут с нами, – возразил шеф, – в этом я никогда не сомневался; но что они решатся так скоро, этого я все-таки не ожидал.
Затем речь шла о расстреливании вероломных африканцев, и по поводу этого Гольнштейн рассказал, что один сапожник в Мюнхене, из окон которого хорошо видно было шествие доставленных туда пленных тюркосов, выручил много денег за места в его помещении, oтдaвaвшиеcя для смотра процессии, и представил 79 гульденов в кассу для раненых. Даже из Вены прибыло много зрителей на это торжество. На это шеф заметил:
– Что они вообще брали в плен этих чернокожих, это было против нашего уговора.
– Мне и кажется, – заметил Гольнштейн, – они теперь уже не делают этого.
– По мне, – прибавил шеф, – надобно подвергнуть аресту каждого солдата, который возьмет в плен и предоставит подобного пленника. Это – хищные звери, их надо убивать. Лисица, например, может найти извинение себе в том, что природа одарила ее таким нравом, а они? Это наиотвратительнейшие чудовища. Они самым ужасным образом мучили наших солдат до смерти.
После обеда, когда, по обыкновению, началось курение табаку, министр велел предложить обществу тяжелые, но превосходные сигары, упомянув при этом название их «Pass the bottle». Кажется, благодарные современники в последнее время особенно щедро наделили его сигарами – у него на комоде нагромождены ящики с надписью: «Weeds»; у него, значит, слава Богу, довольно того, что доставляет ему удовольствие по курительной части.
Л. известил, что Юм уехал, если я не ошибаюсь, вчера еще. Юм просил присылать ему газету «Moniteur» в Лондон, так как он подписался на нее на месяц. Быть может, это, да и все его путешествие в главную квартиру, относится только к его фокусу-покусу с духами и привидениями. Но все-таки подозрительным кажется то, что этот Калиостро из страны «янки» спрашивал, может ли он видеться с пойманным на одном из аэростатов сыном Ворта, знаменитого парижского портного, который «у себя в саде заставляет ждать герцогинь». Впрочем, говорят, будто он хотел опять приехать. – Судя по дальнейшему рассказу Л., наши версальцы уже несколько дней наслаждаются обильным запасом приятных известий. Тьер и Фавр, а по словам других, и Трошю находятся в городе, для того чтобы вести переговоры с королем Вильгельмом. Гарибальди, которого наши генералы принудили очистить город Доль, по версальским мифическим источникам, опять занял Дижон и при этом взял в плен не менее двадцати тысяч немецких солдат. Один немецкий принц или князь в окрестности Парижа попал будто в руки французов, и король якобы за освобождение его предложил освободить маршалов Базена и Канробера; но это предложение было отклонено. Далее говорят, будто принц Фридрих Карл разбит под Рамбуллье, Дрё и Шатоденом; между тем как справедливо прямо противоположное известие и т. д. «И у могилы он не теряет еще надежды!»
Глава XIII
Затруднительное положение по поводу договора с Баварией устранено на рейхстаге. Бомбардировка все еще замедляется
Понедельник, 28 ноября. Я телеграфировал утром о капитуляции города Лафер, где находилась тысяча человек гарнизона, потом о победе Мантейфеля на берегах Соммы, под Ладоном и Мезиером. Затем опять написал статью о соглашении с Баварией. Шеф спрашивал про Юма, и я ответил ему, что Юм уехал, но он, кажется, хотел опять приехать. Он приказывает мне написать тотчас военному начальству, чтоб Юма, буде он вернется без дозволения, прямо арестовать и известить его, шефа, об этом. Если же он явится с дозволения, то на него надобно смотреть как на опасного мошенника и шпиона и о его прибытии довести до сведения министра.
После обеда мы совершили с Бухером поездку в Сен-Сир. За обедом в качестве гостей присутствовали князь Плесс и граф Мальтцан. Министр заговорил сперва об американском спирите и сообщил, какого он мнения о нем и какое приказание дано им относительно его.
– А знаешь ли, ведь и Гарибальди досталось тоже на орехи! – вскрикнул Болен.
Кто-то сказал, что если его возьмут в плен, то он будет, конечно, расстрелян как человек, который вмешался в войну, не имея на это никакого права.
– Сперва их посадят в клетки и будут публично показывать, – заметил Болен.
– Нет, – возразил министр, – я предложил бы другой план. Следовало бы доставить пленных в Берлин, повесить им там на шеи картон с надписью: «Благодарность», и в таком виде следовало бы водить их по городу.
– А потом и в Шпандау[14]14
Шпандау – крепость близ Берлина. – Примеч. пер.
[Закрыть], – прибавил Болен.
– Или же, – возразил шеф, – можно было бы написать на карточке: Венеция – Шпандау.
Далее говорилось о Баварии и о положении дел в Мюнхене. Потом кто-то, я уж не помню, по какому случаю, снова заговорил о том, при каких обстоятельствах случилось появление Рейля под Седаном, и о том, что будто тогда казалось, что король ждал большего от письма императора Наполеона, на что он, согласно прежнему замечанию министра, имел полное основание. Императору не следовало бы отдавать себя там в плен бесцельно, но он должен был заключить с нами мир. В этом случае генералы последовали бы за ним. Потом беседа шла о бомбардировке и в связи с этим об епископе Дюпанлу, а также о его теперешней интриге по поводу роли, которую он играл в рядах оппозиции на духовном соборе в Риме.
– Мне при этом приходит в голову, – сказал канцлер, – что папа написал очень любезное письмо какому-нибудь французскому епископу, а может быть, и нескольким, чтобы они не связывались с гарибальдийцами.
Кто-то заявил, что он очень желал бы чего-то. На это шеф заметил:
– Для меня теперь самое важное – то, что станется с виллой Кублэ. Пусть бы предоставили мне на двадцать четыре часа главное начальство, и я приму на себя ответственность. Я отдал бы тогда только одно приказание: спалить.
Вилла Кублэ – местность, находящаяся недалеко отсюда; там все еще находится доставленный осадный парк, который должен быть распределен в окопах и батареях; а канцлер в одном представлении просил об ускорении бомбардировки.
– У них всего триста пушек, – так продолжал он, – и пятьдесят или шестьдесят мортир, и на каждое орудие по пятьсот зарядов. Этого, конечно, достаточно. Я говорил с артиллеристами; они говорят, что под Страсбургом им не пришлось употребить и половины того, что уже понавезли сюда, а Страсбург в сравнении с Парижем – Гибралтар. Следовало бы, может быть, сжечь выстрелами казармы на Мон-Валерьяне, а форты Исси и Ванвр осыпать в надлежащей мере гранатами, что заставило бы гарнизон бежать – сам вал не особенно сильно укреплен, ров прежде был не шире, чем длина этой комнаты. Я убежден, что если мы в продолжение четырех или пяти дней будем бросать гранаты в самый город и они увидят, что мы стреляем дальше их, именно на девять тысяч шагов, – то парижане сделаются несколько уступчивее. Конечно, на этой стороне находятся лучшие дома, а для обитателей Бельвилля совершенно все равно, будут ли эти дома разрушены; они, пожалуй, будут даже радоваться тому, что мы уничтожаем дома богачей. Мы могли бы вообще оставить Париж в покое и пойти дальше. Но если мы уже начали, то к делу следует отнестись серьезно. Морение голодом может еще долго продолжаться, пожалуй, до весны; во всяком случае, муки хватит у них по январь. Если бы мы начали бомбардировать четыре недели назад, то теперь, по всему вероятию, мы были бы уже в Париже, а это самое главное. Теперь же парижане воображают, что Лондон, Петербург и Вена запретили нам стрелять, а нейтральные державы думают, что мы ничего не можем сделать. Настоящие причины сделаются когда-нибудь известны.
Вечером я телеграфировал в Лондон, что рейхстаг опять вотировал сто миллионов на продолжение войны с Францией, и именно большинством против восьми голосов социал-демократов; далее, что Мантейфель осаждает Амьен. Потом составлено несколько статей, из которых одна защищает умеренные требования канцлера во время переговоров с Баварией, внушенные справедливостью, а равно и благоразумием. Дело касается, так говорю я там приблизительно, не столько той или другой желаемой уступки со стороны мюнхенцев, сколько того, чтобы южногерманские государства чувствовали себя хорошо в новом государственном организме Германии. Стремление или принуждение к большим уступкам было бы неблагодарностью, а так как баварцы исполнили свой патриотический долг, то и того более; но прежде всего заявление больших притязаний было бы неполитично в отношении к нашим союзникам. В действительности неудовольствие, которым сопровождалось бы подобное принуждение, имело бы несравненно большее значение, чем полдюжины более благоприятных для нас статей договора; оно очень скоро указало бы нейтральным державам, Австрии и др., на пробел, куда можно было бы вбить клин, посредством которого ослаблялось бы и, наконец, могло бы быть разрушено достигнутое таким образом объединение.
Л. слышал, будто на этих днях во дворце обокрали галерею исторических картин, и именно оттуда утащили две картины: одну, изображающую принцессу Марию Лотарингскую, и другую – Лавалльер. Из произведенного тотчас следствия оказалось, что вор, должно быть, употребил поддельный ключ и знал привычки сторожей, чего нельзя предположить со стороны чужих людей. Несмотря на то, можно положительно сказать, что французы будут утверждать, что картины увезены нами.
С половины десятого до второго часа ночи снова слышна с северной стороны сильная пушечная пальба.
Вторник, 29-го ноября. Утром французские жерла гремят с такою яростью, как они никогда не гремели до сих пор; между тем я имею удовольствие телеграфировать о новых победах немецкого оружия. Гарибальди именно вчера понес чувствительную потерю под Дижоном, а войска принца Фридриха Карла вчера под Бон-ла-Роландом нанесли поражение превосходному числу французов. Когда я показал шефу вторую отправляемую телеграмму, он заметил:
– Много сотен пленных – выражение, ничего не говорящее. Много сотен составляет по меньшей мере тысячу, а если мы потерю с нашей стороны покажем в тысячу человек, о неприятеле же только скажем, что на его стороне потеря больше, то это будет неловкостью, которую другие могут себе позволить, но не мы. Я прошу вас вперед составлять телеграммы политичнее.
За завтраком мы узнали, что гром пушек, который был слышен сегодня утром, находился в связи с вылазкой парижан, предпринятой по направлению к Вилльневу, где стоят баварцы, и что вылазка была отбита. Еще до начала второго часа пополудни слышатся отдельные выстрелы из фортов, по-видимому, ждали большого дела, так как на avenue de Saint-Cloud стоит несколько батарей, готовых к выступлению.
После обеда написал еще одну статью о договоре с Баварией. Она будет напечатана во многих берлинских газетах. Недовольство, по-видимому, приняло там широкие размеры. Потом я отправился в небольшой замок близ Шенэ, где мои лейтенанты проводят время в балагурстве. Они, между прочим, пели песню об одиннадцати тысячах кёльнских девах.
За обедом у нас был гость, подполковник фон Гартрот. Говорилось, между прочим, о раздаче орденов Железного креста, причем шеф заметил:
– Докторам-то следовало бы носить его на черно-белой ленте; они ведь бывают в огне, а надо гораздо больше мужества и твердости для того, чтобы оставаться со спокойным духом под выстрелами, нежели для того, чтобы идти в атаку. Блюменталь говорил мне, что он, собственно, вовсе и не заслуживает этого ордена, так как он обязан находиться вдали от опасности быть убитым; поэтому во время сражений он отыскивает себе всегда такое место, откуда ему хорошо видно, но где в него трудно попасть, и в этом он совершенно прав: генерал, который без нужды подвергает себя опасности, подлежит аресту.
Когда потом заговорили о поведении войск, он заявил, что «только смирение ведет к победе, гордость же и самомнение, наоборот, к поражению». Затем он спросил Гартрота, не из Брауншвейга ли он.
– Нет, – ответил тот, – моя родина недалеко от Ашерслебена.
– Да, я узнал это по выговору, – возразил министр, – мне так и казалось, что вы родом откуда-нибудь близ Гарцских гор, но, конечно, я не мог знать, с которой стороны.
От Ашерслебена он перевел разговор потом на Магдебург, а там заговорил о своем приятеле Дице, о котором выразился:
– Это ведь самый любезный человек, какого я только знавал, а дом его самый гостеприимный и самый радушный, в каком я когда-либо бывал. Хорошая охота, отличный прием и премилая, и прелестная женщина – его жена. В нем так и видно естественное, врожденное радушие – politesse du coeur – а не то что утонченная вежливость, которая дается воспитанием. До чего не похожа охота у него в селении, – так как сам он отправляется без ружья со своими гостями и радуется, если они много настреляют дичи, – на охоту в других местах, где, так сказать, само собою подразумевается, что владелец поместья должен настрелять дичи больше всех, в противном случае хозяин впадает в дурное расположение духа и, понятное дело, тогда достается сильно прислуге!
Абекен усомнился относительно выражения: politesse du coeur, действительно ли оно французского происхождения? Гете говорит о сердечной вежливости. Оно, вероятно, происходит от немецкого.
– Да, без всякого сомнения, оно происходит оттуда, – возразил шеф. – Такое качество бывает только у немцев. Я назвал бы его вежливостью, исходящею от благоволения, добродушие в лучшем смысле – именно – учтивостью, исходящею от намерения оказать помощь всем и каждому. Вы найдете его и у нашего простого солдата, у которого оно, конечно, выходит иногда неуклюже. У французов нет этого качества, они обладают только вежливостью, прикрывающею ненависть и зависть. У англичан, пожалуй, скорее можно найти что-нибудь в этом роде, – прибавил он.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.