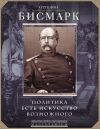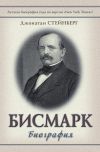Текст книги "Так говорил Бисмарк!"

Автор книги: Мориц Буш
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 39 страниц)
Час спустя я отправился назад; начинало уже смеркаться, а потому мне сообщен был сегодняшний пропуск – Fressbeutel – Berlin. Вчерашний пропуск был – Erbswurst. Paris. Дурацкий казус! По дороге в деревню попался мне мушкетер, сопровождавший пленного улана. Отсюда до rue de Provence расстояние около мили, я прошел с небольшим за час.
Канцлер отведал сегодня с нами только супа и рагу, а потом, в генеральской форме, каске и орденах отправился к королевскому столу. Вечером же он хотел еще послать опровержение неверного сообщения одной южногерманской газеты о том, что граф Арним возвратился уже из своей поездки в Рим в главную квартиру.
Третьего дня я занес в памятную книжку образчик французских ругательств против нас. Сегодня в газетах встретил я ряд примеров лживости их сообщений о нынешней войне. Кто-то подвел общую цифру наших потерь в текущей войне по французским источникам и прислал в газету «Post». Просто не веришь своим глазам, читая о тех чудесах, которые натворили в рядах наших войск Шасспо и митральезы. По этим данным мы с начала войны до конца октября потеряли ни больше ни меньше как около двух миллионов солдат. Среди убитых немало знаменитостей. Принц Альбрехт, принц Карл, принц Фридрих Карл и наследный принц Прусский – все погибли уже кто от пули, кто от болезней. Тресков умер, Мольтке уже погребен. Даже принц Нассауский погиб геройской смертью за отечество, хотя он вовсе не принимал участия в кампании. Союзный канцлер погиб под пулями или под ударами сабель в тот момент, когда он пытался остановить обратившихся в бегство баварцев. Наконец, король, мучимый угрызениями совести за свою попытку перенести войну на священную почву Франции, сошел с ума. Читая эту беспутную ложь, невольно припоминаешь плохой каламбур Л., и хочется назвать «Moniteur» menteur’ом.
Понедельник, 14-го ноября. Министр не совсем здоров и вплоть до обеда никому не показывался. В 12 часов дня Бельзинг возвращается на родину через Нантейль, Нанси и Франкфурт. За обедом присутствовал граф Мальцан, рослый человек с котлетообразными бакенами и в синем мундире, иоганнист. Последний рассказывал, что в одной деревне, недалеко от нас, наши гусары натолкнулись на вольных стрелков. Баварские стрелки, находившиеся при этом, выбили вольных стрелков из домов, и гусары гнались за ними и положили при этом от 120 до 170 человек. «Ну а трое остальных где? – спросил канцлер, вероятно, не разобрав хорошенько, в чем дело. – Они не застрелены? О, это нехорошо, напрасно так церемонятся с этими разбойниками. Помню, в Сент-Аво я настаивал на исключении целого ряда случаев, за которые в прокламации об осадном положении полагалась смертная казнь. Мое предложение не прошло, говорили, что нужно удержать смертную казнь во всех упомянутых случаях в силу обычаев военного времени; я берусь набрать с полдюжины случаев, для которых совершенно излишне было устанавливать смертную казнь. Теперь же все это осталось лишь на бумаге. Кого солдаты не пристрелят или не повесят на поле сражения, тот, наверное, останется цел. Это преступление против наших же солдат». А. передавал за верное – утверждая, что слышал это от П., – будто герцог Кобургский заказал Блейбтрену большую картину, на которой он, герцог Кобургский будет изображен во время сражения при Верте в пороховом дыму, среди сражающихся, и солдаты приветствуют его как победителя. Если это правда, картину надобно будет повесить рядом с картиной Экернферда. Почему, однако ж, и не появиться такой картине? Поэтические вольности нравятся нам, отчего же не допустить вольностей в живописи? Художник не историк.
За чаем Гацфельд заявил, что его озабочивает поведение России; ему кажется, что она, пользуясь нынешней войной, обнаруживает желание уничтожить мирный договор 1856 года, а это может вызвать осложнения и затруднения. Как думает об этом министр?
По приведенным выше образчикам суждений французских газет можно бы, пожалуй, заключить, что французы потеряли всякий политический смысл и что ими руководят только страсти и ослепление. Однако же попадаются как исключения, может быть, даже довольно многочисленные лица, владеющие вполне своими пятью чувствами и находящиеся в здравом уме и твердой памяти. Письмо, опубликованное на этих днях в «Moniteur», указывает на подобные исключения. Написано оно не без претензии на риторический блеск, но содержание его полно смысла.
«Как выйти нам из той западни, в которую попала Франция? Громадная страна раздроблена и разбита, обессилена внешним врагом и еще более внутренними раздорами, нация без правительства, без верховной власти; нет ни центрального управления, ни лица, способного заместить его – таково наше положение! Может ли так идти дальше? Разумеется, нет. Но где выход? Вот вопрос, который предлагают все благоразумные люди, вопрос, который слышится со всех сторон; но на него, как кажется, ни у кого нет ответа. А между тем найти его нужно, и нужно найти его скоро, и ответ должен быть решительный.
Обращаясь к вопросу о том, что осталось еще целым после громадного крушения, чей авторитет еще не поколеблен, – мы находим одно, одно-единственное учреждение, за которое нация может схватиться, как за последний якорь спасения, – это генеральные советы. Около этих представителей власти только и может еще группироваться страна в отчаянном положении; так как в настоящее время они одни только представляют собой выражение воли нации. Генеральные советы по существу своему, по своей опытности и высокому уважению к их сочленам, по своему знанию потребностей, интересов и образа мыслей населения каждого из своих департаментов, из среды которого избираются члены генеральных советов и среди которого они живут, они одни только могут оказать неоспоримое нравственное влияние на своих доверителей.
Какую же роль должны играть генеральные советы при нынешних обстоятельствах? Роль эта определяется, очевидно, самим положением вещей. Пусть соберутся они, каждый в своем департаменте, вместе с депутатами, избранными во время последних выборов. Пусть постараются они всеми возможными мерами как в свободных, так и в занятых немецкими войсками департаментах, завести взаимные сношения, чтобы прийти к общему решению. Пусть они решительным и разумным заявлением о своей деятельности постараются привлечь на свою сторону все здоровые и разумные силы нации. (Что, конечно, как и соглашение во взглядах и планах такой массы отдельных учреждений, потребует немалого труда и времени.) Пусть организуется всенародное голосование и нация выразит свою волю. Нация, к самодержавному голосу которой обращалось правительство, три раза торжественным голосованием признавала его власть над собою. Ей одной принадлежит право высказаться насчет своих прежних решений и избрать новое правительство, если она найдет это нужным. Кто осмелится оспаривать ее права? Кто отважится без утверждения нации принимать меры и действовать от имени страны и без ее полномочия решать ее судьбу?
Я знаю, что мне могут возразить. Я знаю, какими трудностями и опасностями обставлено выполнение грандиозного проекта обращения генеральных советов к нации. Но несмотря на это, оно должно быть приведено в исполнение, потому что другого исхода нет. Я убежден, кроме того, что в департаментах, занятых немецкими войсками, голосование будет выполнено полнее и свободнее, чем где-либо, – это очень печальная истина, но нужно высказать ее, потому что это истина.
Дело в том, что сами немцы не менее нашего заинтересованы в скором заключении прочного окончательного мира; и одно уже присутствие немцев в состоянии будет удержать агитаторов от попыток к насилованию и искажению народной воли. Но в других департаментах? Что будет в тех частях Франции, где теперь выступают на первый план элементы анархии и общественного брожения?
. . . . . .
Вечером читали письма, захваченные на аэростате, и между ними одно от 3-го ноября, служащее выражением мыслей человека с общественным положением о состоянии дел в Париже, годное для напечатания в «Moniteur» или какой-нибудь другой газете. Вот оно, без адреса и подписи в немецком переводе.
«Любезный Жозеф!
Надеюсь, что тебе аккуратно доставлены мои последние письма. В одном из них сообщил я тебе о своих опасениях, которые с тех пор успели уже осуществиться; в другом извещал я тебя о моем возвращении в Париж, откуда я удалился было при первых известиях о предстоящем обложении столицы; в третьем я тебе сообщаю, что никогда мы не были менее свободны, чем теперь среди дружин свободного войска, когда невозможно выйти из дому, не подвергаясь опасности быть принятым за шпиона, когда, наконец, люди из простого народа считают теперь себя вправе оскорблять каждого из граждан под тем предлогом, что нынче все равны. Теперь я намерен говорить обо мне лично и об осаде, хотя об ней ты, вероятно, знаешь не менее моего.
Звание национального гвардейца, в котором я теперь состою, далеко не из самых приятных. Часто случается мне в течение двадцати семи часов подряд отправлять караульную службу в черте укреплений; при этом приходится ночью с ружьем в руках прогуливаться взад и вперед по бастиону. Это очень скучно, а в дождливую погоду просто невыносимо: тем более что, вернувшись в будку, приходится ложиться спать на соломе, кишащей разными гадами, и иметь своими ночлежными товарищами мелких лавочников, содержателей харчевен, лакеев и т. д.
Мое имя и мое положение в обществе нисколько не защищают меня от неприятностей; наоборот – это вредит мне, вызывая зависть и нерасположение, которых никто не дает себе труда скрывать. Если, кроме того, в карауле окажется где-нибудь неудобное место, угол, где солома особенно грязна или где протекает крыша – я уверен заранее, что оно достанется мне: мне никто не желает делать каких-либо облегчений. Несмотря на это, благодаря сознанию своего долга я выше всех этих неприятностей. Но всего более противна мне караульная служба около пороховых мельниц. Мне кажется, это должно бы лежать на обязанности новых полицейских, но они предпочитают ничего не делать из боязни нарушить блаженное спокойствие граждан.
Недавно в шесть часов утра по страшному холоду отправился я в Венсенский полигон упражняться в стрельбе, а на другой день в пять часов утра надобно было быть уже в мэрии, где моего дворника выбирали в капралы. Наконец 29-го октября в течение 27-ми часов были мы на посту в цирке императрицы, который превращен теперь в капсюльную фабрику. Я думал, что после всего этого наконец мне удастся отдохнуть, как вдруг вечером 31-го октября раздался набат, мне пришлось надеть свой мундир и бежать в Hôtel de Ville. Здесь мы пробыли с 10 часов вечера до 5 часов утра. Мне пришлось стоять напротив той знаменитой двери, шагах в 15 от нее, в которую пытались ворваться мобили. Удайся им это, непременно завязалась бы битва и я, вероятно, был бы убит при первом ружейном залпе. К счастью, удалось проникнуть в Hôtel de Ville через подземный ход, и мы этой же дорогой вышли оттуда; при этом нам пустили вдогонку несколько пуль, но никого ими не задели. Наш 4-й батальон был все время в действии; им командует твой товарищ М. Я счастлив, что содействовал успеху этого дня, который со временем будет знаменит в истории.
Вечером часов в пять на другой день вышел я на площадь Hôtel de Ville подышать чистым воздухом. Там среди довольно густой толпы стоял какой-то свирепый крикун, который указывал рукою на Notre Dame de Paris и возбуждал народ против духовенства. «Там наш враг, – говорил он, – враги не пруссаки, а церковь, попы и иезуиты, развращающие и отупляющие наше молодое поколение! Надобно разрушить собор и вымостить им улицы». Сегодня все спокойно благодаря солдатам и артиллерии (мобилям и национальным гвардейцам). Они занимают всю линию Елисейских полей и Тюильри.
Какая война, дорогой Жозеф! В истории нет ей подобной. Цезарь для покорения Галлии в варварские времена должен был воевать в течение семи лет. Мы же разбиты и уничтожены в три месяца.
Для императорской фамилии здесь, кажется, все кончено навсегда. Одной партией меньше – быть может, это к нашему же благу.
До сих пор мне еще не приходилось пробовать лошадиного мяса, но говядина у нас страшно жесткая; буйволовое мясо из ботанического сада, которое мне доставили недавно, еще хуже. Здесь я одинок совершенно, что наводит невольно на грустные мысли; но благодаря музыке и чтению, чем я очень усердно занимаюсь, мне еще не приходилось скучать.
Если наступит перемирие и у тебя явится возможность писать ко мне – пиши непременно, мне очень важно знать твое мнение обо всем происходящем.
Я бы хотел произвести тебя в чин французского дипломата, если б это звание не стало теперь посмешищем».
Я дошел до самой средины войны и моих воспоминаний относительно этой эпохи, содержащихся в моем дневнике, – мне кажется, теперь будет уместно представить характеристику тех лиц из свиты канцлера, которые мне и тогда, и после казались наиболее заслуживающими внимания. Я скажу еще два слова в дополнение к предыдущему о том лице, которое, по моему разумению, занимает второе место после канцлера, и этим закончу первую часть моего повествования. Более или менее подробные характеристики остальных лиц я представлю впоследствии.
Глава XIЛотар Бухер и тайный советник Абекен
Редко случается, чтобы на людей, которые по политическим причинам вынуждены покинуть свою родину и место своей деятельности, долгое пребывание в чужих краях оказывало благоприятное влияние. Только особенно хорошие натуры и на чужбине сохраняют свои отличные качества, развивают и очищают их и устраняют иллюзию, которая по тем или другим причинам в пережитые ими дни овладевала ими и направляла их деятельность на ложные дороги. Обыкновенно беглец – я сужу по личным наблюдениям, собранным мною в Соединенных Штатах и в Швейцарии, – по-видимому, очень скоро утрачивает чувство, связывающее его с жизнью родной стороны, и, таким образом, пословица: «Tempora mutantur, et nos mutamur in illis» оправдывается в отношении его только в своей первой половине. Не заботясь о времени, изменяющем все, почти или вовсе чуждый пониманию выступающих вновь из глубины жизни сил, потребностей и стремлений, он хранит в себе образ, запечатленный в нем его прошлой жизнью в то время, когда он переступал через границу. Ожесточенный неудавшимися попытками произвести изменение в порядке вещей в смысле своих убеждений, с досадой в душе, погруженный в свой «принцип» и выведенные из него догмы, он, не имея уже более возможности действовать на родине, ограничивается критикой, которая знает все лучше, хотя в действительности она не знает более ничего порядочного. Некоторые погибают, таким образом, в духовном одиночестве в мире иллюзий. Большинство примыкает к партиям, членов которых постигла приблизительно такая же участь, как и его, оно культивирует вместе с ними принесенные с собою из дому фразы и предается вместе с ними бессильным заговорам. Вследствие этого многие становятся вполне и навсегда неспособными к правильному и плодотворному политическому мышлению и действию. Некоторые гибнут в непроверяемой критической идеологии и фантастичности, другие забывают свою родину и присоединяются к новому народу, который в их глазах далеко превосходит их соотечественников, некоторые опять, хотя по миновании необходимости жить в изгнании возвращаются на родину, но они смотрят на жизнь, которая между тем успела здесь сложиться известным образом, глазами сонной белки, ничего не понимают и потому не могут радоваться тому, что жизнь изменилась и стала лучше помимо боготворимого ими идеала.
Однако же, как сказано, бывают и исключения, и с ними-то происходят иногда потом на родине замечательные вещи. Они, кроме горячего сердца, приносят с собою вполне ясный и острый ум, хороший запас знания, желание увеличить его и самостоятельный, не расплывшийся в политической стадности характер, и все это служит им теперь на пользу. Невольный досуг дает им возможность обсудить прошлое, испытать чужую страну, сравнить ее со своим отечеством, познать недостатки и преимущества того и другого и, таким образом, ведет их к постепенно совершенствующемуся уяснению суждений в разных направлениях.
. . . . . .
онемечена. В равнину они сами вызвали немецких сельских хозяев из нижней Саксонии и просили их привезти с собою немецкий тяжелый плуг, для того чтобы туземец узнал, что такое пахание. Кеслин, подобно всем этим прививным городам, лежит у изгиба реки и на западном ее берегу; таким образом, река образует естественный ров, ограду против угрожающих с востока неприятелей; но и без того восточная сторона особенно хорошо защищена, так как племена, жившие дальше по направлению к Азии, составляли неприятное соседство». Город построен кругообразно. В центре его находится рынок, посредине которого стоит ратуша. От рынка идут широкие улицы, соединенные между собою узкими переулками. «Дома обращены на улицу своей узкой стороною, остроконечным шпицом и смотрят ночью, как ряд ландскнехтов с плотно прижатыми друг к другу плечами».
Кто умеет читать между строк, тот найдет здесь кое-что такое, что может привести к заключению о политических взглядах, которых держался Бухер в то время, когда он сочинял эту «сказку».
Рано, по-видимому, у нашего мальчика зашевелилась способность к наблюдению вещей и к размышлению о них. Равным образом и фантазия, должно быть, скоро проснулась у него и начала действовать с жаром. Особенное впечатление произвел на него рассказ Кампе о завоевании Перу – Писарро, который он получил когда-то в виде рождественского подарка. Меньше удовольствия, по-видимому, он находил в Робинсоне того же автора. Ту книгу он берег еще в 1861 году в виде воспоминания о неопределенных чувствах детства. «Только близким друзьям показывалась она, и им обыкновенно приходилось выслушивать следующие замечания: длинный ряд томов, к которым относится и этот, повествует о действиях и приключениях испанцев, португальцев, англичан, французов и русских. Только первый посвящен немцу, Робинзону Крузо, и что делает это дитя в Гамбурге? Ему, конечно, присуща страсть к странствованию, которая привела германцев в Европу и которая все еще продолжает жить в них там, где они живут у великой воды. Но ему приходится убегать тайно, так как мать внушала ему: «Оставайся на родине и живи честно»; и отец говаривал ему: «Если ты хочешь идти в чужие края, то тебе надо прежде очень-очень много учиться». И что он поделывает там? Он не завоевывает страны, не основывает города, не приобретает богатства. Он как трус убегает от следов дикарей, заключает дружбу, которая сильно напоминает Жан-Жака Руссо, натыкается на глыбу золота, теряет ее по дороге на родину и для себя и для своего отечества не приносит ничего более, кроме детской сказки. Он живет, кажется, в Гамбурге, в качестве содержателя меблированных комнат и ходит каждый вечер в кабачок».
Перейдем от Писарро и Робинзона к настоящему предмету нашего рассмотрения и поспешим заключить период его отрочества. Из того, что давала школа, ничто не доставалось так легко, как математика и естествознание. В свободные часы он что-то вырезывал и точил, если не бегал по лесу. Но когда наконец родители находили своевременным спросить его, кем он хочет быть, то он сперва хотел быть моряком, а потом, когда мать воспротивилась тому, он пожелал быть архитектором. И на это родители не согласились. Решено было, чтоб он занимался науками, и так как теперь ему пришлось избрать какой-нибудь из четырех факультетов, то он высказался в пользу юриспруденции, «которая дает возможность быть референдарием, танцующим со всеми хорошенькими девицами, а потом советником юстиции, директором ресурсов, кавалером ордена Красного орла, охотником за волками и вообще великим человеком».
Бухер окончил гимназию во время самых сильных преследований буршества. Многие из прежних его сотоварищей были замешаны; один принимал участие в франкфуртском покушении. В маленьких университетских городах эта непопулярная связь все еще не была вполне искоренена, так что нашему новичку приходилось против своего желания поступить в берлинский университет. Он явился туда среди спора, возникшего тогда между исторической и философской школами юристов, Савиньи и Ганса. Если я не ошибаюсь, он примкнул сперва к философской и старательно изучал своего Гегеля. Потом он потерял охоту к философии и забросил ее на долгое время ради юриспруденции, которую ему нужно было серьезно изучить и впоследствии применять на практике. С 1838 года он занимался в высшем земском суде в Кеслине, а спустя пять лет он был заседателем в земском и городском судах в Штолпе. Тут он заведовал одновременно несколькими патримониальными судами, что дало ему возможность ознакомиться с положением провинции.
После некоторого времени служба в Штолпе начала его тяготить, так как тогда судья бывал обременяем множеством дел неюридического характера. Для того чтобы приобрести и другие познания, он, подобно многим хорошим и в своем роде умным людям того времени, изучал Роттэка и Велькера, воззрения которых на историю и политику он усваивал со свойственной основательностью и энергией и превратил их в плоть и кровь. Он только что кончил эту работу, когда наступили берлинские мартовские дни, и вскоре после этого состоялось прусское национальное собрание.
Бухеру дано избирателями Штолпа 1848 г. поручение в помянутое собрание, а в следующие годы этот же город отправил его в качестве своего представителя в образовавшийся между тем парламент. До 1840 года в Пруссии не было никакой публичной жизни; новый делегат из западной Померании был юрист главным образом с частноправовым образованием; ему недоставало опытности в делах государственных. Если мы прибавим к этому еще влияние воззрений Роттэка и Велькера на дела политические и исторические и припомним, что Бухер был молодой человек энергического ума и воли, то мы не только не будем удивляться, но найдем это вполне естественным, почти необходимым, что он примкнул в палате к радикалам, – конечно, не к тем, которые заняли там свои места ради прекрасной формы, а равно и не к тем, которым нравились патетические фразы.
«Я никогда не слыхал, – так говорится в одном отрывке из записок генерала Брандта, – чтобы кто-нибудь говорил талантливее и сдержаннее, чем Бухер в этом случае» – именно при обсуждениях комиссии, имевшей целью выразить свое мнение о так называемых актах Хабеас-корпус, любимом детище Вальдека. «Его белокурые волосы, его бесстрастность живо напоминали мне виденные мною изображения св. Юстина. Бухер был беспощадным разрушителем всего существующего, всех сословий и государств, один из последовательнейших членов национального собрания, готовый решиться на каждый шаг, который ему покажется ведущим к его цели: честности в принципах и братской любви в учреждениях. Не зная общества, погруженный в бесплодные юридические отвлеченности, он был вполне убежден в том, что спасение мира может произойти только от неожиданного, энергического и мощного сокрушения всего существующего. Он способствовал организации открытого сопротивления и распространял главным образом ту мысль – эта мысль принадлежала в особенности ему, – чтобы подзадорить честолюбивую и неугомонную Францию в национальном собрании к образованию диктатуры. Ироническое презрение, с которым он относился к существующей власти, с которым он открыто выражал свою ненависть к старому государственному строю, и его догмат о суверенитете народа, радикальными причудами которого он опьянял этот народ и с тем вместе развивал свои способности для роли демагога – все это при более продолжительном существовании дало бы ему возможность превзойти всех своих приверженцев в его строго логических стремлениях».
Какие воззрения Бухер высказывал в национальном собрании и как он уже тогда намеревался сложить с себя звание юриста в делах политических, это может показать одно место из его речи, в которой он защищал предложение Штейна. Дело в том, что 9-го августа 1848 г. Штейн внес предложение, которое потом было передано комиссии и принято наконец в несколько смягченной форме. Это предложение имело цель потребовать от военного министерства, чтобы оно предостерегло офицеров армии от реакционных стремлений и посоветовало бы им оказать искреннее содействие при осуществлении конституционного законоположения. Министр дал уклончивый ответ, и вот 4 сентября Бухер защищал означенное предложение против Ганземанна и ораторов правой. Обращаясь к тем, которые оспаривали законное право национального собрания в этом деле, так как избирательный закон от 8 апреля предоставляет ему только право согласовать конституцию с короной, он заметил, что подобное понимание он должен отметить как очень наивное. «Всемирная история, – продолжал он, – вряд ли остановится перед пределами, поставленными избирательным законом. Новое время требует совсем не таких оснований, как страницы сборника законов. Я сам принадлежу к сословию юристов и симпатизирую ему, но я уже не раз имел повод сожалеть о том, что из нас здесь так много представителей. Мы приносим с собою лишь слишком непродуманную точку зрения судьи, мы прилагаем только слишком ограниченную мерку судьи к громадным вопросам, которые, хотя и не решаются нами сразу, но разрешению которых в будущем мы тем не менее способствуем. Мы не можем, мы не смеем поступать так, как судья, который после какого-то совестливого испытания выводит свой приговор из наличных, неприкосновенных для него законов, – напротив, мы должны познать нужды умом государственного человека, мы должны уразуметь наше призвание, которое, быть может, и беспримерно, именно призвание – вызвать путем мирного законодательства последствия не успевшей состояться революции. Если мы будем стоять твердо на том, мы тогда легко узнаем: объем наших прав или, лучше сказать, наших обязанностей. Поскольку речь идет о наших правах. Но нам нужно, наконец, поговорить хоть раз и о наших обязанностях относительно народа, который истекает кровью из тысячи ран». Оратор перечислил недостатки и вред государства, оставленного старым правительством, и спросил: может ли при этом быть речь о каком-то боязливом отыскивании формы помощи? Старые органы правительства во многих случаях не могли изобразить министерству верной картины о положении вещей, но это может сделать собрание, которое и представляет настоящий народ. Министр-президент пытался было доказать, что взгляды правительства и большинства национального собрания приводят, собственно, к одному; но подобная задача ему не по силам. 9-го августа состоялось определение; оно спустя два дня препровождено было в министерство. Последнее не сочло нужным ответить на него. Если б оно по крайней мере высказало свои сомнения, и заявило бы о том, что оно не согласно на резкую форму требуемого от него постановления, и побудило бы собрание обсудить дело еще раз и смягчить форму определения, тогда положение дела было бы совсем другое, более счастливое для собрания и страны. Но ничего этого не было сделано. Национальное собрание обязано было обратить внимание министерства на то, что оно не оценивает правильно положения и потребностей минуты, и так как оно не последовало этому совету, то от собрания должно исходить предложение исполнить определение; ибо учредительное собрание, пока в нем нет исполнительного комитета, не имеет другого органа, кроме министерства. Что касается содержания определения, то об изменении его могла бы быть речь лишь в том случае, если бы теперь изменились те обстоятельства, которые продиктовали его четыре недели назад, – но такой перемены не случилось. Министр финансов будто сказал, что не следует обращать внимание на политическое настроение офицеров, так как армия представляет собою повинующуюся силу. Но именно потому не может быть терпимо, чтобы отдельные начальники армии открыто преследовали бы тенденции, противные господствующей системе и имеющие цель низвергнуть ее. Указывая на опасность, поставленную на вид министром финансов, оратор заключил: «Я признаю, конечно, всю трудность минуты; но я знаю одно – и об этом я заявляю вместе и от имени моих друзей – мы, верные нашим убеждениям, идем прямым путем и не страшимся и того, что г. министр дал нам сегодня почувствовать, ибо мы знаем, что ответственность, ужасно тяжелая ответственность, не падает на наши головы».
В палате депутатов Бухер главным образом был занят составлением организационных законов. Он играл важную роль в качестве докладчика предложения Вальдека, имевшего целью побудить министерство к снятию осадного положения в Берлине, объявленного 12 ноября 1848 года – предложения, которое, когда оно было принято, имело своим последствием распущение палаты депутатов. Бухеру нетрудно было доказать незаконность осадного положения. Ибо не могло быть и сомнения в том, что оправдания к его объявлению нельзя было вывести из статьи 110 – конституции, вошедшей в силу только спустя три недели, тем более еще и потому, что эта статья касалась только отмены известных основных прав в случае войны или восстания. Но 12-го ноября в Берлине не было ни войны, ни восстания, и к тому же министерство не только отменило основные права, но и учредило для граждан военные суды, о которых статья 110 ничего не упоминала и о которых, как могущих быть допущенными в подобных случаях, и более давние законы не содержали никакого определения.
Следствием вызванного этим путем постановления было распущение палаты депутатов, за которым 4-го февраля 1850 года последовал так называемый процесс по поводу отказа от уплаты налогов, который закончился только 21-го. Министерство Бранденбург-Мантейфеля приказало возбудить обвинение в покушении на восстание против с лишком сорока членов национального собрания, которые распространяли постановление, состоявшееся 15-го ноября 1848 года и гласившее, что правительство не вправе распоряжаться государственными суммами и взимать налоги, пока народное представительство не будет иметь возможности продолжать без помехи свои обсуждения в Берлине, – и которые распространяли прокламацию от 18-го ноября, назначавшуюся для того, чтобы означенное постановление было принято страной к руководству.
Процесс представлял собою дело кабинетной юстиции. Что уголовный суд в Берлине не был компетентен, это ясно как божий день, так как председатель не мог иначе выйти из такого положения, как только тем, что он запретил подсудимым и их защитникам жаловаться на неподсудность. Особенная ненависть к Бухеру в высших сферах, обнаружившаяся при этом процессе, имела свое основание в только что упомянутом сообщении о незаконности объявленного для Берлина осадного положения. Судебное разбирательство кончилось освобождением большинства подсудимых. Зато Бухер, бургомистр Плате из Лэбы, мельник Кабус из Швадемюля и домовладелец Нештиль из Пейскречама были признаны виновными, причем Бухер и Плате приговорены к пятнадцатимесячному тюремному заключению и сопровождающему его обыкновенно лишению национальной кокарды, удалению от должности и проч.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.