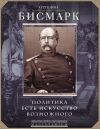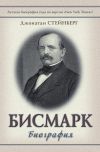Текст книги "Так говорил Бисмарк!"

Автор книги: Мориц Буш
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 39 страниц)
Ему напомнили об одном из его товарищей, Мирсе из Гамбурга, и министр заметил:
– Да, я помню, он присоединился к левой, но многого из него не вышло.
Абекен сообщил, что после сильного огня с форта, происходившего сегодня утром, последовала вылазка гарнизона из Парижа, которая была преимущественно направлена на линии, занимаемые гвардией. Однако дело ограничилось лишь артиллерийским огнем. Мы знали о нападении заранее и приготовились к нему. Гацфельд высказал, что ему весьма бы хотелось знать: каким образом можно заметить предстоящую вылазку. Ему возразили, что, если действие происходит в открытой местности, тогда можно видеть повозки и орудия, которые непременно должны быть выдвинуты вперед, потому что при движении больших отрядов войск нельзя всем выступить в одну ночь.
– Это правда, – заметил шеф, улыбаясь; но и сотни луидоров часто составляют существенную часть признака такого военного предвидения.
После обеда читал проекты и депеши. Вечером потребовал от Л., чтобы статью «Гамбетта и Трошю» поместить в «Independance Belge» и сообщил ему также, что Дельбрюк возвратится сюда двадцать восьмого числа.
Четверг, 22-го декабря. Очень холодно. Доходит до шести и до восьми градусов. Мороз разрисовал узорами мои окна, несмотря на ярко пылающий камин. Рано утром занимался в бюро чтением входящих бумаг и проектов; потом просматривал газеты. Из этих последних были особенно интересны те, которые касались вопроса о Черном море и защиты жителей Люксембурга от упреков, поднятых против них шефом, вследствие помощи, оказываемой ими французам. О солнечном затмении, которое ожидалось в половине второго, было сказано весьма мало. Абекен отзывался дурно о фотографических карточках членов совета и секретарей, которые вышли не совсем удачно, вследствие чего эти господа намерены сняться еще раз и я присоединюсь к ним.
За столом в этот день не было никого из посторонних. Шеф был весел, но разговор не имел особенного значения. Впрочем, мы попробуем восстановить то, что слышали от него. Как знать, может быть, это кому-нибудь и доставит удовольствие.
Вначале министр говорил, улыбаясь, взглянув на лежавшее перед ним меню:
– У нас всегда бывает лишнее блюдо. Я уже решился испортить себе желудок утками с оливками, а здесь еще оказывается рейнфельдская ветчина, которую я уже должен есть с досады, чтобы не потерять свою часть (потому что он не завтракает с нами), и, кроме того, еще кабан из Варцина.
Вспомнили о вчерашней вылазке, и шеф заметил: «Французы вышли вчера с тремя дивизиями, а у нас было только пятнадцать взводов, даже неполных четыре батальона, и все-таки мы взяли тысячу пленных. Парижане со своими вылазками появляются то здесь, то там, как французский танцмейстер, дирижирующий кадрилью и заставляющий бросаться то вправо, то влево.
Ma commére, quand je danse
Mon cotillon, va t-il bien?
Jl va de ci, il va de lá,
Comme la queue de notre chat».
За ветчиной он высказал: «Померания – страна товаров, обрабатываемых дымом: копченых гусей, копченых угрей, ветчины. Там только и недостает копченой говядины, которую в Вестфалии называют Nagelholt. Это слово для меня не совсем понятно. Nagel (гвоздь) – пожалуй, потому что мясо висит в дыму на гвозде, но что такое holt – не знаю; разве его следует писать с буквой d[23]23
Hold – приятный. – Примеч. пер.
[Закрыть]?»
Потом происходил разговор о стоявшем тогда холоде, а за блюдом из кабана говорили об охоте, которая происходила в Варцине во время болезни графа Герберта Бисмарка в Бонне. Далее шеф заметил, что Антонелли наконец готов пуститься в дорогу и приехать сюда, но это, впрочем, дела не выяснит.
Абекен сказал: «Об Антонелли в газетах мы находим самые различные суждения: то о нем говорят как о возвышенном и утонченном уме, то как о хитром интригане, то, наконец, как о человеке совершенно глупом».
– Да, – возразил канцлер, – это исходит не от одной прессы; часто так судят и дипломаты. Хотя бы взять Гольца и нашего Гарри. О Гольце я уже говорить не буду – это дело иное. Но Гарри говорит всегда сегодня одно, а завтра другое. Когда я находился в Варцине и прочитывал по порядку известия из Рима, то он свои мнения о людях менял по два раза в неделю, смотря по тому, как они относились к нему – дружески или нет. С каждой последующей почтой, а иногда и с одной и той же у него являлись разные воззрения.
Вечером читал депеши из Рима, Лондона и Константинополя и ответы на них.
Пятница, 23-го декабря. Опять очень холодный день. Говорят, мороз доходит до двенадцати градусов. Выяснение настоящего положения, заключающегося в том, что императрица Евгения нашла почву, на которой может вступить с нами в переговоры о мире, отправил в редакцию «Монитера»; статью из «Times» по поводу Люксембурга, оправдывающую нас, отправил в Германию; начало работы Трейчке в «Preussiche Jahrbücher» подготовил для чтения короля. Статья о настоящем положении дел помечена 17-м декабря, и в ней между прочим говорится:
«Да, мы требуем от царствующей императрицы, чтобы она вступила в переговоры с Пруссией, а от Пруссии, чтобы она вела переговоры с царствующей императрицей, так как с той минуты, как эта высочайшая особа выразит свою волю положить конец кровопролитию, король Вильгельм будет вынужден собственным достоинством принять по отношению к ней такой образ действий, который бы не был по сердцу ни виновникам ведения войны до последней крайности, ни различным претендентам, пользующимся несчастьями своего отечества, чтобы украсить свое чело короной. Императрице нет надобности спрашивать себя, достаточно ли понята Францией та идея, которой она уступила 4-го сентября. Пусть заговорит она, и она увидит, что Франция всегда умеет понимать героические решения. Что касается прусского правительства, то для нас нет надобности, чтобы оно пожелало возвращения наполеоновской династии. Нам нужно только, чтобы оно осознало, что величайшая ошибка, какую оно может сделать, будет состоять в том, если оно откажется вступить в союз с этой династией, о разрыве с которой ему нечего и думать, если оно заботится о своих настоящих интересах. Наше бессилие было бы для него гибельно. Оно не может рассчитывать, что нас не сделают бессильными, если не оставить после себя власти достаточно сильной, могущей противостоять давлению относительно нарушения данных обязательств. Только империя может разрешить Пруссии ее завоевание и заставить ее умерить свои притязания на исправление границ, так как только империя может вместе с Пруссией произвести наибольшие изменения в карте Европы без вмешательства нейтральных держав, что одинаково важно как для спокойствия Германии, так и для возрождения Франции».
Во время завтрака явилась француженка с просьбою представить ее шефу. Ее муж замешан в банде вольных стрелков в Арденнах и изменнических действиях и был приговорен к смерти. Она хочет просить о его помиловании и обращается к ходатайству шефа. Но шеф не принял ее, ответив ей, что это дело его не касается, что ей следует обратиться к военному министру. Она отправилась к последнему, но, как полагает Вольманн, слишком поздно, потому что еще четырнадцатого числа было предписано полковнику Крону, чтобы правосудие было исполнено[24]24
Это ошибка. Такое письмо могло существовать, но то лицо, о котором здесь идет речь, – нотариус Тарель из Рокруа в департаменте Арденн, был отправлен в Германию. Он еще в июне 1871 года сидел в Вердене, но вскоре после того его освободили по требованию французского правительства.
[Закрыть].
Вольманн и я поехали после обеда, при резком холоде и во время сильной пальбы на северной стороне, в маленькой коляске Ротшильда на виллу Кубле, лежащую на дороге сюда из Феррьера, и где приготовлен осадный парк, предназначенный против южной стороны Парижа. Здесь находится около восьмидесяти пушек и с дюжину мортир, расставленных четырьмя длинными рядами. Я представлял себе вид этих разрушительных орудий гораздо страшнее. Мы заметили, что над лесом, с северной стороны, поднимались облака. Быть может, это был дым огнестрельных орудий, а пожалуй, и дым фабричных труб.
Возвратившись домой, я нашел при чтении газет, что один из английских репортеров сообщил в своей газете совершенно точные сведения об этом осадном парке, и отметил эту статью для шефа, которую ему передал Гацфельд, вероятно, для препровождения в главный штаб.
За столом в числе гостей были барон Шварцкоппен, депутат рейхстага, и мой старый ганноверский знакомый фон Пфуэль, который был сделан окружным начальником в Целле. Оба должны были занять места префектов или что-то подобное. Далее был здесь граф Лендорф и гусарский поручик фон Дёнгоф, замечательно красивый собою, если я не ошибаюсь, адъютант принца Альбрехта. Сегодняшнее меню может также послужить примером, каким прекрасным столом мы пользовались в Версале. В нем стояли: луковый суп, к нему портвейн; кабаньи котлеты, к ним пиво акционерной компании Тиволи; ирландский штуфат; жареная индейка; каштаны, за которыми следовало шампанское и красное вино на выбор, затем десерт, состоявший из прекрасных яблок и груш. Припоминали, что генерал Фойгтс-Ретц стоит с девятнадцатой дивизией под Туром, население которого оказало сопротивление, так что город пришлось обстреливать гранатами. Шеф заметил на это:
– Это не в порядке вещей – прекращать стрельбу тотчас же, как скоро будет выкинут белый флаг. Я продолжал бы пускать в них гранаты до тех пор, пока они не выслали бы мне четырехсот заложников.
Затем он отозвался опять неблагоприятно о слишком мягком образе действий офицеров против гражданских лиц, оказывающих сопротивление. Даже открытая измена наказывается весьма слабо, и поэтому французы взяли себе в голову, что они могут позволять себе все против нас. «То же самое и Крон, – продолжал он. – Он сперва обвиняет какого-то адвоката в заговоре с вольными стрелками, а когда его приговорили к смертной казни, вместо того чтобы его расстрелять, он подает одну за другой две просьбы о помиловании, и в довершение всего присылает ко мне его жену, которой сам же выдает пропуск, – и это делает человек, считающийся энергичным и исполнительным».
От этого неблагоразумного снисхождения разговор перешел на начальника главного штаба Унгера, которого отправили домой, потому что голова его не совсем в порядке. По большей части он что-то тихо бормочет и иногда разражается горькими слезами.
– Да, – сказал шеф со вздохом, – начальник главного штаба много терпит. Он должен работать без устали, всегда нести ответственность, вносить очень мало своего и служить всегда предметом сплетен. Все это так же трудно, как быть министром. Я знаю сам, что такое эти слезы: это нервное возбуждение, это судорожный плач. У меня у самого это было в Никольсбурге, и в очень сильной степени. И с начальниками главного штаба, и с министрами вообще очень дурно обходятся. Их всеми способами раздражают и колют булавками. Может быть, некоторым это и нравится, но более почтительное обращение было бы более желательно».
Когда блюдо из варцинского кабана было подано на стол, министр заговорил с Лендорфом и Пфуэлем об охоте на этих обитателей лесов и болот и о своих подвигах на такой охоте. Затем говорили о здешнем «Монитере», причем шеф заметил:
– Они перевели в последнюю неделю роман Гейзе из Мерана. Такая сентиментальность не совсем подходит к газете, издающейся на королевские деньги. Однако это сделано. И версальцам это также не нравится; они требуют политических известий и военных сообщений из Франции, из Англии, пожалуй, из Италии, но совсем не таких сладостей. Я сам не лишен наклонности к поэзии, но помню, что не смотрел в этот фельетон, прочитав несколько фраз вначале.
Абекен, который был причиною помещения романа, защищал редакцию и говорил, что она заимствовала его из «Revue des deux mondes», который считает весьма почтенным французским журналом; но шеф остался при своем мнении. Кто-то заметил, что «Монитер» стал выражаться лучше по-французски.
– Это возможно, – возразил министр, – но для меня это не имеет значения. Но мы, немцы, уже таковы. Мы всегда спрашиваем, даже и в высших кругах, нравимся ли мы другим и не стесняем ли кого-нибудь. Если они нас не понимают – пускай учатся по-немецки. Для нас все равно, написана ли какая-нибудь прокламация хорошим французским слогом или нет; она должна только соответствовать своему назначению и выражаться толково. Мы никогда не можем знать в совершенстве чужой язык. Невозможно, чтобы кто-нибудь, употребляющий его только около двух с половиною лет и то иногда, мог выражаться на нем так же хорошо, как тот, кто употребляет этот язык пятьдесят четыре года.
Были высказаны иронические похвалы штейнмецской прокламации и цитированы некоторые места из нее, причем Лендорф сказал:
– Это нельзя назвать утонченным французским языком, но все это вполне понятно.
– Тут все дело в том, – сказал шеф, – чтобы им было понятно; а если они не понимают, пусть найдут кого-нибудь, кто мог это объяснить. Люди, особенно выставляющие свое искусство во владении французским языком, нам не пригодны. Наше несчастье состоит в том, что каждый, не умеющий порядочно выражаться по-немецки, этим самым уже приобретает уважение, в особенности если он умеет несколько коверкать английский язык. Старик (мне послышалось Мейендорф) говорил мне однажды, что не следует доверяться ни одному англичанину, который говорит по-французски с правильным акцентом, и я несколько раз в этом убеждался. Исключение я могу сделать только для Одо Росселя.
Он рассказал затем, как старый Кнезебек однажды, к общему удивлению, встал в государственном совете и попросил слова. Прошло несколько времени, и он все еще ничего не сказал; в эту минуту кто-то кашлянул. Тогда он проговорил: «Прошу не прерывать меня». Затем он постоял еще в течение нескольких минут и, заметив с досадой: «Ну вот я и позабыл, что хотел сказать», уселся на свое место.
Речь коснулась Наполеона III, и шеф высказал мнение, что это ограниченный человек.
– Наполеон, – продолжал он, – гораздо добродушнее, нежели вы думаете, и совсем не так умен, как это все привыкли думать.
– То есть, – вставил Лендорф, – это то же, что говорили о первом Наполеоне, – добрый малый, но болван.
– Нет, – возразил шеф, – говоря серьезно, он, несмотря на все, что можно думать о государственном перевороте, действительно добродушен, чувствителен, даже сантиментален, и ум его вовсе не далек, так же как и его образование. Особенно плохо знаком он с географией, хотя и воспитывался в Германии и посещал школу. Вообще он живет среди самых фантастических представлений. В июле он мучился три дня, пока принял какое-нибудь решение, и в настоящее время он также не знает, чего ему нужно. Познания его так велики, что с ними у нас он не выдержал бы экзамена даже на референдария. Мне не хотели верить, но я уже давно об этом заявлял. Я говорил королю в таком смысле уже в 1854 и в 1855 годах. Он не имеет никакого понятия о том, что происходит у нас. Когда я сделался министром, я имел случай беседовать с ним в Париже. Он высказывал мнение, что в скором времени произойдут восстание в Берлине и революция во всей нашей стране и при плебисците все выскажутся против короля. На это я заметил ему, что народ не строит у нас баррикад и революции в Пруссии делают только короли. Если король выдержит напряженное положение дел, действительно существовавшее в течение трех или четырех лет, несмотря на то что публика отворачивается от него, что во всяком случае весьма неприятно и неудобно, – он все-таки одержит верх. Если бы король не был утомлен и меня не оставили на произвол судьбы, я мог бы удержаться; а если обратиться к народу и потребовать голосования, то за него было бы уже теперь девять десятых голосов. Император выразился тогда обо мне: «Се n’est pas un homme sérieux», о чем я, конечно, не напоминал ему на ткацкой фабрике при Доншери.
Граф Лендорф спросил:
– Следует ли бояться по поводу арестов Бебеля и Либкнехта бульшего возбуждения?
– Нет, – возразил шеф, – этого бояться не следует.
– Однако арест Якоби, – продолжал Лендорф, – вызвал много шуму и крику.
– Заметьте, он еврей и кенигсбержец, – пояснил шеф. – Захватите-ка вы жида – посмотрите, какой крик поднимется во всех углах и закоулках, все равно если бы вы взяли масона. И к тому же они шли против всего народного собрания, что ни в каком случае не может быть оправдано.
Он отозвался далее о кенигсбержцах как о людях упрямых и оппозиционных.
– Да, кенигсбержцев, – закончил Лендорф, – хорошо понял Мантейфель, когда сказал: Кенигсберг останется Кенигсбергом.
Кто-то припомнил, что письма к Фавру начинаются словами: «Monsieur le ministre», на что шеф заметил: «На будущее время я буду ему писать: Его Высокоблагородию». Из этого возник целый византийский диспут о титулах и обращениях: превосходительство, высокоблагородие и благородие. Канцлер высказал решительно антивизантийские воззрения и намерения. «Все это следовало бы уничтожить, – сказал он. – В частных письмах я также уже этого не употребляю, а по служебным делам «высокоблагородием» я называю советников только до третьего класса».
Пфуэль заметил, что и в судебном слоге уже оставляются эти многословные обращения. Теперь уже пишется просто и без титула: «Вы должны быть в такое-то время там-то и там-то».
– Да, – возразил шеф, – но и ваши юридические обращения не составляют еще моего идеала. У вас недостает только таких выражений: «Вы, мошенник такой-то и т. д.».
Абекен в качестве византийца чистейшей воды думал, что дипломаты дурно бы сделали, если бы отказались от титулов, и что титул «высокоблагородие» принадлежит только советникам 2-го класса.
– И поручикам! – воскликнул граф Бисмарк-Болен.
– Я совершенно отменю это в нашем ведомстве, – возразил министр. – В течение года на это исписывается целое море чернил, на что платящие подати могут справедливо жаловаться как на излишний расход. Мне решительно все равно, если мне напишут просто: президенту совета министров, графу фон Бисмарку. Прошу вас, – сказал он, обращаясь к Абекену, – изготовить мне доклады в этом смысле. Все это бесполезные хвосты, и я желаю, чтобы они отпали.
Абекен – отрезыватель этих хвостов! Какая игра судьбы!
Вечером написал еще статью об искажении слов, с которыми король в начале войны обратился к французскому гражданскому населению. Даже военный приказ из Гомбурга выставляется как доказательство, что он не сдержал данного им тогда слова, и не только французы, но и их друзья, немецкие социал-демократы, позволяют себе в этом случае самую бессовестную клевету. Так, на первой неделе этого месяца в Вене происходило собрание рабочего союза, которое приняло решение указать королю на нарушение им слова. Но ни военный приказ из Гомбурга от 8-го июля, ни манифест от 11-го того же месяца не содержат в себе обещания, которое говорило бы, что война будет вестись только против французских солдат. В первом из названных актов говорится:
«Мы ведем войну не с мирными обывателями страны» (ударение падает здесь на слово «мирный»). Что касается до вольных стрелков и до всех тех, которые их поддерживают и, так или иначе, оказывают сопротивление нашим действиям, их едва ли можно назвать «мирными обывателями». В манифесте ясно выражено, что генералы, командующие отдельными корпусами, посредством особых постановлений, которые делаются известными публике, могут принимать меры, направленные против целых общин или отдельных лиц, действующих противно военным обычаям. Они подобным же образом «должны озаботиться относительно мер, относящихся ко всему, что касается реквизиций, которые будут сочтены необходимыми ввиду потребностей войск». Так и поступлено до сих пор. Вообще французы не имеют никакого права жаловаться на жестокость со стороны немцев. Мы не поступали подобно им, выгонявшим мирных людей, поселившихся среди них немцев, из одного дома в другой и тем разорившим их. Мы не включали в число военнопленных матросов с торговых судов, не разрушали безвредное частное имущество, как они, когда они жгли немецкие торговые суда; никогда мы, подобно им, не нарушали Женевской конвенции. Если же мы употребляли принудительные меры против упорно сопротивлявшихся местечек и обращались к праву возмездия с целью охранения от дальнейших нарушений международного права и человечности – все это было вполне в порядке вещей и не противоречило словам короля. Сюда относится и то обстоятельство, что мы еще на этих днях бросали гранаты в Тур, жители которого встретили наши войска весьма враждебно, и что железнодорожный мост уничтожен нами у этого города, о чем шеф велел мне телеграфировать незадолго до полуночи. Ведь это война, и французы все еще как бы не могут этого понять, даже когда дело касается их шкуры. В других местах, в Алжире, в Папской области, в Китае и в Мексике, они это легче понимали.
Суббота, 24-го декабря. Канун Рождества на чужбине! Так же холодно, как и вчера, и третьего дня. Я телеграфировал, что Мантейфель вчера имел дело с двумя дивизиями Федэрба, генерала французской Северной армии, уменьшившейся до шестнадцати тысяч человек, разбил его и принудил к отступлению.
За обедом находился в качестве гостя шефа подполковник Бекедорф, его старинный приятель, с которым он на «ты». На столе стоит миниатюрная рождественская елка и рядом с нею футляр с двумя кубками, один в стиле «Возрождения» и другой работы Тулаэра вместимостью не более двух больших глотков – подарки графини своему супругу. Этот последний показывает их всем окружающим и замечает при этом:
«Итак, мне приходится возиться с кубками, как дураку, потому что они ни для чего не нужны. Дома, когда меня нет, их могут украсть, а в городе я о них и не вспомню».
Тогда он высказал Бекедорфу, что он на самом деле продвигался по службе медленно, и продолжал:
– Если бы я сделался офицером – мне хотелось бы им быть, – то теперь у меня была бы армия и мы не стояли бы перед Парижем.
По поводу этой темы происходили длиннейшие разговоры о ведении войны, причем шеф высказал:
– Дело не только в предводительстве войсками; не оно начинает и решает битвы, а сами войска. Это то же, что у греков и троян. Несколько человек обменялись обидными выражениями; между ними дело доходит до драки, летят копья, другие бегут к ним, и также бросают копья и дерутся и, наконец, происходит битва. Сперва перестреливаются аванпосты без всякой нужды, потом подвигаются другие, если дело идет хорошо; сперва является группа под командой унтер-офицера, потом идет поручик с большим количеством людей, затем полк и, наконец, генерал со всем, что находится в его распоряжении. Так происходила битва при Гравелоте, которая, собственно, должна была произойти только девятнадцатого числа. При Вионвилле дело было иначе. Мы должны были, как бульдоги, стремительно броситься на французов.
Бекедорф рассказал потом, что он был два раза ранен при Верте: однажды – между затылком и лопаткой, по-видимому, разрывной пулей и в колено. Он упал с лошади и остался лежать на месте. Тогда с значительного расстояния зуав или тюркос, прислонившийся к дереву, выстрелил в него и оцарапал ему голову. Таким же образом другой из этих дикарей во время бегства бросился в ров и, когда наши люди миновали его, приподнялся и выстрелил им в спины. Тогда некоторые из наших принялись его преследовать; один же из них, не могший стрелять, потому что был окружен своими, отнял у него ружье, взял и убил его. «Стрелять для него вовсе не было нужды, потому что ему никто ничего не сделал бы во рву, где он лежал, – говорил рассказчик, – это просто страсть к убийству».
Шеф вспомнил другие варварства французов и просил Бекедорфа описать то, что с ним случилось, и предъявить разрывную пулю врачам для освидетельствования.
Под конец разговор перешел к ландшафтам, и шеф заметил, что он не слишком любит гористые страны, во-первых, вследствие непривычной для жителя долин ограниченности горизонта и потом вследствие необходимости беспрестанно подниматься вверх и спускаться вниз. «Я стою более за равнину, хотя и не за такую именно, какая окружает Берлин. Другое дело – небольшие холмы с красивой лиственной зеленью, быстрые и чистые ручейки, как в Померании и вообще у Балтийского прибрежья», – объяснял он и перешел к купаниям в Балтийском море, из которых одни он находил приятными, а другие – скучными.
После обеда я прошелся несколько раз по аллее, находящейся перед нашей улицей. В это время в нашем доме, в столовой, зажгли елку, и Кейделль раздавал сигары и пряники. Мне эти подарки прислали в мою комнату, потому что я пришел на торжество слишком поздно. Потом я читал, как всегда, все депеши и проекты, полученные в тот день. Позднее меня позвали два раза, один за другим, к шефу и потом еще раз.
Он желает, чтобы в нескольких статьях было указано на жестокий способ ведения войны французами: не только вольными стрелками, но и регулярными войсками, которые почти ежедневно нарушали постановление Женевской конвенции и вообще признавали и пользовались ею лишь тогда, когда им было выгодно. При этом следовало напомнить случаи стрельбы в парламентеров, дурного обращения с врачами и санитарами и ограбления и умерщвления раненых, злоупотребления женевской повязкой вольными стрелками, применение разрывных пуль (в случае Бекедорфа) и противно международному праву обращения с судами и экипажем немецкого торгового флота, которые были уничтожены французскими крейсерами. В заключение должно быть сказано: «Настоящее французское правительство несет на себе большую часть вины. Оно дало ход народной войне, и разнуздавшиеся от этого страсти не может уже сдерживать более, вследствие чего международное право и все военные обычаи остаются без исполнения. На него падает вся ответственность за ту строгость, с которою мы против нашего желания и, как показали войны в Шлезвиге и в Австрии, против нашей природы и привычек должны были пользоваться во Франции правом войны».
Сегодня вечером, в десять часов, шеф получил Железный крест первого класса. Абекен и Кейделль имели удовольствие уже после обеда украсить себя крестом второго класса этого ордена.
Воскресенье, 25-го декабря. Утром было опять очень холодно, но тем не менее Абекен отправился в церковь слушать проповедь. Тейсс говорил, показывая мне его сюртук с крестом: «Сегодня господин тайный советник, конечно, не выйдет из дому в шинели». У нас в канцелярии становится известным, что кардинал Боншоз прибудет сюда из Руана. Он и Персиньи желают созвания прежде всего законодательного корпуса и еще более сената, состоящего из более спокойных и зрелых элементов, чтобы обсудить дело о мире. Далее выясняется, по-видимому, что обстреливание Парижа имело серьезное значение и именно в самые последние дни.
Это видно по крайней мере из только что обнародованного приказа короля, которым генерал-лейтенант фон Камеке, командовавший до тех пор 14-й пехотной дивизией, назначается главным начальником инженерных частей, а генерал-майор принц Гогенлоэ-Ингельсфинген назначен начальником всей осадной артиллерии.
Сегодня за столом не было никого из гостей, и разговор не заключал ничего достойного упоминания. Впрочем, можно отметить следующее. Абекен в объяснении, я уже не знаю какого предмета, вставил замечание, что я веду очень точный дневник. Болен подтвердил это со свойственной ему живостью, говоря:
– Да, он все записывает: в три часа сорок пять минут сказал мне граф или барон то-то и то-то, как будто он все это желает сохранить для будущего.
– Со временем, – прибавил к этому Абекен, – это будет исторический источник. Только бы дожить, чтобы его прочесть.
Я возразил, что действительно это будет историческим источником, даже весьма достоверным, хотя и через тридцать лет. Шеф засмеялся и сказал:
– Да, тогда будут говорить: Conferas Buschii, глава III, страница 20-я.
После обеда читал акты и нашел там мысль о расширении немецких границ на запад, что было представлено королю в Герни четырнадцатого августа. Двадцать первого сентября баденское правительство прислало меморию подобного же содержания.
Понедельник, 26-го декабря. Что я в один из роковых дней 1870 года в частном доме в Версале буду есть настоящий саксонский рождественский пирог, я никогда бы этому не поверил, если бы это мне предсказала целая дюжина пророков. И однако, сегодня утром я имел порядочный кусок такого пирога, полученный мною от доброго Абекена, которому прислали из Германии целый ящик с подобным печеньем.
Независимо от обыкновенных работ сегодня был у нас праздничный вечер. Погода была менее холодна, но так же ясна, как и вчера. Около трех часов огонь с фортов стал сильнее. Они как будто замечают, что мы вскоре будем готовы отвечать им. Уже в предыдущую ночь несколько времени они стреляли с чрезвычайной силой из своих громадных орудий.
За обедом был Вальдерзее. Разговор шел почти исключительно о военных вопросах.
Под конец говорили о способности много пить, и министр высказал при этом: «Прежде питье совсем на меня не действовало. Как подумаешь, что я тогда мог выпить даже крепких вин, в особенности бургонского…» Затем разговор несколько времени вращался о карточной игре, и он заметил, что прежде он сильно подвизался и на этом поприще и мог, например, сыграть двадцать робертов виста один за другим, чту требует по крайней мере семи часов времени. Его интересует большая игра, но это не идет для отца семейства. Поводом к этому разговору послужило то обстоятельство, что шеф назвал кого-то «Riemchenstecher», и когда его спросили, что это значит, он объяснил: «Riemchenstecher – старинная солдатская игра, и этим именем зовут не настоящих мошенников, но хитрых и ловких людей».
Вечером написал еще статью о варварском ведении войны французами и приготовил для чтения королю извлечение из «Staatsbürger-Zeitung», которая советует менее щадить французов.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.