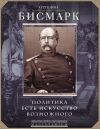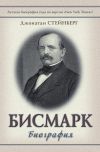Текст книги "Так говорил Бисмарк!"

Автор книги: Мориц Буш
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 36 (всего у книги 39 страниц)
. . . . . .
«Вероятно, ни одного, – сказал шеф. – Но вот мы каковы. Всегда ужасно угрожаем, а потом оказывается, что наши угрозы нельзя привести в исполнение. Народ наконец это замечает и привыкает к угрозам».
Граф Мальтцан рассказывал, что он был в форте Исси, который он представлял в ужасающем виде: дыры, уголь, осколки, развалины, повсюду груды нечистот и отвратительный запах.
– Разве у них не было отводящих нечистоту труб? – спросил кто-то.
– По-видимому, нет, – отвечал Мальтцан.
– Ove? Dove volete, как в Италии, – заметил другой обедающий.
– Да, французы народ нечистоплотный, – сказал шеф, причем он напомнил о порядках городской школы в Клермоне и подобных учреждениях в Доншери, при воспоминании о которых волосы становятся дыбом.
Затем следовал чрезвычайно интересный разбор подробностей различных фаз, которые являются вследствие идеи о присоединении южных германских государств к Северо-Германскому союзу.
«Наконец, после многих затруднений, – так рассказывал шеф дальше, – справились и с Баварией; тогда мы сказали себе: – Ну теперь остается только еще одно – конечно, самое важное. Увидев путь, я написал письмо, и тогда один баварский придворный чиновник оказал большую услугу. Он исполнил почти невозможное. В 6 дней сделал он поездку туда и обратно, проехал 18 миль не по железной дороге, но далее в горы, ко дворцу, где находился король, – и притом еще его жена была больна. Да, он много сделал».
В продолжение разговора было упомянуто об аресте Якоби, и шеф заметил: «Во всем прочем Фалькенштейн поступал совершенно рассудительно, но эта мера его – причина того, что мы не могли созвать ландтага четырьмя неделями ранее, так как он не согласился освободить Якоби, когда я его о том просил. Пусть бы он съел его, как котлету из мяса носорога, мне все равно – но запереть тогда! он мог видеть в нем никого другого как старого, высохшего еврея. – И другие не хотели ничего слышать о моих представлениях; итак, мы должны были ждать, так как ландтаг был бы вправе требовать его освобождения».
По внутренней связи разговор от Якоби перешел к Вальдеку, и шеф охарактеризовал последнего следующими словами: «У него такие же способности, как и у Фавра – он всегда последователен, верен принятому принципу, готов со своим мнением и решением с самого начала идти напролом; далее представительная наружность, седая почтенная борода, фразы, проникнутые убеждением даже в безделицах – это внушало уважение. Он говорил речь голосом, в котором слышалось глубокое убеждение в том, что ложка находится именно тут в стакане, и громко заявлял, что тот подлец, кто с этим не согласится, и все ему верили и восхваляли на все лады его энергические рассуждения».
Вторник, 31-го января. Утром телеграфировал о различных маленьких победах в юго-восточных департаментах, где договор о предварительном перемирии еще не имел силы. Шведский король произнес тронную речь воинственного характера. Зачем, о боги? Я написал две статьи по приказанию шефа, а потом и третью, в которой указывается на страдания, претерпеваемые некоторыми невинными немецкими семействами в осажденном Париже, оставшимися там по различным причинам, и на славные заслуги посланника Соединенных Штатов Вашбурна по его заботам об облегчении участи этих несчастных. Действительно, он в этом отношении сделал многое, заслуживающее благодарности, и его подчиненные добросовестно содействовали ему.
Парижские господа опять у нас, а также Фавр, который настоятельно просит Гамбетту телеграммами быть уступчивым. Надо опасаться, что тот не последует совету. Префект Марселя по крайней мере, усевшись на высокое место, грубо оттуда кричит бедному Фавру патриотические слова: «Je n’obéis le capitulé de Bismark. Je ne connais plus», гордо, с полным убеждением, но подальше от выстрелов.
О Бурбаки еще нет верных известий, застрелился ли он или только ранил себя, но армия его, очевидно, находится в дурном положении; верно, в таком же, как и другие творения турского диктатора.
Наши французы обедают опять с шефом. Я с Вольманном отправился в Hôtel des Reservoirs, где между другими обедающими сидела также маркиза делла Торре, окруженная многими молодыми лейтенантами. Это та самая худая, белокурая, довольно пожившая дама, которую я с ее собаками не раз встречал на улице и в парке. Она приехала из Лондона и служит в «Женевском Кресте».
Опять у нас несколько градусов холода. Бухер за чаем сообщил мне, что во время обеда шеф опять выразился неодобрительно о Гарибальди, старом фантазере, когда Фавр назвал его героем. Вечером Дюпарк был у шефа. После 10 часов последний сошел к нам вниз. Он опять вскоре заговорил о непрактичности французов, которые в эти дни с ним работали.
Два министра, Фавр и приехавший с ним на этот раз министр финансов Маньэн, трудились сегодня по крайние мере полчаса над одной телеграммой. Это дало ему повод сравнить французов и вообще всю латинскую расу с германскою. «Немецкая германская раса, – сказал он, – есть, так сказать, мужской принцип, который в Европе оплодотворяет; кельтийские и славянские народы – женского пола. Этот принцип распространяется до Северного моря и проникает до Англии».
Я позволил себе только заметить: «До Америки, до западных Соединенных Штатов, где наш народ составляет и там также лучшую часть народонаселения и имеет влияние на нравы других».
– Да, – отвечал он, – это дети, плоды того принципа. Ведь это же видно было во Франции, когда франки еще имели значение. В революцию 1789 года кельтийский элемент ниспроверг было германский, и что мы с тех пор видим? А в Испании – пока там имела перевес кровь готов? Также и в Италии, где в северных областях германцы также играли первенствующую роль. Когда эти выродились, не осталось ничего порядочного. Немного иначе было и в России, где германские варяги, Рюрики, первоначально соединили их вместе. Если народ там победит как пришлых немцев, так и из Остзейских провинций, то не будет способен к порядочному государственному устройству. Конечно, без смешения и немцы недалеко уйдут. Так, на юге и на западе, когда они были предоставлены сами себе, только и были имперские рыцари, имперские города и имперские деревни; каждый жил для себя, там все лезло врозь. Немцы хороши, когда их соединяют общая нужда и угроза – они превосходны, неодолимы, непобедимы; в противном случае каждый поступает по-своему! По-настоящему, благонамеренно, справедливо и разумно направленный абсолютизм есть лучший образ правления. Где нет его, там все распадается: один хочет то, другой то – вечное колебание и застой. Но у нас нет теперь больше настоящих абсолютистов. Они исчезают; их партия вымирает».
Я позволил себе рассказать, что, будучи маленьким ребенком, я представлял себе короля, как он изображается на немецких картах, в короне, горностае, с державой и скипетром, в пестром одеянии, гордым и всегда похожим на себя во всех случаях, и как я очень разочаровался, когда моя нянюшка повела меня однажды к дворцу и католической церкви и показала мне короля Антона, этого маленького, сгорбленного, дряхлого старика.
– Да, – сказал шеф, – наши мужики тоже иногда имеют странные представления. Так, они говорили, что однажды нас собралось много молодых людей в публичном месте и что-то сказали против короля, сидевшего тут, не узнанного никем; он будто вдруг встал, распахнул шинель и указал звезду на груди. Другие испугались, я же будто не обратил внимания и дерзко обошелся с ним. За это я был присужден к 10-летнему заключению и не смел бриться. В то время я носил бороду, к которой я привык во Франции в 1842 году, когда это стало входить в моду. Говорили, что каждый год, накануне Нового года, приходит палач и стрижет мне бороду. Это были богатые и, нельзя сказать, что глупые, мужики, и они рассказывали это не потому, что они что-нибудь против меня имели; напротив, они относились добродушно и с состраданием к молодому человеку».
В связи с этим преданием говорили о том, что и теперь создаются разные вымыслы, которые мало или ничего не имеют общего с действительными случаями. По этому поводу я спросил:
– Смею ли спросить, ваше сиятельство, справедлива ли история с кружкой пива, которую вы разбили о чью-то голову в берлинском трактире за то, что он насмехался над королевой или не хотел пить за ее здоровье.
– Да, – отвечал он, – эта история была совсем другая и без всякой политической примеси. Раз поздно вечером возвращаясь домой, это, кажется, было в 1847 г., я встретил кого-то довольно пьяного и который хотел ко мне привязаться. Но когда я остановил его за дерзкие выражения, то узнал, что это был старый знакомый. Это было, кажется, на Егерской улице. Мы давно не видались, и, когда он мне предложил пойти к (он назвал имя), я пошел с ним, хотя он, в сущности, был довольно пьян. Пока нам подали пиво, он уснул. Около нас был кружок людей, из которых один также выпил более, чем мог, и буйством обращал на себя внимание. Я спокойно пил свое пиво. Он очень раздосадовался, что я так смирен, и начал делать намеки на мой счет. Я молчал, и это еще более его раздражало и сердило. Колкости его говорились все громче. Я не хотел вступать в ссору, а также и уйти, чтобы не подумали остальные, что я трушу. Наконец, должно быть, он не мог успокоиться, он подошел к моему столу и угрожал вылить мне пиво в лицо; ну это уже было слишком. Я сказал, чтобы он убирался, и когда вслед за тем он сделал жест, желая меня облить, то я так толкнул его под подбородок, что он растянулся во всю длину, сломал стул и кружку и прокатился до стены через всю комнату. Тут пришла хозяйка, я ей сказал, чтобы она успокоилась, за стул и кружку плачу я. А остальным я сказал: «Вы видели, господа, что я не искал ссоры, и вы свидетели, что насколько возможно я сдерживался, но нельзя же требовать, чтобы я позволил вылить себе на голову стакан пива за то только, что я спокойно пил свое пиво. Я буду очень сожалеть, если этот господин лишился зуба. Но я должен был обороняться. Если, впрочем, кто-нибудь желает знать кое-что еще больше, то вот мой адрес». – Оказалось, что это были весьма рассудительные люди, которые были почти того же мнения, что и я. Они сердились на своего товарища и отдавали мне справедливость. Потом я встретил двух из них у Бранденбургских ворот и сказал им: «Вы, кажется, присутствовали, господа, когда я имел эту историю в портерной на Егерской улице. Что случилось с ним? Мне жаль, если она для него имела вредные последствия. Его надобно бы было вынести». «Ах, – сказали они, – он совсем здоров и весел, и зубы тоже опять окрепли. Впрочем, он молчит и очень сожалеет об этой истории. Он только послал за доктором, чтобы отслужить свой год, и ему было не очень приятно, если бы история эта распространилась в народе и дошла до его начальства».
Потом шеф рассказывал, что, будучи геттингенским студентом, он в 3 семестра имел 28 поединков, и все кончались счастливо для него.
– Но раз, ваше сиятельство, – спросил я, – что-то случилось с вами. Как звали этого маленького ганноверца? Биденфельд?
– Биденвег, – отвечал он, – он не был мал, почти с меня ростом. Но это случилось только оттого, что клинок его отскочил, так как, вероятно, был плохо ввинчен. Клинок попал мне в лицо и застрял. Больше я ни разу не был ранен. Впрочем, раз в Грейфсвальде я был близок к тому. Была введена такая странная головная покрышка из войлока, как кофейный мешок, а также рапиры, которыми я тогда не умел владеть хорошо. Я же дал себе слово отсечь кончик кофейного мешка моего противника и промахнулся, а его удар просвистел совсем около моего лица, но я успел вовремя отклониться».
Среда, 1-го февраля. Небо с утра довольно ясное, мелкий дождь и гололедица. За завтраком говорили, что Гамбетта согласился на перемирие, но удивляется, что в юго-восточной Франции еще было сделано нападение на французов. Фавр по незнанию дела упустил из виду ему телеграфировать, что война там – между прочим, по его желанию – еще продолжается. За завтраком присутствовали гости; из них сделали нам честь своим посещением тайный советник из правления министра финансов Шейдтманн, своеобразная личность, граф Денгоф (голубой и красивый, но не красный и дородный) и «мой племянник, граф Иорк». Говорили, что французов сегодня не будет.
Но это оказалось неверным. В час явился Фавр, чтобы несколько часов заняться наверху с шефом. Между тем я и Л. поехали через Вилль-д’Аврэ и парк Saint Cloud в город того же названия или, вернее сказать, на груды развалин, которые остались от жестокого пожара, происшедшего там несколько дней назад. При отправлении домой я получил приятное известие, что Бельфор сдался на капитуляцию и что оставшаяся 80 000 армия Бурбаки под командою Клишана, отступая перед нашими войсками, перешла на швейцарскую территорию и что, следовательно, и тут окончена война, о чем Бисмарк-Болен мне еще сообщил на лестнице.
В парке Saint Cloud, налево от решетчатых въездных ворот, под деревьями увидали мы импровизированное маленькое кладбище с 10 или 12 могильными насыпями над павшими здесь немецкими солдатами.
Далее, проездом, мы видели еще несколько таких же могил, так же как и шанцы и срубленные деревья, брошенные поперек дороги. Под мостом, который в виде туннеля сводообразно тянулся над дорогою, солдаты устроили себе жилище, как в каземате. Перед въездом в город, несколько на окраине пристроены к стене направо и налево блокгаузы, позади которых на большом расстоянии были устроены ступеньки для орудий, чтобы стрелять под прикрытием блокгаузов. Город состоит в начале из широких улиц и с загородными домами, которые отделены друг от друга промежутками и окружены садами; далее идут узкие улицы с большими, высокими в несколько этажей домами, которые заканчиваются на склоне холма у берега Сены.
Дачные постройки города почти все без исключения выгорели и частью превращены в пепел. От легких построек осталась только куча мелкого кирпича, осколки шифера, куски извести и уголь. На густо застроенных улицах внутри города едва еще сохранились наружные стены домов, и те по частям во многих местах обрушились, а с ними и полы разных этажей. На остатках последних виднелись письменные столы, комоды, книжные полки, а также для посуды, умывальные столы и т. п., а на стенах, обитых обоями, висели картины и зеркала. Целые обрушенные фасады 3-этажных домов лежали на главных и боковых улицах; другие, наклоненные, уже угрожали своим падением. Повсюду еще дымящийся мусор и запах гари; в 3 или 4 домах пробивалось пламя в виде язычков на крышах через трубы, стенные балки и карнизы. Новая церковь, выстроенная в прекрасном готическом стиле, осталась пока невредима, за исключением 2 дыр на крыше. Кругом – все развалины. Ужасающая картина серьезной войны!
С высоты разрушенного города расстилается красивый вид на долину Сены, на мост, один свод которого был взорван, и на южную часть Парижа с Булонским лесом. Мы не останавливались для этого вида, но быстро отправились во дворец, который до войны был летним местопребыванием Наполеона, а теперь также представлял только безмолвную груду развалин. Французские гранаты превратили его в такое состояние. Только окружающие стены и простенки стояли прямо. Мы перелезли через груды щебня, переходили из комнаты в комнату через обрушившиеся потолки и полы, грозившие новым падением, и взяли с собою на память куски от упавших вниз мраморных капителей и изуродованных статуй.
На возвратном пути в Saint Cloud мы несколько раз встречали небольшие общества людей, возвращавшиеся с постелями и домашнею утварью из Парижа в свои родные деревни; а около Вилль-д’Аврэ нам попалась навстречу прусская артиллерия, шедшая на Мон-Валерьян.
Возвратившись опять в 6 часов в rue de Provence, я застал уже шефа и других за столом. Гостей не было. Министр разговаривал о Фавре и при входе моем сказал: «Я думаю, он сегодня и пришел только вследствие нашего вчерашнего разговора, в котором я не хотел согласиться, что Гарибальди – герой. Очевидно, он за него боялся, что я не захочу включить его в перемирие. Как настоящий адвокат, он указал на первую статью. Но я сказал ему, что это правило, а за ним следуют исключения, к которым принадлежит это. Если француз поднял против нас оружие, я это понимаю – он защищал свою страну и имел на то право; но этот чужой – искатель приключений со своей космополитической республикой и шайкой революционеров изо всех углов вселенной! Его прав я признать не могу. Он спросил потом, что бы стали с ним делать, если бы взяли его в плен. «О! – сказал я, – мы будем показывать его за деньги с дощечкой на шее, на которой будет надпись: «Неблагодарность».
Затем он спросил: «Где же Шейдтманн?» Ему ответили. «Его я думал взять себе в помощники как юриста для дела об уплате Парижем 200 миллионов контрибуции. Он ведь юрист?»
– Нет, – отвечал Бухер, – он вообще не учился в университете; был первоначально купцом и т. п.
– Итак, – сказал шеф, – в первом ряду должен идти в бой Блейхредер. Этот немедленно должен ехать в Париж, снюхаться со своими коллегами и поговорить с банкирами, как это надобно устроить. Ведь он думает приехать?
– Да, – отвечал Кейделль, – через несколько дней.
– Пожалуйста, – просил шеф, – телеграфируйте ему; он нам необходим тотчас. За ним следует Шейдтманн. Он ведь знает французский язык? – Этого не знали. – В третий разряд я выбираю Генкеля. Он в Париже как дома и знает денежных людей. Мы обыкновенно на бирже рассчитываем понтировать на счастливого игрока, сказал мне раз один из крупных финансистов, и если здесь теперь нужно понтировать на кого, то на графа Генкеля.
Потом разговор коснулся истории развития немецкого вопроса, и министр, между прочим, заметил: «Я помню, лет 30 назад или более, спорил я в Геттингене с одним американцем о том, будет ли объединена Германия лет через 20. Мы держали пари на 25 бутылок шампанского, которые должен был поставить, кто выиграет; кто проиграет, должен был переплыть море. Он держал пари за необъединение, я – за объединение. Вспомнив это в 1853 году, я хотел отправиться за море, но я узнал, что он уже умер. Его имя было такое, которое не обещает долгую жизнь – Toffin, Sarg. Самое главное то, что уже тогда, в 1833 году, я, должно быть, имел надежду на то, что теперь с помощью Божией осуществилось, несмотря на то что в отношении тех, которые этого желали, я был на ножах».
Наконец министр высказал свое убеждение в том, что луна имеет влияние на рост волос и растений, и закончил тем, что, шутя, поздравил Абекена с прической. «Вы выглядите вдвое моложе, господин тайный советник, сказал он. – Если бы я был вашею женою! Вы остриглись как раз вовремя, в первую четверть луны. Так делают с деревьями, если хотят, чтобы они росли, их стригут в первую четверть; но если хотят корчевать пни, то делают это во время ущерба луны, тогда скорее гниет корень. Есть люди ученые, которые этому не верят, но само правительство поступает так же, хотя открыто в этом не сознается. Ни одному лесничему не придет на ум рубить березу, которая должна еще пустить побеги, при ущербе луны».
Вечером прочитано было много актов, относящихся к перемирию и снабжению провиантом, между ними также несколько собственноручных писем Фавра, который имеет красивый и разборчивый почерк. В одном письме сказано, что в Париже достанет муки только до 4-го февраля, а затем только конина. Мольтке просили письменно не равнять Гарибальди с французами и, во всяком случае, требовать от него и его армии, чтобы они совершенно сложили оружие. Министр желал этого по политическим целям.
В Эльзасе был отдан приказ не препятствовать выборам в бордоское собрание, которое должно постановить решение о продолжении войны или о заключении мира, а также относительно принятия условий мира; выборы должно игнорировать. В занятых нами местностях руководить выборами будут мэры, а не префекты. В изданных в Париже по этому случаю инструкциях говорится, что мэры главного города департамента должны войти в соглашение с мэрами главного города каждого округа, а эти – с мэрами главного города кантона и общин. Они должны уведомить их о дне, в который будут избираться депутаты в национальное собрание. Мэр каждой общины вручит каждому записанному избирателю карточку, по которой он может выбирать. За недостатком карточек после удостоверения их личности записанные избиратели будут допущены к подаче голосов. Мэр главного города департамента назначает число и границы избирательных округов. Выборы утверждаются большинством голосов.
Вследствие затруднений, вызванных войною, собирание голосов будет считаться законным, какое бы ни было число поданных голосов. Члены парижско-французского правительства обнародовали еще сверх того 29-го января следующее распоряжение:
«Приняв в соображение, что при настоящих обстоятельствах весьма важно предоставить избирателям полную свободу выборов, насколько она согласна будет с верным выражением народной воли, правительство национальной обороны предписывает следующее: «Статьи 81 до 90 закона от 15-го марта 1849 года, за исключением определения параграфа 4 статьи 82 и 5-го параграфа 85-й статьи, не могут быть применимы к выборам в национальное собрание. Вследствие этого префекты и супрефекты не могут быть избираемы в тех департаментах, где они занимают должности».
Четверг, 2-е февраля. Ясная теплая погода, как будто хочет наступить весна. Шеф меня позвал рано. Я должен телеграфировать, что 80 000 французов из армии Бурбаки перешли в Швейцарию при Понтарлье, и только 8000 бежали на юг. Вскоре я был позван еще раз, чтобы в здешней и нашей прессе обратить внимание на только что полученный нами телеграммою циркуляр Лорье (за которым скрывается Гамбетта) и высказать о том наше мнение. С этой целью я написал вскоре следующую статью:
«31-го января в Бордо после заключения договора, обнародованного там 28-го января, разослан префектам циркуляр, подписанный Лорье.
Там сказано:
«Политика, которой до сих пор следовали министры внутренних и военных дел, остается в той же силе; война до крайности, сопротивление – до полнейшего истощения. Потому приложите всю вашу деятельность к поддержанию хорошего духа в народонаселении. Период перемирия должен быть употреблен на подкрепление наших 3-х армий людьми, снарядами и съестными припасами. Необходимо во что бы то ни стало воспользоваться перемирием, и мы в состоянии это исполнить. Короче, до выборов нет ничего, что не могло бы быть обращено в нашу пользу. Франции необходимо представительство такое, которое хочет войны и решится вести ее во всяком случае».
Так говорит циркуляр, подписанный Лорье. Для людей благоразумных он сам произносит себе приговор, и мы могли бы поэтому воздержаться от комментариев. Между прочим, весьма важно заметить, что немецкие власти придавали весьма доброжелательное и снисходительное значение договору от 28-го января. Они допустили парижскому правительству толковать конвенцию от 28-го января в более широком смысле, чем это было установлено этим актом. Они признали полную свободу выборов в бордоское собрание, долженствующее решить вопрос о войне или мире. Несмотря на это, правительство продолжает открыто в Бордо проповедовать войну до крайности и явно влияет на выбор таких людей, которые дадут свой голос за войну и совершенное истощение Франции. Поведение это такого рода, что немецким властям представляется вопрос, у места ли их великодушное понимание своих обязанностей относительно Франции и не в интересах ли самой Франции должны они дать более строгое толкование договору от 28-го января?
Что касается, впрочем, 3-х армий, о которых говорит Лорье, то обращаем внимание на то, что после того как армия Бурбаки частью взята в плен, частью бежала в швейцарские владения, Франции остались только остатки 2-х армий. В заключение следует сравнить извещение Лорье с следующим извлечением «Daily Telegraph» о взглядах Гамбетты на положение дел и на то, что должна Франция делать. Корреспондент английской газеты говорит: «Разговор касается войны вообще, и на мой вопрос, будет ли конец войны после сдачи Парижа, Гамбетта отвечал, что сдача Парижа не будет иметь никакого значения для продолжения войны, если Пруссия останется при своих настоящих требованиях. «Я говорю это, – так продолжал он, – не только от моего имени или от имени здешней правительственной делегации, я повторяю, напротив, только твердое намерение моих сотоварищей внутри и вне Парижа, по которому война должна продолжаться, несмотря на расходы и последствия, которые вследствие того могли бы произойти. Если Париж падет завтра, то он благородным образом исполнит свой долг относительно Франции, но я не могу допустить, чтобы Париж когда-нибудь сдался. Я полагаю, что жители сами скорее сожгут город и сделают из него вторую Москву, чем допустят врага овладеть им». «Но предположим, – отвечал я, – что, несмотря на это, капитуляция состоялась бы». «В таком случае, – возразил Гамбетта, – следует продолжать войну в провинциях. Не включая армии, находящейся в Париже, мы имеем в действительности в настоящую минуту полмиллиона войск и сверх того еще 250 000 человек, готовых примкнуть к армии или покинуть свои сборные пункты. Мы еще ни разу не коснулись контингента 1871 года и женатых людей не ставили в полки. Первый доставит нам 300 000 рекрутов, а последние доставят 2 миллиона сильных людей. Оружие мы имеем из разных мест, и в деньгах тоже недостатка нет. Нация со включением всех политических оттенков на нашей стороне, и дело будет состоять только в том, кто из двух сильнее и настойчивее, наш народ или немецкий. Нет, – так продолжал он, ударяя крепко кулаком по письменному столу, – я считаю математическою невозможностью, чтобы мы, обладая настойчивостью и продолжая войну, не достигли наконец того, что выгоним вторгнувшегося врага из Франции. Каждые 24 часа составляют для нас только сутки, но нашим врагам каждый час замедления увеличивает затруднения. Англия сделала большую ошибку, что не вмешалась прежде и не сказала Пруссии, что, перешагнув известные границы, она в глазах Англии даст повод к войне».
Вскоре после часа опять приехали французы, но шеф с министром поехали верхом, как предполагали, в один из фортов или в какое-нибудь место, откуда далеко видна окрестность, так как они взяли с собою подзорные трубы. Герстекер и Дюбок навестили меня, и с последним, который был корреспондентом в саксонском лагере, я пошел в дворцовый парк. На возвратном пути я узнал, что шеф был в Сен-Клу, а французы между тем ожидали его в нашем парке.
За столом были у нас гости: Одо Россель и один высокий, полный молодой человек в темно-синем мундире, как мне говорили, граф Брай, сын министра, бывшего прежде при баварском посольстве в Берлине.
Шеф обратился к Росселю: «Английские, а также некоторые и немецкие газеты порицали мое письмо к Фавру и находили его слишком суровым. Но сам он, кажется, не того мнения. Он говорил мне совершенно добровольно: «Вы были правы, напомнив мне мои обязанности. Я не смел уходить прежде, чем это закончится». Министр тут же похвалил это самосознание. Он еще раз повторил, что наши парижане – народ непрактичный, и что мы постоянно должны быть их советниками и помощниками. Он присовокупил, что они и теперь, кажется, норовят требовать изменений конвенции от 28-го января. Вне Парижа выказывается мало готовности способствовать снабжению его провиантом; например, правление руанско-диеппской железной дороги, на которую рассчитывали, отозвалось, что недостает подвижного состава, так как локомотивы разобраны и отправлены в Англию. Поведение Гамбетты еще сомнительно, но, кажется, он думает о продолжении войны. Необходимо, чтобы Франция получила скорее надлежащее правительство. Если они не в состоянии установить свое, – продолжал он, – то мы дадим им государя. Все уже к тому подготовлено. Амедей пришел в Мадрид, в короли Испании с дорожной сумкой в руках, и, кажется, дело идет. Наш придет со свитой, министрами, поварами, камергерами и с армией».
Разговор после этого коснулся состояния Наполеона, которое считали различно, то очень большим, то незначительным, и Россель сомневался, чтобы оно было значительно. Он полагал, что императрица по крайней мере не могла иметь большого состояния, так как она не более 6000 фунтов положила на сохранение в английский банк. Потом упоминали, что граф Мальтцан уже прибыл в Париж, и шеф сказал, когда добавили, что его еще никто не видал: «Хотя бы с этим толстым господином ничего не приключилось». Затем он рассказывал, что по дороге в Сен-Клу он встретил сегодня много людей с домашнею утварью и постелями, вероятно, жителей соседних деревень, которые не могли выйти из Парижа. «Женщины имели вид очень приветливый, – заметил он, – а мужчины, завидя наши мундиры, принимали тотчас угрюмый вид и геройскую осанку. Это напомнило мне прежнюю неаполитанскую армию, в которой существовала команда – вместо нашей команды: «Орудие направо, к атаке!» там говорили: «Faccia féroce!», то есть «принимайте яростный вид». Все основано у французов на величественных позах, великолепной манере говорить и важном виде, как в театре. Лишь бы только звучало хорошо и имело какой-нибудь вид, содержание же все равно. Подобно тому, как у потсдамского гражданина и домовладельца, который сказал мне раз, что речь Радовица его глубоко тронула и потрясла. Я спросил его, не может ли он мне указать то место, которое ему особенно нравилось. Он не мог указать ни одного. Прочитав ему все, я спросил, какое самое трогательное место, и тогда оказалось, что там ничего не было ни трогательного, ни возвышенного. Собственно, его поражали вид, манера, поза оратора, которая выглядела, будто он говорит что-то глубокое, важное и животрепещущее, далее выражение лица, благоговейный взор и выразительный голос. С Вальдеком было то же, хотя тот не был таким ловким человеком и таким важным явлением. У того большое значение имели седая борода и ловкие суждения. Дар красноречия многое портит в парламентской деятельности. Много времени употребляется на то, чтобы дать высказаться всем тем, которые хотят что-нибудь сказать, хотя они ничего нового не скажут. Слишком много говорится на ветер, а мало – о деле. Раньше все уже решено в отдельных фракциях; на общем собрании говорят много слов только для публики, которой хотят показать, что мы можем сделать, и для газет, которые должны хвалить. Дойдет еще до того, что красноречие будет считаться общевредным качеством, и станут наказывать за то, если речь будет долго продолжаться. У нас есть нечто, которое не пускается в красноречие, и, несмотря на это, сделал для немецкого вопроса гораздо более, чем кто-нибудь другой; это союзный сейм. Я помню, сначала были сделаны некоторые попытки в направлении красноречия. Я же это отрезал. Enfin, сказал я им приблизительно: господа, красноречием и речами, которыми можно убеждать, тут делать нечего, потому что каждый приносит с собою свое убеждение в кармане, т. е. свою инструкцию. Это только трата времени. Я думаю, мы должны ограничиться только изложением фактов. Так и установилось. Никто больше не произносит длинных речей. Зато дела подвигались быстрее, и союзный сейм действительно сделал многое».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.