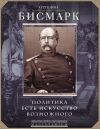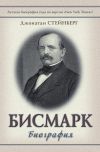Текст книги "Так говорил Бисмарк!"

Автор книги: Мориц Буш
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 39 страниц)
«Либералы очень уважали его, они считали его своим человеком. Но он был такой человек, которому государева милость была необходима и который тогда только чувствовал себя хорошо, когда его освещало солнце двора. – Это не помешало ему впоследствии с Варнгагеном высказывать свои суждения о дворе и рассказывать о нем всевозможные некрасивые истории. Варнгаген потом составил из этого целые книги, которые и я приобрел себе. Они очень дороги, если принять во внимание, что на каждой странице их помещается только несколько строк крупной печати».
Кейделль полагал, что для истории они необходимы.
– Да, – возразил шеф, – в известном смысле. – В отдельности они немного стоят, но, как целое, они представляют выражение берлинской закваски в то время, когда ничего не было. Тогда весь мир говорил с таким злобным бессилием. То был такой мир, которого без подобных книг теперь вовсе нельзя и представить себе, если кто не видал его сам. Много было отведено внешней стороне, и – ничего порядочного внутри. Я припоминаю, хотя я был тогда очень мал, – это было, должно быть, в 1821 или 1822 году – тогда министры были еще очень большие звери, на них смотрели с удивлением; они были окружены какой-то таинственностью. Вот как-то раз Шукманн давал большой вечер, который тогда назывался ассамблеей. И какой это он был ужасно большой зверь в качестве министра! Моя мать тоже пошла туда. Я помню это, как будто все происходило вчера. На ней были надеты длинные перчатки вот до сих пор (он показал это на своей руке), платье с короткой талией; она носила пышные локоны с обеих сторон, а на голове – большое страусовое перо. – Он прервал на этом историю свою и опять возвратился к Гумбольдту.
– Гумбольдт, – сказал он, – умел иногда и хорошо рассказывать наедине из времен Фридриха Вильгельма III и в особенности из времени своего первого пребывания в Париже; и так как он был расположен ко мне, потому что я слушал его со вниманием, то я и узнал от него много прекрасных анекдотов. Со старым Меттернихом было то же самое. Я прожил с ним однажды несколько дней в Иоганнисберге. Впоследствии Тун говорил мне: «Я не знаю, что вы такое сделали старому князю; он ведь просто души в вас не чает и думает, что если вы не оправдаете его ожиданий, то я уж и не знаю, право, что с ним случится». Я ответил: «Я объясню вам это: я спокойно слушал его рассказы и только по временам звонил в колокольчик. Это нравится подобным словоохотливым старикам».
Гацфельд заметил, что Мольтке написал Трошю: так и так идут дела под Орлеаном. «Он предоставил ему, если пожелает, послать офицера убедиться в истине. Он выдаст ему охранительную грамоту до самого Орлеана».
– Это я знаю, – сказал шеф. – Но мне было бы более желательно, если бы он явился сам по себе. Наши линии теперь во многих местах стали редки, к тому же у них имеется голубиная почта. Если мы скажем им так, то оно будет иметь вид, как будто капитуляция нам очень к спеху.
Вторник, 6-го декабря. Утром телеграфировал в Берлин и Лондон подробности о победе под Орлеаном. Потом составил статью для «Монитера» и для немецких газет о вероломстве пленных французских офицеров, из которых некоторые опять преследуются вследствие тайного предписания. И генерал Барраль, командующий теперь частью луарской армии, убежал тоже таким же постыдным образом. После передачи Страсбурга он не только однократно, но даже двукратно дал письменное обещание под честным словом в этой войне не подымать более оружия против Пруссии и ее союзников и вообще не делать ничего такого, что могло бы вредить немецким армиям. Он поехал потом в Кольмар, а оттуда на Луару, где опять поступил во французскую армию – беспримерная бесчестность! Члены турского правительства не имели ничего против этого. Эти господа, которыми бельгийские газеты не могут нахвалиться вдоволь, будто они люди честные, благородные и т. д., пошли еще дальше; они отправили к задержанным в Бельгии французским офицерам некоего Ришара, который собрал их у Ташардa, представителя господ Гамбетты и Фавра в Брюсселе, и там под угрозами требовал от них, чтобы они нарушили данное ими бельгийским властям слово и отправились во Францию сражаться опять с немцами. И в Силезии, по-видимому, подобные эмиссары склонили на такой поступок слабохарактерных офицеров. В истории войн, конечно, найдется немного подобных случаев. Но у этого дела есть еще и другая сторона: с немецкой стороны вследствие подобных недостойных поступков является большое сомнение насчет того, можно ли вообще доверять такому правительству, как правительство народной обороны. Другими словами, с правительством, которое принуждает нарушать слово, которое по собственной инициативе принимает на службу нарушивших слово офицеров и употребляет их в дело и этим показывает, что оно разделяет и одобряет их мнение о значении торжественно данных обещаний, – мы, само собою разумеется, как с правительством в высшей степени ненадежным, не можем вступать в переговоры до тех пор, пока будут продолжаться подобные переманивания и определения на службу.
За обедом находились сегодня Д. Лауер и Одо Россель. Разговор был не особенно интересный; о политике почти ничего не говорили. Но у нас были великолепные пфальцские вина: придворный Дейдесгеймер и церковный Форстер – благородные вина, ароматные и огненные, – «из огня был создан дух». Даже Бухер, который вообще пьет только красное вино, сделал честь этой небесной росе с Гаардских гор.
Вечером посетил меня консул Бамберг, новый редактор нашей версальской газеты, – человек в летах, в морской форме, украшенный двумя орденами – он теперь будет посещать меня каждый день. Недавний осмотр лазарета в замке вызвал следствие, и шеф, если я не ошибаюсь, получил известие, что все было найдено в порядке, больные получали то, что им следовало, прислужник же, который говорил о неудовлетворительности ухода за больными, подвергнут дисциплинарному взысканию[17]17
Подробности ниже.
[Закрыть]. Потом написал еще одну статью, в которой я в вежливой форме выразил мое удивление медному лбу Грамона, напомнившего в брюссельском «Gaulois» о своем существовании. Он, который своей неслыханной ограниченностью, а равно своей беспримерной неловкостью вверг Францию в бедствие, должен бы, подобно своему товарищу Оливье, молчаливо скрыться куда-нибудь и радоваться, если о нем забудут, или же (как одаренный крепким телосложением и следуя традициям своего древнего рода) должен бы поступить на военную службу и, сражаясь за свое отечество, искупить некоторым образом причиненное им зло. Вместо того он осмеливается еще напоминать свету в газете о том, что он еще существует и что некогда держал в своих руках французскую политику. «Дерзкий дурак». Понятное дело, подобным людям никто не отвечает на их доводы.
После консула с орденом Христа пришел Л., принесший добрую весть, что вчера пополудни генерал Гёбен окружил Руан и что оперирующие в этой местности немецкие войска направились теперь против Гавра и Шербура. Я просил его написать и для своих газет статьи о приеме на службу нарушивших честное слово офицеров и о дерзости Грамона.
По английским известиям в Париже уже недели две назад началась довольно неприятная жизнь. Появились болезни, и смертные случаи стали значительно чаще, чем в обыкновенное время. Страх и уныние, а также и нужда способствовали этому. В первую неделю сентября насчитывали девятьсот смертных случаев, а в неделю, закончившуюся 5-го октября, приблизительно вдвое столько, в следующую – тысячу девятьсот смертных случаев. В городе свирепствует оспа, похищающая много жертв; равным образом значительное число людей умерло от брюшных болезней. Среди набранных в провинции батальонов эпидемически распространилась тоска по родине. Говорят, будто один английский корреспондент при посещении южного госпиталя в последнюю неделю октября видел над входною дверью здания записку следующего содержания: «Кто принесет с собою кошку, собаку или трех крыс, тот может принять участие в завтраке или обеде. Примечание: безусловно, необходимо, чтобы животные доставлялись живыми». Подобные объявления на дверях парижских госпиталей представляют будто явление обыкновенное.
Недостает еще пяти минут до полуночи. Министр уже в постели – в виде исключения. Свечи, поставленные в бутылочных горлах на моем столе, значительно сгорели. Мон-Валерьян дал страшный залп по долине. Зачем это? Может быть, он должен только поведать парижанам: теперь двенадцать часов ночи. Значит, это что-то вроде оклика ночного сторожа. В противном случае пальба эта имела бы смысл поговорки «Много шуму из ничего». В последние два дня боя форты, как сегодня слышал Абекен, выпустили около шестнадцати тысяч бомб и гранат, но от этого ранены из наших только тридцать пять человек, в том числе некоторые легко.
Глава XIV
Виды на будущее под Парижем делаются благоприятнее
Среда, 7-го декабря. Погода пасмурная. Только изредка слышатся выстрелы с фортов и канонирок. Ложные известия, которыми Гамбетта и его сподвижники стараются прикрыть прореху, оказавшуюся в надежде населения относительно большой победы над нами после поражения красноштанников под Орлеаном, побудили меня поместить в «Монитере» следующую заметку: «Члены турского правительства обнародовали о поражении Луарской армии известия, которые имеют вид отрывков из сказок, носящих общее заглавие «Тысяча и одна ночь». Телеграмма их гласит, между прочим: «Отступление Луарской армии совершено без всяких других потерь, кроме потери тяжелых морских орудий, которые остались в укрепленном лагере заклепанными». Но ведь в этом случае немцам достались в руки двенадцать тысяч не раненых пленных. Депеша из Тура гласит дальше: «Полевая артиллерия не понесла потерь», тогда как в действительности победители взяли семьдесят семь полевых орудий и несколько картечниц. Немецкий народ ввиду воспоминаний о добродетелях Катона, Аристида и других республиканцев древности проникся той верой, что республика исключает ложь из числа своих операционных средств, – он полагал, что она по крайней мере будет менее лгать, чем империя. Но народ, как видно, обманулся. Эти катоны новейшего времени превзошли всех в искусстве выдавать ложь за правду, если дело касается того, чтобы отвергнуть что-либо; турские адвокаты выказывают больше смелости, чем генералы империи». Потом отправлена была телеграмма о новых успехах нашего оружия на севере и об оцеплении Руана.
После трех часов я пошел с Вольманном через Place d’Armes во дворец, где перед глазами конной статуи Людовика XIV и под самой надписью: «Toutes les gloires de la France», как будто в виде иронического комментария этого выражения галльского самомнения и хвастовства, выставлены четырнадцать бронзовых орудий, взятых под Орлеаном. Они частью двенадцати, частью четырехфунтовые; позади них стоят принадлежащие им лафеты и зарядные ящики. Французские орудия имеют собственные имена. Так, одно из выставленных называется «Le Bayard», другое – «Le Lauzun», третье – «Le Bucheron», между тем как другие окрещены «Le Maxant», «Le Rapace», «Le Brise-tout» или тому подобными страшными именами. На некоторых выскреблено, что они взяты четвертым гусарским полком.
За обедом присутствуют графы Гольнштейн и Лендорф. Пили опять превосходный Дейдесгеймер. Шеф, между прочим, рассказывал свои франкфуртские воспоминания.
«С Туном можно было ужиться, – сказал он. – Он был приличный господин. Рехберг, в общем, был тоже не дурной человек, по крайней мере лично честный, хотя и очень горячий и вспыльчивый – он из горячих светло-блондинов», о которых он потом распространялся много. «В качестве австрийского дипломата тогдашней школы он, конечно, не мог смотреть так строго на правду. Третий же, Прокеш, был вовсе не по мне. Он привез с собою с востока самые скверные интриги. Он был совершенно равнодушен к правде. Мне помнится, однажды в большом обществе говорилось о каком-то уверении Австрии, которое не согласовалось с истиной. Тогда он сказал громким голосом, чтобы я мог слышать: «Будь это неправда, то мне пришлось бы лгать (он сильно ударял на это слово) от имени императорско-королевского правительства!» При этом он взглянул на меня. Я посмотрел на него и сказал спокойно:
– Конечно, ваше превосходительство.
Он очевидно смутился; и когда он осмотрелся кругом и увидел потупленные взоры и глубокое молчание всех присутствующих, отдававших мне справедливость, он тихо отвернулся и ушел в столовую, где был накрыт стол. Но после обеда он оправился. Тогда он подошел ко мне с полным стаканом – иначе я мог бы подумать, что он хочет меня вызвать на дуэль, – и сказал:
– Ну, давайте пить мировую.
– Отчего и не выпить? – сказал я. – Но протокол все-таки надо изменить.
– Вы неисправимы, – возразил он улыбаясь, и этим дело кончилось.
Протокол был изменен, и этим было признано, что он содержал неправду».
Заговорили о Гольце, и шеф еще раз рассказал бомонтскую историю о том, как он был нелюбим своими людьми; после того он спросил Гацфельда, приходилось ли и ему терпеть от него. Последний сказал, что нет, но что вообще чины посольства его не жаловали, – это верно.
После обеда пришел ко мне консул Бамберг и получил статью о неправдивости в Туре. Я говорил с ним также о Л., способности которого я хвалил, между тем как, по его мнению, он и хороший патриот и уже прежде заявил себя с хорошей стороны. Потом является сам Л. и рассказывает, между прочим, о том, что Hôtel des Reservoirs начинают называть Hôtel des Preservoirs. (Не особенно блестящая острота, подумал я; но об этом каждый волен иметь свое мнение, и всякому, кто был тогда в Версале, должно быть известно, какое именно.)
За чаем Гацфельд передавал, что сегодня провезли множество пленных, и при этом дело доходило до беспорядков и бесчинств, так как граждане, в особенности женщины, стали тесниться к ним, и конвойные принуждены были прибегнуть к употреблению прикладов. Говорили о бомбардировании, и все мы согласились, что король желает этого совершенно серьезно и что есть надежда, что оно скоро начнется. Прибавляли также, что и Мольтке стоит за него. Последний получил, впрочем, от Трошю ответ на свое предупредительное письмо, который можно выразить вкратце приблизительно следующими словами: «Покорно благодарю, а впрочем, все остается по-прежнему».
Четверг, 8-го декабря. Выпало много снегу, на дворе довольно холодно, и камин не нагревает моей комнаты как следует, несмотря на то что в нем горят большие буковые поленья. Во время обеда из чужих участвовал князь Путбус. Нам подавали, кроме других вкусных блюд, яичницу с шампиньонами и, как уже случилось несколько раз, фазанов с кислой капустой, варенной на шампанском. Были также опять вина: Форстер и Дейдесгеймер, о которых министр выразил мнение, что первое следует предпочесть другому. «Форстер, – сказал он, – вообще лучшее вино, чем Дейдесгеймер». Наконец между такими благородными напитками явилась и достопочтенная старая водка, так как Путбус полагал, что кислая капуста не здорова, на что шеф возразил:
– Не думаю. Я ем ее именно для здоровья. Энгель, дайте нам водки к ней.
Министр показал потом Путбусу меню, и о нем завязался разговор, причем упоминалось, что один молодой дипломат в Вене старательно собирал все меню своего начальника, велел переплести их в два изящных тома, и что там встречались очень интересные комбинации.
Потом министр заметил, что у французов, должно быть, в одном из фортов на нашей стороне – одно или два очень крупных орудия. «Это заметно по звуку, который гораздо сильнее других. Но этим они вредят только сами себе. Если они положат довольно сильный заряд, то дуло либо обернется и выстрелит им в город, либо же его разорвет; конечно, может и посчастливиться, и тогда ядра долетят до нас, в Версаль».
Потом спрашивали начальника, в каком положении находится вопрос о германском императоре; он, между прочим, сказал: «У нас было по этому поводу много хлопот с телеграммами и письмами. Но самые важные переданы графом Гольнштейном. Он очень ловкий человек».
Путбус спросил, кто он, собственно.
Обер-шталмейстер. Он совершил поездку в Мюнхен и обратно за шесть дней. Для этого при настоящем состоянии железных дорог нужно много доброй воли. Конечно, у него и крепкое телосложение. – Да, не только лишь в Мюнхен, но и в Гогеншвангау. – Впрочем, король Людвиг существенным образом содействовал быстрому окончанию дела. Он тотчас же принял письмо и, не откладывая, дал на него решительный ответ».
Я не помню содержания промежуточного разговора, после которого речь зашла о понятиях «swells», «snobs» и «cockneys», которые обсуждались весьма обстоятельно. Шеф обозначил одного дипломата эпитетом «swell» и потом заметил: «Это ведь прекрасное слово, которого мы не можем выразить по-немецки. Положим, мы сказали бы щеголь, но ведь swell выражает вместе с тем высокую грудь, надменность. Snob означает совсем другое, чту по-немецки тоже нельзя выразить совершенно точно. Оно означает разные свойства и качества, преимущественно же односторонность, ограниченность, пристрастие к местным или сословным воззрениям, филистерство. Snob приблизительно то же, что мещанин. Но это слово не совсем идет. Оно обозначает также еще пристрастие к семейным интересам – узкий взгляд в суждениях о политических вопросах, – облеченное в усвоенные воспитанием мысли и манеры выражаться. Snobs бывают и женщины, и очень знатные. Можно еще говорить и о партионных snobs – тех, которые в широкой политике не могут подняться выше положений частного права, – это будут snobs прогресса». Cockney же совсем другое. Оно идет больше к лондонцам. В Лондоне есть люди, которые никогда не выходили из своих домов и улиц, из brick and mortar, никогда не видали никакой зелени, которые всегда знакомились с жизнью только на этих улицах и слышали звон Bow Bells. У нас есть берлинцы, которые тоже никогда не выезжали из города. Но Берлин ведь небольшой городок в сравнении с Лондоном и Парижем, в нем есть также свои cockneys, но они там иначе называются. В Лондоне найдутся сотни тысяч людей, которые никогда не видели ничего другого, кроме города. В подобных больших городах слагаются воззрения, которые распространяются, и крепнут, и становятся предрассудками жителей их. В таких больших центрах населения, которые не познали на опыте ничего такого, что существует вне их пределов и, следовательно, не имеют об этом надлежащего представления – а о существовании некоторых вещей даже и не предполагают, – образуется такая ограниченность, простота. Простоту без самомнения еще можно переносить. Но быть простым, непрактичным и при этом много о себе думать – это невыносимо. Деревенские жители скорее способны смотреть на жизнь так, как она есть и слагается. Они, пожалуй, менее образованны, но то, что они знают, они знают надлежащим образом. Бывают, впрочем, snobs и в деревнях. Видите ли (обращаясь к Путбусу), какой-нибудь порядочный охотник ведь убежден в том, что он – первый человек в мире, что охота, собственно, составляет все на свете, и что люди, не понимающие ее, – ничто. Или же какой-нибудь господин в отдаленном поместье, где он старше всех и остальные люди вполне от него зависят, – если он приезжает из деревни на шерстяную ярмарку и если он тут, среди горожан, не имеет такого значения, как дома, – то он впадает в дурное настроение, садится на свой мешок с шерстью и ни о чем больше не думает, кроме как о своей шерсти».
Потом беседовали о лошадях и качествах их. Шеф рассказывал о своей гнедой кобыле, о которой сперва не был высокого мнения, но которая под Седаном носила его на себе тринадцать часов кряду, пробежав «по меньшей мере двенадцать миль», и которая на следующий день все еще годилась для езды. Потом рассказывал разные случаи из верховой езды; например, как он однажды, катаясь верхом со своей дочерью, очутился перед канавой, через которую он сам на своей лошади не мог перескочить, но графиня отлично перепрыгнула, и лошадь ее неслась без остановки и т. д.
Вечером меня звали несколько раз к шефу, и я написал несколько статей, между которыми одна была по поводу похвалы, которую французский консул в Вене, Лефевр, воздал имперскому социалистскому депутату Бебелю за его симпатии к французской республике. Мораль статьи Лефевра следующая: Германия как в прошлом, так и в будущем должна думать и повиноваться, Франция – действовать и господствовать. Из «Frankfurter-Zeitung» в Берлине более уже не делают вырезок, так как даваемые ею образчики французской глупости читать не стоит.
За чаем Кейделль заявил, что мне следовало бы, собственно, просматривать не только известия и статьи политического содержания, даваемые мне шефом, но все вообще; и что он намерен переговорить об этом с Абекеном, исправляющим здесь должность статс-секретаря. Я принял это предложение с благодарностью. Бухер рассказывал мне, что сегодня министр в гостиной, за кофеем, говорил очень интересную речь. Князь Путбус говорил будто о своей склонности к путешествиям в очень отдаленные страны. Шеф будто заметил:
«Да, для этого вы могли бы получить пособие, вам могли бы поручить уведомить китайского императора и японского тайкуна об основании Германской империи». Но затем он, разумеется, в отношении своего гостя повел довольно длинную речь об обязанностях немецкой аристократии в будущем. «Высшее дворянство должно быть проникнуто чувством государственности, сознавать свое призвание, поддерживать незыблемость государства при борьбе партий, сдерживать порывы, и т. п. Нельзя, конечно, возразить против вступления в компанию со Струсбергом, но в таком случае господам дворянам следует уж лучше сразу сделаться банкирами».
Согласился ли князь вполне с этим и будет ли он в случае надобности действовать в этом смысле?
Пятница, 9-го декабря. Я телеграфировал о победе, одержанной нашей 17-й дивизией третьего дня под Божанси над французским корпусом, состоявшим приблизительно из шестнадцати батальонов при двадцати шести орудиях, и доказывал лживость рассказа «Gazette de France» о перувианском посланнике Гальвеце.
За завтраком упоминали о том, что князь Трубецкой, родственник Орлова, требует охранения своей виллы нашими армейскими жандармами и даже обратился к союзному канцлеру с требованием распорядиться, чтобы наши войска были удалены из соседства его владений, так как от скопления войск в этой местности дорожают съестные припасы. Это требование, разумеется, – материал корзины для ненужных бумаг.
За обедом присутствовал версальский комендант, генерал Фойгтс-Ретц, мне кажется, брат того, который в 1866 году был генерал-губернатором в Ганновере и теперь выиграл сражение под Бон-ла-Роландом; большого роста господин с темной бородой и орлиным носом. Разговор, вращающийся большею частью около последних битв между Орлеаном и Блуа, не представляет ничего такого, что заслуживало бы быть занесенным в дневник. Шеф отсутствует, он нездоров; говорят, что у него болит нога – приступ подагры.
Вечером приходит Бамберг, потом Л., который узнал будто из верного источника, что в весьма скором времени начнется бомбардирование и что король будто «разразился страшными перунами против Гиндерзина» за то, что еще нет достаточного количества снарядов; говорят, будто он возьмет теперь дело в свои руки.
Потом я делал для короля извлечение из замечания «Observer» по поводу речи, читанной в Лондоне месье де Фонфиеллем о бомбардировании. Там говорится, что оратор смеялся над тем мнением, будто король Вильгельм из человеколюбия не велит обстреливать Париж, – и утверждал, что король не делает этого потому, что не в состоянии, так как его батареи храбрыми моряками фортов удерживаются на почтительном расстоянии. Он хочет будто вынудить город сдаться голодом, что ему, однако, тоже не удастся, так как имеются съестные припасы более чем на два месяца, и серьезное изучение вопроса о питании привело к тому, что можно употреблять в пищу кожу, кровь и кости убиваемых животных. Париж не страшится опыта – голода. Его мнение такое: ни за что не сдадимся! Его единственное желание – вымести неприятеля из Франции, и теперь он уже взял в свои руки метлу для совершения этой операции.
Суббота, 10-го декабря. Утро туманное; за ночь выпало много снегу, и небо сегодня облачное. Шеф все еще болен. Я телеграфировал подробности сражения у Божанси, в котором принимали участие с нашей стороны 1-я баварская, а 8-го декабря – и 22-я северогерманская дивизии, со стороны же французов – два новых армейских корпуса; мы взяли в плен более тысячи пленных и шесть орудий.
Журнал «Militärwochenblatt» опять сообщает о бегстве 7-ми французских офицеров, вероломно нарушивших данное ими честное слово; о них мы хотим сообщить в газету «Moniteur» для общего сведения. За обедом отсутствовали: начальник, Бисмарк-Болен, страдающий уже три дня ревматическими болями в пояснице, и Абекен, удостоившийся приглашения к столу кронпринца. Вечером делал для короля извлечение из газеты «National-Zeitung», которая передает, что в рейхстаге говорят о замедлении бомбардирования, и при этом выражает желание узнать причины. Позванный по делу к начальнику, я позволил себе спросить его, в каком положении находится дело о договорах в рейхстаге. Он ответил: «В очень хорошем; соглашение с Баварией либо сегодня уже принято, либо будет завтра вотироваться; точно так же, как и адрес королю».
Далее, я позволил себе спросить об его здоровье.
«Здоровье немного поправляется. Все это от жилы ноги», – ответил он.
Я осведомился, долго ли будет продолжаться боль.
«Может пройти за день, а может быть, и через три недели».
За чаем Кейделль сообщил, что рейхстаг решил отправить большую депутацию в Версаль, для принесения поздравлений королю по случаю объединения Германии и восстановления императорского достоинства. Это не понравилось Абекену, и он сказал с сердцем: «Рейхстаг хочет прислать к нам тридцать молодцов – это ужасно! Депутация из тридцати молодцов – это ужасно!» Но почему это задело его за живое, он не объяснил. Депутация из тридцати мудрых жрецов с титулами тайных советников, без сомнения, не была бы ужасна, а из тридцати гофмаршалов была бы отрадна. Гацфельд высказывал опасения относительно нашего будущего в военном отношении. Он думает, что наше положение на западе возбуждает серьезные опасения. Фон дер Танн из числа своей 45 000 армии сохранил едва 25 000 человек, а созданные Гамбеттою армии продолжают все прибывать как будто из-под земли. В канцелярии получено известие, что французы комплектовали две большие армии и что местопребывание их правительства перемещено из Тура в Бордо.
Что эта энергия Гамбетты в создании новых армий будет черпать еще долго средства во вспомогательных источниках и доброй воле страны, конечно, весьма сомнительно. В южных департаментах, кажется, недовольны такою энергией и продолжительностью изнурительной войны. «Gazette de France» приводит письмо из Тура от 1-го декабря, в котором, между прочим, говорится: «Уже давно я не видел ничего такого, что можно сравнить с тем подавляющим действием, которое произвел последний огромный набор на сельское население. Принудительный налог на снаряжение и вооружение мобилизированной национальной гвардии в последние три месяца превратил наше дурное расположение в гнев и наше изумление в уныние. Причина в том, что наши добрые поселяне, правда, менее хитры, чем их характеризуют Бальзак и Викторьен Сарду, но зато и гораздо менее простодушны, чем желал их видеть г. Гамбетта для успеха своих республиканских проповедей. Инстинкт, который можно бы считать непогрешимым, подсказывает им, что набор отцов семейства, вероятно, будет иметь место только на бумаге, но налог даст чувствовать себя либо в виде непосредственного требования его, либо в форме займа, который ляжет на них еще тяжелее. «В тот день, когда наша мобилизация закончится, мы не будем иметь рубашки на теле», – говорят поселяне.
«Этот чрезвычайный налог, который явился как снег на голову в начале тяжелого времени, не имеет никакого отношения к источникам дохода наших несчастных сельских общин. Из четырех правил арифметики остались только два: сложение наших потерь и умножение несчастий, постигающих нас. Немцы взяли себе вычитание, а демагоги – деление. На обитателей наших юго-восточных департаментов и берегов Ардеша, Дюрансы и Роны обрушились голод и беды не только с началом войны, вторжением неприятеля и республикою. Засуха, сделавшая в некоторых местностях воду предметом роскоши, совершенный недостаток трав и подножного корма, принуждающий продавать скот за треть цены, болезнь шелковичных червей, переставшая быть любопытною, так как сделалась хроническою, вредные насекомые, заступавшие место друг друга с такою же охотою, с какою Кремье заступил место Людовика Бонапарта, обесценивание наших товаров, достигшее такого предела, какого никогда не достигало, – все это вместе уложило нас в постель задолго до рокового дня, в котором сосредоточились ослепление, тщеславие, легкомысленность, неосторожность, хвастовство и неспособность, и предало Францию немцам. Мы были уже больны, война довершила болезнь, а республика доведет нас до могилы».
Воскресенье, 11-го декабря. Утром, в 9 часов, было 5 градусов холода, и нижний сад покрылся инеем; на ветвях дерев и кустарников туман смерзся в тонкие иглы. Я посетил больного Бисмарка-Болена, у которого ревматические боли превратились в страдание почек. Начальник также не совершенно здоров, хотя ему, кажется, лучше, так как он выезжает в 2 часа. Через полчаса я вышел из дому, прогуляться по парку, где на одном из бассейнов катались на коньках до 50 особ, в том числе несколько сомнительных и 3 или 4 совершенно несомнительных дам. На возвратном пути домой я услышал, что кто-то сильно ругается по-французски. Я осмотрелся и увидел, что то был мужчина в летах, шедший за мною, немного хромавший, а ругательства относились к расфранченной и сильно нарумяненной женщине, которая, припрыгивая, опередила нас.
– Бесстыжие, они внедряют в наши семейства недовольство, губят нашу молодежь; их надобно бы выгнать из города, – сказал он, обращаясь ко мне, как будто желая завязать со мною разговор.
Затем он пошел возле, продолжая ругаться, дошел от мужского пола до губителя Франции и высказал свое мнение, что небо вопиет о том, в какое несчастье эти люди ввергли страну, что это страшная картина. Я возразил, что Франция сама желала войны, поэтому должна принять ее такою, какая она теперь. Он согласился со мною для того, чтобы поносить республику и ее руководителей, в особенности Гамбетту, Трошю и Фавра. Гамбетта и вся его компания, по словам моего спутника, «кровопийцы», «негодяи»; республика – государство для мерзавцев, которые смотрят завистливыми глазами на благосостояние соседей, желают разделить, разрушить его. Он желал бы лучше видеть короля прусского повелителем Франции, скорее готов страну видеть разоренною на клочки, изувеченною, чем иметь республику. Впрочем, и император не годился никуда; он был узурпатором. Точно так же ему не нравился Людовик Филипп: «он не был законным наследником». Но республика всего хуже и т. д. С раздражительным легитимистом я дошел до Place Hoche, где я простился с ним; он сообщил мне свое имя и жительство, взяв с меня обещание, что я его навещу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.