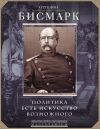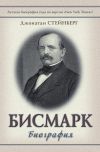Текст книги "Так говорил Бисмарк!"

Автор книги: Мориц Буш
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 39 страниц)
«Еще раза два моя жизнь была в опасности, – продолжал граф. – Вот, например, когда еще железная дорога в Зоммерингене не была закончена, мне кажется, это было в 1852 г., я с обществом поднимался вверх по одному из туннелей; помнится, тут же был граф Октавий Кинский; как теперь помню, он был несколько старше меня, и волосы его были завиты. В туннеле было совершенно темно. Я шел впереди всех с фонарем, вдруг вижу посреди туннеля перед собой расселину глубиною по крайней мере 50 футов и в полтора раза шире этого стола. Через него была положена доска с перилами по бокам, чтобы тачки не съезжали с нее. Вероятно, эта доска подгнила; только я ступил на середину ее, как она подломилась и я полетел вниз; но при этом я невольно размахнул руками и ухватился за перила. Шедшие за мною, думая, что я, наверно, уж скатился вниз, потому что фонарь выпал у меня из рук, немало удивились, услыхав на вопрос: жив ли я? голос мой не из глубины рва, как предполагали, а около них. Я же уцепился между перилами ногами и спросил, куда мне лучше лезть – назад или вперед. Проводник посоветовал перелезть вперед, и так я выкарабкался. Работник, который нас вел, зажег свечку, нашел другую доску и по ней перевел остальное общество. Из истории с этой доской видно, как легко иногда сходят с рук подобные вещи. Потом, когда мы вышли из туннеля, мы помчались на низенькой тележке вдоль по полотну дороги. У нас были толстые палки, которыми мы тормозили, когда нам угрожала опасность сойти с рельс; но раз мы должны были употребить неимоверные усилия, чтобы наша тележка не полетела в одну из пропастей, зиявших по обеим сторонам, из которых наименее глубокая имела до 60 футов глубиной».
Канцлер рассказал еще случай, как старый барон Мейндорф решился один раз подвергнуть опасности свою жизнь. В Гаштейне он приказал поднять себя в винтовом вагоне по подъемной дороге, ведущей, если не ошибаюсь, по кратчайшему расстоянию на гребень горы, где находятся старые золотые прииски. Высота достигает тут, по словам канцлера, до 3-х тысяч футов, и дорога возвышается под углом 40°; вагон, в который садятся, едет по желобу. Если бы оборвалась веревка, то Мейндорф слетел бы с ужасной быстротой с вершины 10 тысяч футов, причем, конечно, не уцелело бы ни одной косточки его.
Четверг, 10-го ноября. Настала зима; стоит порядочная стужа, и снег идет в продолжение нескольких часов. Министр пожелал, чтобы я телеграфировал, что во Франции происходят беспорядки из-за того, что временное правительство растратило на военные издержки фонды сберегательных касс для бедных и имущества корпораций. Затем я должен остановиться на актах, касающихся неудавшихся переговоров о перемирии.
Тьер представил документ, в котором изложены условия перемирия, соображаясь с желаниями французского правительства, которого он является уполномоченным. Содержание этого меморандума следующее.
В случае соглашения возможно скорое прекращение кровопролития и созвание национального собрания, которое могло бы в глазах Европы служить выражением воли всей Франции раньше или позже заключить мир с Пруссией и ее союзниками. Перемирие должно продолжаться 28 дней, из которых 12 необходимы на созвание избирателей, один – собственно, на переговоры, 5 – на съезды избранных в каком-нибудь определенном месте и 10 – для поверки выборов и устройства бюро. Местом совещаний может пока служить Тур. Выборы должны быть всюду, также и в занятых немцами местах, происходить совершенно свободно и непринужденно. С обеих сторон должны прекратиться военные действия, но противники могут набирать рекрутов, строить укрепления и разбивать лагеря. Армии могут запастись провиантом, сообразуясь с законными мерами; реквизиции же, как меры военного времени, с прекращением враждебных действий не должны быть допускаемы. Укрепленные места должны быть снабжены провиантом по числу их обитателей на все время перемирия. Согласно этому, Париж должно снабдить посредством 4-х поименованных в меморандуме железных дорог скотом и другими жизненными припасами приблизительно в следующих размерах; требуется: 34 000 быков, 80 000 баранов, 8000 свиней, 3000 телят, 100 000 центиметров солонины, корм, нужный для всего этого скота, и 8 миллионов центиметров сена и соломы, затем 200 000 центиметров муки, 30 000 центиметров сухих овощей, 100 000 тонн угля, 500 000 куб. метров дров, причем население Парижа считалось в размере от 2 700 000 до 2 800 000 душ, включая сюда 400 000 защитников его и обитателей предместий.
Невозможно было согласиться на эти требования французов. Если бы мы приняли эти условия, то потеряли бы большую часть выгод, которые мы в последние 7 недель приобрели ценой стольких жертв и трудов; одним словом, мы бы вернулись вновь к тому положению, в котором находились 19-го сентября, когда наши войска окончили оцепление Парижа. Мы должны снабдить провиантом Париж, уже страдающий от недостатка съестных припасов, когда ему скоро представится альтернатива или сдаться, или терпеть голод. Мы должны отказаться от действий именно в тот момент, когда падение Меца освободило армию принца Фридриха и мы можем довести предприятие до конца. Мы должны допустить вербование рекрутов, что даст возможность французам создать себе новые войска; мы же в рекрутах вовсе не нуждаемся. От нас требуют согласия на снабжение провиантом Парижа и других французских крепостей, а мы должны прокармливать свои войска, не прибегая к реквизициям, допускаемым в неприятельской земле. Наше согласие требовалось на все эти пункты, а между тем противники наши не предлагали нам взамен ни одного военного или политического эквивалента, например, за снабжение провиантом – уступку одного или двух фортов, которыми укреплен Париж.
За всем тем мы не могли даже рассчитывать на скорый мир.
План назначить выборы во время перемирия и привести в порядок свои дела при помощи признанного всей страной правительства Тьер выставляет как ближайшую цель временного прекращения военных действий; но это обстоятельство, без сомнения, гораздо важнее для французов, чем для нас. Но кроме того, принимая во внимание тактику временного правительства, постоянно возбуждающего народные страсти зажигательными прокламациями, этому намерению нельзя придавать серьезного значения. Наконец при серьезном желании временное правительство могло бы выполнить свой план и без всей этой процедуры с перемирием. Эти предложения не сулят немцам ровно ничего. Дело могло состояться лишь при иных условиях, и канцлер предложил Тьеру перемирие на основании военного status quo; оно должно было продолжаться от 25 до 28 дней; в течение этого времени французы должны спокойно заняться выборами и созвать национальное собрание. И это предложение уже было уступкой с нашей стороны в пользу французов. Если, как утверждает Тьер, Париж снабжен провизией на многие месяцы – в чем нельзя и сомневаться, судя по заявленному им в условии требованию насчет муки, – то совершенно непонятно, почему временное правительство не хочет принять перемирие без снабжения города провизией. При этом громадную выгоду французам представляла приостановка дальнейшего беспрепятственного занятия французских областей нашей освободившейся из-под Меца армией. Оно было бы ограничено известной демаркационной линией. Тьер, однако же, не хотел принять этих весьма умеренных условий без согласия на подвоз провианта к Парижу; на этом он упорно настаивал, а взамен не мог даже обещать нам какой-нибудь военной уступки вроде занятия одного из фортов Парижа.
Когда мы шли к столу, канцлер сказал нам, что военный министр серьезно болен. Он чувствует себя очень слабым и, вероятно, раньше двух недель не поправится. Потом принялся острить по поводу воды для умывания, употреблявшейся в доме. «Обитатели здешних водопроводов, должно быть, тоже наблюдают свои сезоны. Сперва появились в ней сороконожки, которых я терпеть не могу – разом шевелят своими тысячами суставов. Затем пожаловали глисты, животные, конечно, безобидные, но я скорее примирюсь со змеями, чем с ними. Теперь нахожу там пиявок. Сегодня я нашел одну маленькую, свернувшуюся совершенно в клубок. Я старался заставить ее развернуться, но тщетно – клубок так и оставался клубком. Полил я на нее колодезной водой, она вытянулась в нитку и попыталась уползти». Затем разговор перешел к разным простым, но тем не менее заслуживающим внимания предметам гастрономии. Говорили о свежих и соленых сельдях, молодом картофеле, сливочном масле и т. д.; под конец министр сказал Дельбрюку, который тоже оказал свою долю внимания этим предметам: «Есть рыба, которой пренебрегают совершенно напрасно, – это осетр; но в России его умеют ценить; встречается он и у нас. В Эльбе, в Магдебургской округе, он ловится довольно часто; но там его, кроме рыбаков и простого народа, никто не ест». Он разобрал все достоинства осетра и заговорил об икре, различные сорта которой он характеризовал как знаток. Немного погодя он продолжал: «Мне сегодня, когда шел снег, снова пришло в голову – как много общего между галлами и славянами. Те же широкие улицы, те же тесно жмущиеся друг к дружке дома, часто те же плоские крыши, как и в России. Недостает только луковицеобразных колоколен. Зато версты и километры, аршины и метры те же самые; а вот еще более разительное сходство – это наклонность к централизации, к общему единомыслию и, наконец, эти коммунистические черты в народном характере».
Тут стал он изумляться удивительным вещам, совершающимся ныне на свете: все перевернулось вверх дном и вызвало невиданные события. «Стоит только подумать о том, – продолжал он, – что папа может очутиться в маленьком протестантском городке («В Бранденбурге при Гавеле! – воскликнул тут Болен»), рейхстаг в Версале, законодательный корпус в Касселе, а Гарибальди, превратившийся во французского генерала после Ментаны, сражается, командуя папскими зуавами»; и граф еще довольно долго говорил на эту тему.
«Сегодня и Меттерних мне писал и просил, – сказал он вдруг, – чтобы мы впустили Гойоса, с тем чтобы он вывел из Парижа австрийцев. Я ему ответил, что уже 25-го октября им позволено выйти, но мы никого не впускаем, не исключая и дипломатов! Мы их и в Версале не принимали; только для него я сделал бы исключение. Тогда он, пожалуй, вновь поднял бы вопрос об австрийских притязаниях на союзное имущество в немецких крепостях».
Потом заговорили о врачах и о том, как иногда сама природа помогает больному; канцлер рассказал по этому случаю, что однажды он охотился у герцога (имени которого я не понял) и ему тогда очень нездоровилось, так что ни два дня охоты, ни свежий воздух нисколько не помогли. «Вот прихожу я к кирасирам в Бранденбурге; они только что получили кубок; кажется, они в это время праздновали свой юбилей. В кубок вмещалась целая бутылка. Я должен был, – рассказывал канцлер, – первым его обновить, и затем передать другим. Я произношу спич, беру кубок, осушаю его до дна и передаю его пустым. Это всех весьма удивило, никто не мог ожидать такого удальства от кабинетного человека. Я же приобрел эту способность еще в Геттингене. Но что удивительно, а может, и вполне естественно, после этого в течение четырех недель мой желудок был так здоров, как никогда. Я пробовал и позже лечиться таким же образом, но уже никогда не имел подобного успеха». «Да, вот еще помню, однажды при Фридрихе Вильгельме II во время охоты пришлось пить из кубка времен Фридриха I; это был олений рог, вмещавший две трети бутылки; его нельзя было захватить губами, а между тем не дозволялось при питье пролить ни одной капли. Я взял рог и мгновенно осушил, несмотря на то что в нем было прехолодное шампанское; моя белая жилетка свидетельствовала, что я не пролил ни одной капли. Общество было в великом изумлении. Я же попросил вновь наполнить для меня рог. Но король воскликнул: «Нет, не бывать!» – и я должен был отказаться от своего намерения».
«Прежде подобные подвиги были необходимой приправой дипломатии; непривычных спаивали, выспрашивали у них все нужное, заставляли их соглашаться на условия, на которые они не были уполномочены, и тотчас же их подписывать; а когда хмель проходил, несчастные приходили в ужас от своей оплошности».
«Я не знаю, – заметил канцлер потом, – отчего все семейства, которым давали в Померании графский титул, вымирали. Я бы мог насчитать десять или двенадцать таких примеров». Некоторых он назвал тут же. Затем продолжал: «Я тоже вначале боялся подобной же участи, но наконец примирился с ней, хотя и теперь опасения мои не совсем улеглись». Когда подали жаркое, канцлер спросил: «Что это, конина?» Кто-то из присутствующих ответил, что это говядина; он возразил: «Странно, что едят конину не иначе как из нужды, подобно осажденным в Париже, у которых скоро не останется ничего другого. Это, верно, происходит оттого, что лошадь особенно нам, наездникам, ближе других животных. Всадник и лошадь составляют некоторым образом одно целое. (Ich hatt’ einen Kameraden als wär’s ein Stück von mir» – цитировал канцлер.) «Лошадь и по уму ближе других зверей к людям. Вот и с собаками то же; собачина, должно быть, очень вкусна, а все-таки мы ее не едим». Один из гостей отнесся неодобрительно к собачине, а другой похвалил, после чего канцлер опять продолжал: «Чем более животное на нас походит, тем неприятнее нам употреблять его в пищу. Должно быть, обезьяны препротивны в жарком, так как их руки очень похожи на человечьи». Вспомнили, что дикие едят обезьян, после чего речь перешла на людоедов: «Да, – возразил граф, – но к людоедству первоначально принуждала нужда, да и тут я, помнится, читал, что мужчины предпочитают есть женщин; да, вообще мы неохотно питаемся плотоядными животными: волками, львами; исключение – медведи, но и те употребляют больше растительную пищу. Я вот не могу взять в рот не только курицы, кормленной мясом, но даже и яиц ее».
Вечером, пришедши за справками, Л. сказал, что О’Сэльван, прежний посол Американских Штатов в Лиссабоне, получил совет удалиться, что он уже и сделал, далее этот расторопный Л. разузнал по моей просьбе все касавшееся до нью-йоркского «Таймса»; оказалось, что у них два корреспондента: один г. Скоффрен, квартирующий у егерского полковника фон Штранца в Вилль-д’Аврэ, а другой Голт-Вайт, живущий постоянно в Сен-Жермене. После 8 часов граф Брей был у канцлера в маленькой приемной.
Пятница, 11-го ноября. Сегодня утром, судя по пушечной пальбе с северо-запада, 46-пушечный «Bullerian» опять расходился, мы же сидим себе смирнехонько. Канцлер заставил меня телеграфировать о занятии Ней-Брейзаха; затем он пожелал, чтобы я повидался с англичанином Робертом Конигсби, просившим у него аудиенции в качестве корреспондента нескольких английских газет. Я должен был ему передать извинение канцлера, не имеющего времени исполнить его желание. Перед моим уходом канцлер сунул мне брюссельский листок «Indiscrète», говоря: «Вот чудесная моя биография, пресмешная. Вы сами увидите, как она правдива; хороши и картинки, украшающие текст; тут может и наша печать кое-чем поживиться». (Фридрих Великий тоже распространял в публике пасквили на свою особу.)
Я исполнил все возложенные на меня поручения и нашел в Конигсби милого, умного человека, хорошо к нам расположенного. Хотя у него жена немка, но он еще не освоился с нашим языком. По возвращении я принялся за «Indiscrète»; это и был тот самый листок, в котором, по словам самого графа, на него возводили неслыханные обвинения. Я многое записал, как образчик постыдных, грубых, бессмысленных клевет, служивших тогдашней французской прессе орудиями в борьбе с нами.
Там, между прочим, говорилось следующее о нашем канцлере: «Он бесцеремонно пользовался для личных целей дипломатическими сведениями о событиях, еще не имеющих совершиться, равно как и тем влиянием, которое эти достоверные известия должны были производить на биржу. Таким образом, заручась верным успехом, он заставлял играть в свою пользу на всех европейских биржах. Для этой постыдной спекуляции общественным доверием он стакнулся с господином Блеихредером, еврейским банкиром в Берлине. Алчность Бисмарка собрала, таким образом, колоссальную сумму денег, которую он поделил с этим банкиром и его наперсниками. Бисмарк, как вельможа с порочными наклонностями, нередко развлекал себя, обольщая красивых женщин. Как в юности, так и позже, он уводил не раз через своих агентов дочерей от отцов и жен от мужей».
«Таким же образом, была насильственно похищена в Бреславле одна дама поразительной красоты. Ее заключили куда-то вроде гарема, принадлежавшего графу, а когда она ему наскучила, он обратил свои алчные взоры на другую. Между прочим рассказывают еще такой случай: он влюбился в монахиню дивной красоты, велел ее увезти из монастыря и взял к себе в наложницы».
«В Берлине насчитывают до 50 незаконных его детей. Как бесчеловечный муж, он беспрестанно огорчает свою достойную жену и дает ей чувствовать всю тяжесть его горячего, злобного и грубого нрава. Забыв свое высокое положение, он обходится с ней, как истый прусский мужик, т. е. угощает ее плетью, что, впрочем, не составляет редкость в Германии. В 1867 году им овладел демон ревности, когда он услыхал, что одна из его наложниц поехала в театр с одним красивым русским аристократом. Годовое содержание, выдаваемое им этой г-же, давало ему неоспоримое право кулака, и вот он отправляется в ее ложу и тут же наделяет плечи красавицы жестокими ударами плетью. Когда этот огнедышащий дипломат находился в Париже в июне 1867 года, он часто вечером инкогнито, в статском платье, отправлялся на охоту за ночными красавицами; раз он был узнан в bal Mabille».
«Если же мы проследим частную жизнь Бисмарка, то увидим, что он постоянно обращает политику в сплетение интриг, и всю затаенную злобу, плутовские проделки и преступные домыслы, на которые только способен человек, все это он обратил на удовлетворение своего деспотического самолюбия. Так, в 1863 году он лишил свободы прусский народ; в 1864-м он разорил слабую Данию, отняв у нее два герцогства; в 1866-м он унизил Австрию, захватив у нее королевство Ганновер, курфюрство Гессен, герцогство Нассау, вольный город Франкфурт и страшно притеснял все эти земли; наконец, в 1870 году он задушил Францию и не хочет дать ей мира. Этот высокопоставленный надменный и грубый человек относится совершенно бесчувственно к судьбам народов и являет миру пример того, до чего может дойти утонченная жестокость».
«С 1867 года Пруссия ревностно готовилась к войне с Францией, которая предвиделась в будущем. Безостановочно шли вооружения и подготовлялись факторы, считавшиеся необходимыми условиями успеха. Бисмарк в качестве канцлера нового Северо-Германского союза, Роон – военного министра и Мольтке – начальника штаба армии помогали тайным планам честолюбивого деспота, царствовавшего в Пруссии. Мольтке и его офицеры генерального штаба лично объездили часть Франции, чтобы на месте убедиться, насколько точные сведения сообщаются о ней прусскому правительству. Они снимали планы французских крепостей, делали топографические съемки и чертежи моделей новых систем вооружения. (Сообщают просто невероятные вещи об этих разысканиях слабых и сильных сторон французской армии.) Целая туча шпионов из переодетых офицеров и статских, получавших хорошие деньги и имевших свою собственную иерархическую организацию, аккуратно сообщала Бисмарку и Роону результаты своих тщательных разведок обо всей Франции. Высшим чинам военного министерства и внутренних дел перепадали баснословные суммы за сообщение каких-нибудь подробностей, интересовавших прусскую армию. Только благодаря легионам предателей, пробравшихся в ряды французской армии, пруссаки могли так свободно маневрировать со своими войсками и в подавляющем численном превосходстве нападать на отдельные корпуса французской армии. Это тайное предательство во время кампании 1870 года мало-помалу обнаружилось, и у французского правительства нет недостатка в доказательствах подобного способа действий».
Можно ли лгать так бесстыдно и вместе с тем так грубо? Какова должна быть публика, у которой можно рассчитывать на доверие к такому лганью?
За завтраком рассказывалось, что Орлеан снова очищен нашими войсками и что баварцы с фон дер Танном находятся там лишь в числе 16 000, тогда как французов насчитывают 40 000 человек. «Нужды нет! – воскликнул Болен. – Послезавтра там будет принц Фридрих Карл, и галлов всех перекрошат!»
В этот день канцлер не закусывал с нами. Погода целый день была переменчивая: то хмурилась, то снова снег, то проясняло и показывалось солнце.
Вечером является Л. и сообщает известие, что писатель Гофф, с которым он прежде издавал вместе «Nouvelliste», отравился и завтра будут его хоронить. Он получил от коменданта приказание немедленно покинуть Версаль, так как он в своей корреспонденции с театра войны в «National-Zeitung» пишет, что в главной квартире английским корреспондентам отдают предпочтение перед немецкими; это, в сущности, было вполне верно, но только инициатива подобных отношений исходила не из rue de Provence.
Гофф – сын одного из выдающихся баварских депутатов и брат дюссельдорфского художника.
Он участвовал в «Hamburger Nachrichten» и в «Augsburger Allgemeine-Zeitung»; уже с 1864 года в его статьях начало преобладать патриотическое направление.
Герцог Баденский или его приближенные, к которым он обратился в данном случае, ответили ему, что ничего сделать для него не могут. Бедняк считал себя опозоренным и не мог пережить того, что вместе с отсылкой из армии он лишается и места корреспондента. Министр, которому сообщили об этом случае, заметил: «Это очень жалко, но он – дурак; обратился бы ко мне, я бы ему все устроил».
За чаем Гацфельд и Бисмарк-Болен высказали также свои сожаления по поводу Гоффа, а граф Сольмс хвалил его, как очень полезного для нас и благонамеренного человека. Болен по поводу этой истории с высылкой из армии сообщил нам подробности об эпизоде с достопочтенным О’Сэльваном. Канцлер, когда он в последний раз обедал у кронпринца, сидел за столом рядом с американцем и завел с ним разговор. При этом ему пришла в голову мысль, что его собеседник, носящий ирландское имя, политический шпион. Во время послеобеденного разговора с кронпринцем министр спросил его, кто рекомендовал ему американца. «Герцог Кобургский, – был ответ. – Он производит на меня впечатление шпиона и проходимца». «Вы не рассердитесь на меня, ваше королевское высочество, если я его арестую или вышлю его из армии?» – спросил министр. «Нисколько», – отвечал кронпринц, и затем Штиберу было приказано потщательнее разведать об американце. После отчета соглядатая Блюменталь передал О’Сэльвану приказание немедленно удалиться из армии и настоял на его исполнении, несмотря на то что, по уверениям жены американца, последний был нездоров. Болен, на которого в этот день почему-то напала откровенность, рассказал еще несколько анекдотов об обитателях Hôtel des Reservoirs и между прочим один о нашем министре. Мы сообщим его читателям, хотя нельзя не заподозрить, что рассказчик прибавил тут кое-что свое, или по крайней мере придал событию свою собственную окраску.
Впрочем, за что купишь, за то и продашь; граф же рассказал нам, что в Коммерси к министру явилась какая-то женщина и жаловалась на то, что арестовали мужа, который поколотил какого-то гусара. «Министр с приветливой миной на лице слушал рассказ женщины, – продолжал далее наш рассказчик, – и, когда она окончила, он так же приветливо ответил ей: «Успокойтесь, ваш муж, – при этом он очертил указательным пальцем вокруг шеи, – будет повешен в самом непродолжительном времени».
Новая империалистическая газета «Situation», несмотря на свои недостатки, оказывает также и услуги обществу. Все, что она говорит об участии в войне Гарибальди, вполне справедливо: «Присутствие Гамбетты в Туре снова возбудило там некоторые надежды. Полагают, что он вдохнет новую жизнь в организацию народной обороны.
«Однако же первый акт деятельности этого юного диктатора не производит особенно благоприятного впечатления. Этим первым актом было назначение Гарибальди командиром вольных стрелков восточной армии. Во Франции никогда серьезно не относились к Гарибальди. На него привыкли смотреть как на генерала из комической оперы, и теперь все с нетерпением спрашивают, неужели мы в самом деле пали так низко, что должны прибегать к помощи театральных героев политической сцены? Желая воодушевить народ и поднять дух его, мы вместе с тем наносим глубокое оскорбление его национальному самолюбию. Но не надобно забывать, что люди, собравшиеся управлять нами, – адвокаты – громкие речи, трескучие фразы, театральные эффекты для них первое дело. Мысль о назначении Гарибальди – один из эффектных и наиболее действительных коньков оратора в речах; в устах же правительства народной обороны это назначение должно служить символом соединения свободных народов, республиканской солидарности. Может быть, впрочем, господину Гамбетте не понравились манеры Гарибальди, и он, находя неудобным для себя его пребывание в Туре, боясь, как бы Гарибальди не сделался источником недоразумений, счел более удобным отделаться от него и спровадил его на восток. Подлежит сильному сомнению, что он сделает там что-либо путное; но люди, у которых на все есть готовые аргументы, говорят: «Имя его пользуется всеобщей известностью» – и полагают, что этим уже сказано все.
Суббота, 12-го ноября. Утро ясное. Военная музыка играла сегодня в честь канцлера. После меня позвали к нему за получением приказаний. Я собираю сведения о прошлом Клюзерэ, старого солдата революции, которому поручено организовать военные силы возникающей теперь южной лиги, и свожу счет французским пленным, попавшим в наши руки после сдачи Меца.
Уже около 14 000 человек сдалось нам в Шлетштаде, форте Мортье, Нюбризахе, Ле-Бурже, Монтро, Вердене и после разных мелких стычек. Их всех уже препроводили в Германию.
За завтраком появился недавно приехавший Вольманн. За обедом у нас присутствовал в качестве гостя доктор Лауер. Подавали, между прочим, копченых мурен, померанских гусей, изобретение Бухера, который, в свою очередь, получил их в виде дружеского подарка от Родбертуса; потом магдебургскую кислую капусту и лейпцигских жаворонков – тоже все, разумеется, гостинцы из отечества. За рыбой вызвали из-за стола министра. Он вышел через зал и через дверь, ведущую на лужайку во дворе, вернулся в столовую, сопровождаемый офицером с бородой в прусском мундире. Через столовую они прошли в зал. Утверждают, что этот офицер – великий герцог Баденский. Спустя минут десять министр опять присоединился к нам. Зашел разговор о прежнем министре Арниме-Бойценбурге. Канцлер сказал, что знал его в Аахене и характеризовал его как человека светского, любезного, но не способного ни к какой упорной и энергической деятельности. «Это гуттаперчевый мячик, – характеризовал он его, – он подпрыгнет раз, другой, третий, но с каждым разом все слабее, наконец совсем остановится. Сперва поддерживает он одно мнение, но ослабляет его собственными возражениями; против прежних возражений у него являются новые аргументы, пока наконец он не побьет самого себя вконец». Дельбрюк хвалил своего зятя, считая его человеком образованным, талантливым, но пассивным, лишенным инициативы. «Да, – подтвердил канцлер, – в нем мало перцу. Потом прибавил: – Вообще у него хорошая голова; но донесения его – сегодня одно, завтра другое, часто в один и тот же день два противоположных сообщения – на него положиться невозможно». С вопроса о недостатке честолюбия в Арниме разговор перешел на ордена и чины. При этом Абекен, большой знаток и любитель по этой части, все время молчавший с сосредоточенным видом, опустив «очи долу» и лишь изредка украдкой взглядывавший на министра, принял живое участие в общей беседе.
«Первый орден, который я получил, – рассказывал министр, – была медаль за спасение погибавших. Мне дали ее за то, что я вытащил из воды лакея. Чин превосходительства получил только в Кенигсберге в 1861 году, – продолжал он. – Во Франкфурте я был, конечно, превосходительством, но превосходительством германского союза, а не прусским. Немецкие князья решили тогда, что всякий посол бундестага должен носить титул превосходительства. Впрочем, я и не хлопотал особенно о чинах, не придавал им особенного значения – я и без того был достаточно высокопоставленным лицом».
После обеда закончил статью для Л. и приготовил другую к печати.
Воскресенье, 13-го ноября. Министр сегодня встал необыкновенно поздно и не пошел в церковь. Как кажется, он не в духе еще со вчерашнего вечера. Закончив обычные утренние занятия, я отправился в la Celle Saint-Cloud, где занимал форпост Г. с своим первым лейтенантом, на тот пункт, откуда виден Мон-Валерьян, который мы тщетно разыскивали в прошлый раз. При этом мне приходилось делать обходы и избегать просветов между деревьями, так как меня могли заметить из форта, и уже по этому направлению стреляли оттуда несколько раз.
Форт отсюда сквозь зеленую пелену леса представляет собой очень грозный вид. Среди лагеря и бивуака ружья в козлах, новые деревянные бараки, как громадные собачьи конуры, выглядывают из-за стволов деревьев, дальше белеют палатки, и повсюду непролазная грязь.
Около красивого, окруженного зеленью домика, к которому вел мостик из оконных ставней и досок для перехода через грязь, я встретил первого лейтенанта Кр., который провел меня к Г. Последний жил в квартире, о которой он пламенно мечтал еще три месяца назад, вместе с двумя офицерами, из которых младший выказал громадный талант в Шенэ, канканируя за даму, и с военным врачом. Общество жило в тоске императрицы, и я застал их в комнате направо от входа за обедом, причем мне Г. сказал, что они уже несколько недель не знают другой животной пищи, кроме баранины. Перед домом стоят в пирамидах ружья 6-й роты 46-го полка, а рядом, на выломанных дверях и ставнях, разложили солдаты свои вещи, чтобы не пачкать их в грязи. Двери, из которых сделан помост через грязь, местами позолочены. Большая зала полна солдатами польского происхождения: они лежат на соломе и курят отвратительный табак. Первый лейтенант Г. ожидал меня, стоя перед софой в комнате.
Сегодня он для себя сделал неприятное открытие.
Местность оказалась не вполне безопасной от неприятельских выстрелов. Мон-Валерьян посылает свои снаряды по направлению к Лувесьену как раз через тот холм, на котором стоит киоск Евгении; было положительным чудом, что французы не послали в него до сих пор ни одной гранаты. Пока мы сидели за бутылкой, было сделано два выстрела с форта. Встав из-за стола, Г. повел нас на обсервационный пункт аванпоста среди высоких каштановых деревьев. Отсюда проклятый «Baldrian», находившийся по ту сторону лесистого спуска, виден простым глазом до такой степени ясно, что можно сосчитать все в больших зданиях. Над Парижем стоит черное облако дыма – не пожар ли там? Нам советуют быть осторожнее. Мы должны, по возможности, прятаться за стволами деревьев, а через открытые места переходить по выкопанным ровикам. Нам сообщают, что передовые роты наши стоят внизу по опушке леса, шагов на 800 впереди нас, а за ними – вторая цепь часовых. Киоск страстно ждет начала бомбардировки и не понимает, почему она не начата до сих пор; по мнению его обитателей, тут замешивается влияние женщин. Я опасаюсь, что киоск прав.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.