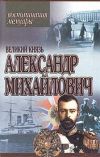Текст книги "Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 2"

Автор книги: Николай Любимов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 39 страниц)
Мои дерзкие, непривычные для ее слуха суждения оказывали на нее двоякое действие: они и пугали, и притягивали ее ко мне – притягивали опять-таки как нечто для нее совершенно новое, ибо до сих пор она привыкла думать, что в России есть только два пути: православие или безбожие. К тому же она, видимо, поставила перед собой цель: вернуть меня в православное лоно.
Бывало, гуляем мы с ней по Новгородскому проспекту, и я, чтобы подразнить ее, так и сыплю непочтительными выражениями по адресу главы церкви и уверяю, что предпочитаю «обновленцев» «тихоновцам», потому что обновленческий митрополит Введенский по крайней мере проповедует слово Божие, а «тихоновцы» как воды в рот набрали. Краем глаза я вижу, что она бросает на меня испытующе-испуганно-возмущенные взгляды, и продолжаю разыгрывать из себя еретика. Да нет, я и в самом деле был тогда еретиком – моя рисовка перед ней заключалась лишь в вызывающей резкости выражений.
Как-то раз она мне сказала:
– Тебе еще предстоит пережить много тяжелого, и ты непременно вернешься к церкви. Вот увидишь.
Вещие ее слова сбылись уже через полгода…
…Почувствовав, что хватил через край, я менял тон и устремлялся туда, куда нам было с ней по пути, и тогда я ловил на себе иной ее взгляд – взгляд, лучившийся успокоенной благодарностью.
Я часто доказывал ей, что Бог сотворил мир не для того, чтобы человек отворачивался от его красоты. Я доказывал ей, что величайшие произведения искусства созданы по произволению и внушению Божию и не наслаждаться ими – великий грех, ибо это значит отвергать Божьи дары, пренебрегать и гнушаться ими. Она соглашалась, но прибавляла, что ей это не нужно, что ей довольно того, что у нее есть, что ее жизнь полна до краев. Она уверяла меня, что и тюрьма, и этап, и ссылка – это были для нее события радостные, как ни болела у нее душа за родных, и я ей верил, ибо она была сама правдивость.
«Блажени естё, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол, на вы лжуще Мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех».
И все же тот мир, который я своей неумелой рукой открывал перед ней, манил ее. Когда я говорил с ней о литературе или о театре, она слушала меня затаив дыхание и – я ощущал это всем существом – сильнее привязывалась ко мне.
Жила она на окраине, на Обводном канале, в комнатушке, куда нужно было проходить через комнату хозяйки.
Придя к ней как-то вечером по ее приглашению, я неожиданно не только для нее, но и для себя самого, обрушил на нее восторженный ливень слов – и так же внезапно стих.
– Я люблю тебя больше, чем родного брата, поверь мне, – с усилием заговорила она. – Дорог ты мне бесконечно, но быть твоей женой я не могу: когда моя мать умерла, я дала обет, что никогда не выйду замуж.
Последние слова она, произнесла, как мне послышалось, с грустью.
Я долго целовал ее лицо и руки. Она не сопротивлялась. Потом вдруг со строгой полуулыбкой спросила:
– Тебе кто позволил меня целовать?..
Больше в тот вечер мы не сказали друг другу ни слова. Она стояла не шевелясь, а я целовал ее со всей нерастраченной в мимолетных увлечениях нежностью, с чувством, сложность которого мне стала ясна тридцатилетие спустя. Многое было в этом чувстве: и тяга к ней как к старшей сестре, которой мне всегда не хватало (именно сестры, а не брата; мне на протяжении многих лет детства и юности снился один и тот же блаженный сон: у меня есть старшая, тихая и любящая, сестренка), и радость обретения друга, и восхищение ее девичьей прелестью, уже свободной от угловатости, уже сочетавшейся с женственной мягкостью движений.
Расстались мы с ней далеко за полночь. Я шел от нее в кромешной тьме по буеракам, и, когда споткнулся, с носа у меня слетели очки в массивной роговой оправе. Так я их и не нашел, сколько ни шарил, и, махнув рукой, зашагал дальше.
Ее ответ нимало меня не обескуражил. Юношеская моя самонадеянность нашептывала мне, что из борьбы с ее монашеством в миру победителем выйду я. Но она все чаще заводила разговор о том, что родные зовут ее в Москву и что ее долг быть с ними. Я упросил ее отдалить срок отъезда. «Лишь бы оттянуть, – говорил я себе. – Важен каждый лишний день. Потом ей будет уже невмочь от меня уехать».
Она обещала, что уедет только после Нового года.
7 ноября, когда я провожал ее до дому, мы с ней из-за пустяков повздорили. Когда же мы остановились неподалеку от ее дома, спор перешел в ссору. Я попытался склонить ее на мировую, Она была непреклонна.
– Прощай! – отрывисто сказала она и направилась к калитке.
Я трижды окликнул ее. В ответ на третий мой зов брякнула щеколда.
…Придя домой, я повалился на кровать и заснул мертвым сном. Если со мной накануне что-то стряслось, я просыпаюсь рано-рано, словно от укола иглы в сердце и в мозг. Так было и на этот раз. Первая мысль: «Разрыв с ней. Как же я теперь буду жить?»
У меня был билет на утренний спектакль в Большом драматическом театре. Я все-таки решил пойти – в надежде хоть немного рассеяться. Не тут-то было. Помню, что шла пьеса Киршона «Чудесный сплав». Помню, что актеры и актрисы двигались, жестикулировали и ужасно глупо острили. Я смотрел на них как сквозь сетку дождя. От ржанья в зрительном зале у меня стучало в висках. Я ни на что не надеялся. Я думал об одном: «Как я буду без нее жить?»
Когда я пришел домой, Марфа Ивановна сказала с игривой, понимающей усмешкой:
– А вам письмо!
– От кого?
– Наверно, от Душеньки, Фрося принесла. (Фрося снимала угол в комнате у ее хозяйки.)
Письмо было длинное. Оно содержало в себе много мягких упреков, но лейтмотив письма был: «Вернись!» Она будет ждать меня три вечера подряд. Если я не приду, она поймет, что я решил с ней порвать, и больше о себе не напомнит.
Я опрометью бросился на Обводный канал. И когда я вошел, я увидел на ее лице то же растерянно-сияющее выражение, с каким она впервые слушала мои слова о любви.
Вот тут бы мне и воспользоваться ее поражением в борьбе с самою собой и потребовать: «Ты видишь – я пришел, я примчался по первому твоему зову – не покидай же меня…»
Но мне было не до условий. Я целовал ее и шептал:
– Ну вот мы и снова вместе!
Прошло несколько дней – и она опять заговорила о том, что родные зовут ее все настойчивее и что после Нового года она непременно должна уехать, Я испытывал и испытываю упоение в бою только со словом. Если мое чувство наталкивалось на внутреннее сопротивление той, которая чем-то волновала меня, я отходил без боя. И я уже и не отговаривал ее – я только старался надышаться перед смертью: все свободное время был с ней.
Тихо и грустно встретили мы Новый год.
А 2-го января 35-го года Марфа Ивановна и я проводили ее на поезд. Проводы выпали из моей памяти, изменившей мне на этот вечер.
Утром, когда я проснулся, мне хотелось задрать голову и выть волчьим воем.
Скоро ко мне приехала погостить мама. Я рассказал ей все и попросил на обратном пути зайти к Евдокии Петровне и передать, что прошу ее вернуться. Мама обещала. Я послал с ней письмо. Однако надеялся я не столько на мое эпистолярное красноречие, сколько на уменье моей матери говорить с людьми.
После встречи с Евдокией Петровной у мамы сложилось впечатление, что она любит меня не только любовью сестры, – именно потому и бежала она от меня из Архангельска. Евдокия Петровна сказала моей матери, что сейчас никак не может оставить родных, чтобы я потерпел до лета. Моя мать не скрыла от меня, что, по ее глубокому убеждению, Евдокия Петровна ко мне не вернется, но постаралась меня утешить. Она рассуждала так: что Бог ни делает, все – к лучшему. Она смотрит в будущее. Я расстанусь с Архангельском, снова буду жить в Москве, войду в прежний круг друзей и знакомых. Как себя буду чувствовать я, введя в этот круг Евдокию Петровну, и как себя будет чувствовать в этом кругу она? Единомышленница Евдокии Петровны, моя мать не одобряла ее замыканья в хотя и прекрасный, но малый мир, не одобряла ее схимы. И ей представлялось несомненным, что даже если Евдокия Петровна соединит свою жизнь с моей, она не захочет сломать монастырскую стену, какой она обнесла свою жизнь. «Как бы вам потом не было друг с другом тяжело! – писала мне мать. – Ваши жизни, сблизившись, стукнутся одна об другую и разобьются. Не говоря о том, как мне жаль было бы тебя, – это тебе должно быть понятно без слов, – мне было бы очень жаль и ее».
Евдокия Петровна написала мне примерно то же, что говорила моей матери. Я оборвал переписку.
…В начале 37-го года я шел утром по Бородинскому мосту на Киевский вокзал купить билет до Калуги. Гляжу: навстречу мне Евдокия Петровна! Она возвращалась от ранней обедни из тогда еще не снесенного храма в Дорогомилове. Постояли, поговорили, осведомились, как поживаем, – и разошлись.
Довлеет дневи злоба его, А тогда злоба ежовская была уже в своем полном, дымном, чадном и смрадном разгаре. И брала свое молодость. Молодость горяча сверху, внутри у нее холодок. Молодость убеждена, что все самое радужное у нее впереди, и ей некогда и неохота оглянуться назад.
И остались у меня на память о Душеньке чудом сохранившиеся два ее подарка: акафист святителю Николаю и Евангелие на церковно-славянском языке, в котором не стерлись карандашные ее пометочки (она отмечала двенадцать Евангелий, читаемых в Великий четверг) и в котором лежат стебельки от засушенных ею цветов да зеленая лента – закладка.
…После убийства Кирова (1 декабря 34-го года) адмам пришлось туго. Местным властям необходимо было проявлять особенно высокую бдительность: на одной с Зиновьевым и Каменевым скамье подсудимых неожиданно очутился прокурор Северного края Сахов и вместе с Зиновьевым, Гертиком и Куклиным получил больше всех остальных, фигурировавших на этом процессе: десять лет тюремного заключения. Тон задавали центральные газеты, «Ату!» прокатилось по всей стране. Печатавшиеся в центральных газетах списки расстрелянных в четырех столицах (Москве, Ленинграде, Киеве и Минске) возвращали нас к эпохе военного коммунизма и красного террора. «Правда Севера» старалась не отстать от других газет, каждый день вопила о повышении бдительности и «подавала сигналы»: где-то «окопались» троцкисты, где-то «засели» «чуждые элементы», где-то «орудуют» «кулацкие недобитки». На кого будет направлен главный удар – это очень скоро стало ясно уже в Архангельске. Только успел прогреметь в Смольном выстрел Николаева и в газетах было опубликовано лишь краткое сообщение о «злодейском убийстве» и о том, что убийца задержан, а в учреждениях уже начались митинги, на которых громили «озверелую банду троцкистов». В первую очередь пострадали троцкисты, но коммунистический террор обладает свойством задевать все слои населения. «Чистка» Ленинграда приобрела размах широчайший. В число выселявшихся в трехдневный срок попадали робко доживавшие свой век старухи с дворянскими фамилиями. Тогда я склонен был думать, – и далеко не я один, – что убийство Кирова – дело рук НКВД. Я считал, что в этом провокационном убийстве Сталин не повинен. Я рассуждал так: летом судебную коллегию ОГПУ все-таки упразднили. Особому совещанию при НКВД не дали права расстреливать и приговаривать к заключению в лагеря и к ссылке более чем на пять лет; словом, его урезали в правах, и наркомвнудельская верхушка задумала убить Кирова, чтобы доказать Сталину, какого он дал маху, вот, мол, отпустил вожжи – и что вышло? Контрреволюция подняла голову… Между московскими и ленинградскими гепеушниками давно уже шла грызня. Убийство Кирова – удобный случай прищучить ленинградцев: дескать, прошляпили, недоглядели. И точно: начальник Управления НКВД по ленинградской области Медведь и его присные были арестованы и 23 января 35-го года Военной Коллегией Верхсуда СССР под председательством Ульриха приговорены к заключению в концлагерь на разные сроки. Чистить Ленинград были наряжены первый заместитель Ягода Агранов, а от ЦК – будущий Наркомвнудел Ежов. Временное исполнение обязанностей начальника Управления НКВД по Ленинградской области было возложено на того же Агранова («Известия» от 24 января 1935 года). Все это мы расценивали как торжество Ягода. Неунывающие россияне сочинили по сему случаю анекдотцы. Какая разница между лесом и НКВД? В лесу медведь ест ягоду, а в НКВД Ягода съел Медведя. Будто бы существует постановление ЦИК’а о переименовании созвездий Большой и Малой Медведицы в созвездия Большой и Малой Ягодицы. Я не знал одного существенного обстоятельства: в 34-м году при выборах в ЦК на XVII съезде партии Киров получил больше голосов, чем Сталин. Что у Сталина тут же родилась ослепительно жуткая мысль: одним махом всех убивахом, что Кирова застрелили по его тайному приказанию, что последовавшие за убийством казни, суды и аресты представляли собой лишь прелюдию к ежовщине, что будут истреблены все сделавшие свое дело «мавры» и почти все делегаты XVII съезда – на это у нас открылись глаза лишь много лет спустя.
В Архангельске прошел слух, что кое-кого из «пятьдесятвось-мушников» наладили из Архангельска в глубь Северного края. Последовали массовые увольнения ссыльных. Это губительно сказывалось на науке, технике, экономике, ибо культура Архангельска с царских времен, как на сваях, держалась на ссыльных. Но об этом никто не думал.
Бдительность» бдительность превыше всего! Не проявишь, «проглядишь» – исключат из партии, снимут с работы. Арестовали и осудили заведующего научной библиотекой за то, что он не снял с выставки книгу Луначарского» в которой была цитата из Троцкого, о чем заведующий и не подозревал. Арестовали группу студентов медицинского института.
Осенью 34-го года один осведомленный человек, мой соквартирант, говорил мне: «К Новому году здесь ни одного ссыльного не останется – всех освободят. К тому идет». А тут стали поступать пополнения из разных городов. Нашего адмссыльного полку прибывало. В Архангельске это не могло не броситься в глаза. Все волей-неволей толклись на небольшом участке улицы Павлина Виноградова, и каждое новое, мало-мальски примечательное лицо обращало на себя внимание.
Я долго не ложился спать, время от времени подходил к окну и вглядывался в ночь. Слева, на перекрестке, освещенный уличным фонарем, стоял постовой милиционер. Мне чудилось, что он не отрываясь смотрит в мое окно. Все несноснее были для меня дни отметки. К душевным тягостям примешалось безденежье. Сперва меня вывели из штата, потом отказали и во внештатной работе. Я перестал брать в столовой первое блюдо, потом лишил себя второго, брал только сырники, потом и вовсе перестал обедать. Просить денег у матери не хватало решимости. И начался для меня четвертый круг голодухи. По милости Ленина, за добра ума в 18-м году в стране, которую мировая война и без того привела в упадок, запретившего частную торговлю, но, впрочем, в 21-м все-таки пошедшего на попятный и объявившего НЭП, я голодал в детстве. По милости другого рачительного хозяина, Сталина, с его идиотской коллективизацией, недоедал студентом. Недолго голодал в тюрьме. Сколько продлится голодуха в ссылке?.. Чай, сахар, хлеб. «Бывали дни веселые», когда я ходил по улицам, шаря взглядом у себя под ногами: авось на мое счастье кто-нибудь обронил рубль, на худой конец – хоть двугривенный. Был день, когда я, красный от стыда, попросил в булочной свесить мне сто граммов хлеба. Но в этот же день неожиданно получил перевод из Москвы: это, сложившись, прислали мне денег Маргарита Николаевна, Татьяна Львовна и «Карпыч». Присланных денег хватило не надолго – цены на продукты в Архангельске были значительно выше московских. Я задолжал за квартиру. Наконец не выдержал – написал моим ковинским теткам письмо с просьбой о «единовременном пособии» в связи с тем, что я вынужден был оставить работу. Тетки стали посылать мне денег ежемесячно, и обстоятельства мои поправились.
Чтобы не опуститься, я каждый день, как на службу, ездил, а чаще ходил заниматься в читальный зал и восполнял пробелы, коих у меня по милости Института, пичкавшего нас марксизмом-ленинизмом за счет науки, оказалось немало.
Я пристрастился к русской поэзии XVIII века с диковинной мощью ее красок и звуков, постиг очарование ее одических и песенных ритмов. Я надолго припал к этим истокам. Я твердил себе стихи Сумарокова не только потому, что они поразили меня предвосхищением сологубовских мотивов и ритмов, но и потому, что они отвечали моему настроению – настроению человека сталинской эпохи, уставшего от лжи и от злобы:
Лжи на свете нет меры.
То ж лукавство да то ж,
Где ни ступишь, тут ложь;
Скроюсь вечно в пещеры,
В мир не помня дверей,
Люди зляе зверей.
Я полюбил державинское приютное и уютное, переливчатое великолепие. Я пристрастился к поэтам пушкинской поры. Багрицкий указал мне на горькую мудрость Баратынского. Теперь я полюбил милую идилличность Дельвига. Я полюбил игристую, ликующую удаль Языкова. И особенно я полюбил Вяземского: и его умение с такой силой столкнуть «далековатые» слова, что из них брызжут снопы искр, и его юношески разымчивый «Первый снег», и единственные в своей строго продуманной безнадежности Senilia.
Я успевал просматривать московские и ленинградские журналы: «Новый мир», «Красную новь», «Знамя», «Октябрь», «Звезду», «Литературный современник», – впрочем, просмотр этот был уже теперь беглым: литература мельчала на глазах, – и две газеты: московскую «Литературную газету» и «Литературный Ленинград». Читал те номера послереволюционных журналов за истекшие годы, которые в свое время ускользнули от моего внимания. И вот во втором номере «Красной нови» за 1929 год я впервые прочел рассказ Вс. Иванова «Барабанщики и фокусник Матцуками». Несмотря на фантастическую окраску, которую любил придавать своим вещам поздний Вс. Иванов, а вернее – благодаря ей, со страниц рассказа на меня глянула тупая и страшная харя советской жизни. В одном из городов бесперечь переименовывают улицы в честь умерших граждан. В другом городе любят устраивать праздники. «Наводнение – они праздник устраивают. Десятое, говорят, по счету наводнение!» Еще в одном городе на заседаньях «буржуев признают друг в друге и немедленно друг на друга доносят». А нищий на площади, который «еле ноги передвигает, потому что никто ему не подает», «сам с собой заседает и сам на себя доносит».
В страсти к переименованию улиц и городов сказывается не только равнодушие к отечественной истории, к своему прошлому, но и неуверенность в своем земном бессмертии: не переименуешь, как бы завтра не забыли какого-нибудь «вождя», «героя гражданской войны» или «строителя пятилетки». А донос – это альфа и омега ленинско-сталинского государственного устройства. На нем основаны раскулачивание, чистки партии и «советского аппарата». На нем зиждется деятельность «Гепеужаса». Несчетное число ставящихся на правеж, а потом направляемых в «централы», на каторгу и на поселение – это жертвы доносов, поступающих от соквартирантов, метящих на твою площадь, от сослуживцев, зарящихся на твою должность, от односельчан, позавидовавших трудоемкому твоему зажитку.
Вс. Иванов острее, чем кто-либо из советских писателей, почувствовал чумное дыхание доноса. Номер с «Барабанщиками» не конфисковали: тихий голос рассказчика все еще заглушали колеса «Бронепоезда 14–69». Я тут же сделал выписки из «Барабанщиков» и пронес этот рассказ в своей памяти через всю жизнь. И первое, о чем я заговорил с Всеволодом Вячеславовичем, в 1959 году попав к нему на Переделкинскую дачу, – это о «Барабанщиках и фокуснике Матцуками».
…Выйдя из читального зала архангельской научной библиотеки, я вспомнил лето 24-го года… Я растянулся в саду на траве и под знойное гудение пчел, позабыв о надкусанной коричневке, читаю в «Красной нови» повесть неведомого мне автора Всеволода Иванова «Бронепоезд 14–69». И вот что любопытно: меня, двенадцатилетнего мальчика, сильнее всего захватили не фигуры партизан, не драматические положения повести, иные из коих мне, уже взрослому, показались явно неправдоподобными (например, остановка бронепоезда, да еще в условиях войны, из-за Син-Бин-У, легшего на рельсы), а лирические отступления, проникнутые радостью жизни, любовью к ней, которую Вс. Иванов бережно, как огонек свечи – в Вербную субботу, проносит сквозь огонь и кровь: «Хорошо, хорошо – всем верить… и любить». Когда я читал «Бронепоезд», я проникался убежденностью автора, что лязгу буферов, грохоту снарядов и визгу пуль не заглушить, как сказано у него же в «Цветных ветрах», голоса «зеленого, плодородного и светлого ветра», как запаху крови и стали не заглушить призывный запах земли: «Пахнет земля – из-за стали слышно». И пахнет она, – утверждает Вс. Иванов, – «радостно и благословляюще». Этот гимн радости я услышал потом и в других произведениях Вс. Иванова: «Все пройдет мимо, но цветом неохватным расцветает за горем радость. Каждую весну трава! Каждую осень летят журавли…» («Отец и мать»). Но гимн этот скоро затих.
На первых порах Всеволода Иванова, как и Есенина, даже как Клюева, взметнула стихия крестьянской борьбы за землю, но уже в «Бронепоезде» корявый мужичонка замечает, что за таким мудреным словом, как «интернасынал», «ничего доброго не найдешь. Слово должно быть простое, скажем – пашня… Хорошее слово!» И уже на первых порах Вс. Иванов разглядел бесчеловечную и коварную природу Октябрьской революции. О кровожадности и лживости большевизма написаны произведения Сергеева-Ценского, с которыми он выступил в 20-х годах. Но Сергеев-Ценский был к тому времени сложившимся писателем, с целым тюком жизненного опыта за плечами. Какую же чуткость надо было иметь птенцу, только-только расправлявшему крылья, чтобы в стихии, которая тогда еще была чем-то ему родственна, уловить ее пагубность! «Чего народу жалеть? Новый вырастет», – говорит в «Бронепоезде» Знобов. «Ничего нет легче человека… убить», – признается Антон из «Партизан». «Человека – что его, его всегда сделать можно, – вторит ему Селезнев. – А ведь это, заметь, еще “хо-орошие парни”»! Коммунист Никитин из «Партизан» открыто признает необходимость удовлетворения кровожадных инстинктов человека: «Звери все, зверям – крови!.. Понял? Я даю кровь». Да ведь это же развитие и претворение в жизнь ленинского лозунга: «Грабьте награбленное»! И если Каллистрат Ефимович из «Цветных ветров» увещает стального большевика Никитина: «Любовь надо для люду. Без любви не проживут…» – то Никитин отзывается на это отрывисто, точно камни кидает: «Не надо любви…» «Не над-да…» – подтверждает серб Микеш. «Без любви вечно воевать будут», – замечает прозорливый Каллистрат Ефимович.
Профессор из «Возвращения Будды» размышляет: «Будет же что-нибудь выдвинуто в противовес этой неорганизованной тьме, этому мраку и буре. Неужели же кровь и смерть?.. Генералы будут вешать, расстреливать… коммунистов… Коммунисты будут восставать и расстреливать генералов… для чего же нам даны сердца?» Правда, Василий Витальевич – прекраснодушный интеллигент. Но и мужика-партизана Вершинина из «Бронепоезда» еще в разгар гражданской войны начинает подтачивать червь сомнения. Конечная цель революции ему не видна. «Вершинин насупился и, строго глядя куда-то подле китайца, сказал: “Беспорядку много. Народу сколь тратится, а все в туман… Пошто это, а?”» Но и китаец нисиво, нисиво не зынает. И Вершинин с досадой кричит: «Ну вас к черту!.. Никто не знат, не понимат… разбудили, побежали, а дале что?» И, уже обращаясь к Знобову, настойчиво допытывается: «Кабы настоящие ключи были. А вдруг, паре, не теми ключьми двери-то открыть надо»[19]19
Курсив всюду мой.
[Закрыть].
А дале что? Дале самоуверенный, казалось бы, раз навсегда решивший все мировые вопросы Гафир, и тот доходит до сознания, что «не все можно понять и выучить в партшколе, хотя бы и была она республиканского масштаба» («Гафир и Мариам».) Эпиграфом к циклу рассказов Вс. Иванова «Тайное тайных» можно поставить слова из «Гафира и Мариам»: «Мало ли приходится страдать человеку в столь социально-неустроенное время». И всюду, даже на буддийском Востоке, – «страсти роковые». И от революционной судьбы, обернувшейся стопами, ворохами, горами бумаг-доносов, нацарапанных огрызком многажды слюнявившегося карандаша или же с кропотливым, смачным злорадством выведенных безупречным писцовым почерком, от этой судьбы советскому человеку, как бы высоко он ни залетел, в какой бы норке он ни хоронился, защиты нет. В «Барабанщиках и фокуснике Матцуками» Вс. Иванов подвел итоговую черту своим наблюдениям и размышлениям о ходе событий в послеоктябрьской России.
Я штудировал и конспектировал теоретиков литературы» с наибольшей основательностью – труды Томашевского и Жирмунского.
Придя к убеждению, что не единой формой жив человек в искусстве, я накинулся на русских мыслителей минувшего и нынешнего века. «Дневник писателя», статьи и вышедшие к тому времени два тома писем Достоевского я прочел с увлечением неотрывным. Я жил даже мелкими событиями русской и европейской жизни, на которые откликался Достоевский. Я жил двойной жизнью: жизнью его современника и сегодняшним днем, и дальнозоркость, и глубозоркость Достоевского меня ошеломляла. Расстояние, – ведь он заглядывал в будущее России еще до взрыва бомбы на Екатерининском канале, – скрадывало от него лишь некоторые подробности; самое главное он разглядел. Но даже влюбленный в него Волынский, разбирая «Бесов», упрекал его в сгущении красок. Впрочем, Волынский писал книгу о Достоевском до революции. Теперь нам виднее.
Я прочел все историко-литературные и публицистические работы Мережковского, опубликованные им до революции, вплоть до его восторженного отклика на «Детство» Горького («Две правды русской жизни»), показывавшего, с каким сокрушительным напором сметает настоящее явление искусства перегородки в тех случаях, когда эти перегородки разделяют людей, искусству преданных и для искусства рожденных. По молодости лет я не обращал внимания на белые нитки в шитье Мережковского, на его напряженные позы, как будто вот он сейчас кинется с кручи, меж тем как ему предстоит всего-навсего переступить через лужицу; на однобокость и крайность некоторых его суждений; на то, что он, придумав схему, пытается втиснуть в нее историю и современность; на то, что его слог кое-где блещет блеском мишурным. Я был захвачен водоворотом его мыслей. Я был пленен тем, как мастерски пишет он о мастерах слова. Прочитав его «Гоголя», я несколько дней был как шальной.
Мой новый знакомый, помогший мне довыработать мировоззрение, поощрял мое влечение к русским идеалистам – философам и критикам. Звали его Владимир Александрович Окатов.
Меж нами ничто не рождало споров, но все влекло к размышлению. Мы с ним исповедовали единую веру. Мы ненавидели большевистскую тиранию. Мы сходились с ним в литературных вкусах. Наш любимый писатель был Достоевский. Окатов утончал во мне понимание и чувство России, углублял мою любовь к ней. Он укреплял во мне сознание недосягаемого величия русской литературы – сознание, которое я унаследовал от отца и матери: мой отец признавался, что даже произведения первостепенных иностранных писателей оставляют в нем менее сильное впечатление, чем произведения второстепенных русских.
Мы говорили с Окатовым об эстетике православия. Он указывал мне на самородную красоту русской мысли. Давал мне читать Аполлона Григорьева, «Три разговора» Владимира Соловьева с их апокалиптически грозными прозрениями судьбы человечества, в наше время уже начинающими отчасти сбываться, Розанова. Упиваясь дневниковой интимной непосредственностью розановских интонаций в «Опавших листьях», я думал: «Какое счастье, что Розанов был своим собственным Эккерманом!» Как по-достоевски точно представлял себе Розанов социализм: «Социализм пройдет как дисгармония. Всякая дисгармония пройдет, А социализм – буря, дождь, ветер… Взойдет солнышко и осушит все, И будут говорить, “Неужели он… был? И барабанил в окна град?.. – О да! И еще скольких этот град побил!1”» «Революция… будет все расти в раздражение; во никогда не настанет в ней того окончательного, когда человек говорит: “довольно! я – счастлив! Сегодня так хорошо, что не надо завтра”… Революция всегда будет с мукою и будет надеяться только на “завтра”, И всякое “завтра” ее обманет и перейдет в “после-завтра”, В революции нет радости. И не будет»[20]20
Курсив везде В. 3. Розанова. «Опавшие листья», короб первый.
[Закрыть].
«Битой посуды будет много», во «нового здания не выстроится»,
…………………………………………………………………………………………..
«…Новое здание повалится в третьем-четвертом поколении»[21]21
«Уединенное».
[Закрыть]. Даже будущее советской литературы разглядел он, точно в полевой бинокль:
25-летний юбилей Корецкого. Приглашение, Не пошел. Справили. Отчет в «Нов. Вр.»
Кто знает поэта Корецкого? Никто. Издателя-редактора? Кто у него сотрудничает?
Очевидно, гг, писатели идут «поздравлять» всюду, где поставлена семга на стол.
Бедные писатели. Я боюсь, правительство когда-нибудь догадается вместо «всех свобод» поставить густые ряды столов с «беломорскою семгою». «Большинство голосов» придет, придет «равное, тайное, всеобщее голосование». Откушают. Поблагодарят. И я не знаю, удобно ли будет после «благодарности» требовать чего-нибудь… Иловайский не предвидел, что великая ставка свободы в России зависит от многих причин и еще от одной маленькой: улова семги в Белом море[22]22
«Опавшие листья», короб второй.
[Закрыть].
Как близки мне были уже тогда мысли Розанова о религии:
…при всех порицаниях как страшно остаться без попов. Они содержат вечную возможность слез… все-таки попы мне всего милей на свете…» «Необыкновенная сила церкви зависит (между прочим) от того, что прибегают к ней люди в самые лучшие моменты своей души и жизни: страдальческие, горестные, страшные, патетические. «Кто-нибудь умер», «сам умираю». Тут человек совсем другой, чем всю жизнь. И вот этот «совсем другой» и «лучший» несет сюда свои крики, свои стоны, – слезы, мольбы. Как же этому месту, «куда все снесено», не сделаться было наилучшим и наимогущественнейшим.
Розанов писал эти слова, еще не испытав того, что принесла с собой Октябрьская революция. А вот запись из дневника племянника Бунина Николая Алексеевича Пушешникова от 20 апреля 1918 года:
Вечером опять у Ивана Алексеевича. Он только что пришел из церкви. Глаза заплаканы.
– После всей этой мерзости, цинизма, убийств, крови, казней я был совершенно потрясен. Я так исстрадался, я так измучился, я так оскорблен, что все эти возвышенные слова, иконостас золотой, свечи и дивной красоты песни произвели на меня такое впечатление, что я минут пятнадцать плакал навзрыд и не мог удержаться. Все, что человечество создало самого лучшего и прекрасного, все это вылилось в религию… Да, только в редкие минуты нам дано это понимать.
Так говорил один из последних великих русских писателей.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.