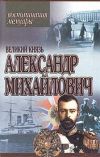Текст книги "Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 2"

Автор книги: Николай Любимов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 37 (всего у книги 39 страниц)
«Довольно Достоевского!» – рыкнул Сталин.
12 сентября 41-го года Пастернак писал своей жене, Зинаиде Николаевне:
Нельзя сказать, как я жажду победы России… Но могу ли я желать победы тупоумию и долговечности пошлости и неправды?
В СССР после войны победило тупоумие и надолго воцарились пошлость и неправда.
Я прочел это письмо в 76-м году, но думал я и во время и после войны точно так же и изъяснял близким свои мысли почти в тех же выражениях.
Политика партии в литературе и искусстве – это тянущийся более полувека суд глупцов. Доклад Жданова – это был тоже суд глупца и знамение победы тупоумия. Это был суд глупца, науськанного Сталиным. Безусловно науськанного, ибо без воли Сталина Жданов выступить с таким докладом не отважился бы, да и какой был смысл Жданову обрушиваться на ленинградских писателей и вопить о недопустимом положении дел в ленинградской писательской организации и в редакциях ленинградских журналов? Устраивая секуцию другим, Жданов больнее всех высек самого себя, ибо это он отвечал перед Сталиным и Политбюро за направление умов в «городе Ленина».
С течением времени стало ясно, что доклад Жданова явился началом его конца. Доклад он сделал в 46-м году. В 47-м году арестовали и засадили директора издательства «Иностранная литература» Бориса Леонтьевича Сучкова, которому протежировал хороший знакомый его отца еще по Нижнему Новгороду Жданов. Паны дерутся – у холопов чубы болят. Дрались два пана – Маленков и Жданов. Арест протеже означал падение престижа протежировавшего и пятнал его. В 48-м году Жданов скоропостижно скончался. Если даже он умер и своей смертью, то вряд ли он уцелел бы, дожив до так называемого «Ленинградского дела», после которого романтику ленинградской блокады выбросили на свалку. Об особом героизме ленинградцев говорить уже было не принято.
Вне всякого сомнения, Сталин дал Жданову выволочку и выпихнул его на трибуну «докладать» (сам он предпочитал в таких случаях оставаться за кулисами), но временно пощадил его и разрешил переложить вину на других, рассчитывая, что подавляющее большинство читателей не поймет, что доклад товарища Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» – это доклад о политическом фиаско и закате самого товарища Жданова.
«Насколько должно было ослабнуть руководство идеологической работы в Ленинграде!» – восклицал Жданов. А кто же был тогда главным руководителем идеологической работы в Ленинграде, как не он?
…руководители нашего идеологического фронта в Ленинграде забыли некоторые основные положения ленинизма в литературе.
Значит, прежде всего, забыл их сам Жданов.
Он сваливал вину на стрелочников; на секретаря горкома партии Капустина[88]88
В 49-м году Капустина расстреляли по «Ленинградскому делу».
[Закрыть] и секретаря горкома по пропаганде Ширкова. А ты-то, батенька, куда смотрел?..
Ну, а кто же пробудил гнев в душе Сталина? Кто подсказал ему фамилии Зощенко и Ахматовой? Кто натравил его на писателей и, главным образом, на ленинградских?
Есть все основания думать» что Фадеев.
В 44-м году его отстранили от управления литературным департаментом за притупление бдительности. На его место назначили бывшего ленинградца Тихонова, из которого тогда сделали героя ленинградской блокады. Честолюбивый Фадеев рвался к власти и дорвался.
Незадолго до грозы, разразившейся над ленинградскими писателями, он уехал то ли в санаторий» то ли в «дом творчества» и, уезжая, с таинственным видом сказал одной из своих парикмахерш, причесывавших его доклады, что едет обдумывать в тишине один «проект».
Проект, надо полагать, заключался в том» чтобы пригнуть седую, но немудрую голову Тихонова и снова прыгнуть в свое насиженное кресло. И он пригнул и прыгнул.
Тихонова согнали с поста председателя Союза, но из уважения к его заслугам в Президиуме оставили, а запойного пьяницу, доносчика, на руках которого еще не просохла кровь его товарищей по РАПП, «перевальцев», «кузнецов» и всех, кого он выдавал и предавал в 37-м году и страха ради, и из любви к искусству, дезертира, бежавшего ночью из Москвы, предоставив руководимым им писателям спасаться от немцев кто и как может, – Фадеева назначили не просто первым, а генеральным секретарем Союза писателей. Союз возвели в ранг министерства. Образовали президиум в составе генерального секретаря, четырех заместителей и восьми членов секретариата.
Плохой писатель, так до самой смерти и не кончивший школу Льва Толстого, Фадеев был умным и опытным интриганом. Он знал, что делал, когда подсовывал Сталину рассказ Зощенко «Приключения обезьяны».
На Зощенко давно уже косились и точили зубы.
11 января 65-го года после вечера памяти Зощенко в Центральном доме литераторов Игорь Владимирович Ильинский, читавший на вечере «Елку» и «Искусство Мельпомены», сказал мне:
– Зощенко уже давно раздражал. Мне еще в сороковом году Ворошилов говорил: «Зачем вы читаете Зощенко?»
Как раз в 40-м году Сталин прогневался на Леонида Леонова за пьесу «Метель» и на Валентина Катаева – за комедию «Домик». (Вон когда Сталин ополчился на «никчемный юмор», как выразится в 46-м году Жданов!) Мимоходом ругнули и напечатанную во 2-м номере «Звезды» за 40-й год пьесу Зощенко «Опасные связи».
В «Опасных связях» бывший провокатор Безносов, ставший после Октябрьской революции важной птицей, говорит о себе, что он, «гуманист по природе», «не дрогнет любому врагу голову оторвать…» «Пятьсот людей за один бутерброд отдам».
На обсуждении пьесы в Ленинградском отделении Союза писателей Зощенко сказал примерно следующее (передаю его слова в пересказе присутствовавшего на обсуждении ленинградского фольклориста Александра Николаевича Нечаева):
– Здесь много говорили об идейных недостатках моей пьесы, а вот о самом главном, – о ее чисто художественных слабостях, которые мне теперь видны» – почему-то никто словом не обмолвился. А если перейти к идейным недостаткам» то опять-таки самого главного ее недостатка никто не заметил и не указал. А ведь в чем основная мысль пьесы? В том, товарищи» что подлец у нас был, есть и еще долго будет. И вот эта основная мысль в моей пьесе недостаточно ярко выражена. А вообще —
Я хочу быть понят моей страной,
а не буду понят —
что ж,
По родной стране
пройду стороной,
Как проходит
косой дождь.
Вскоре после обсуждения где-то на улице встретила Зощенко Ирина Николаевна Meдведева-Томашевская.
– Ну как» досталось вам, Михаил Михайлович? – спросила она.
– Пьеса – это что! Вот когда до моих рассказов доберутся!..
Сначала добрались и разобрались в его повести «Перед восходом солнца», и печатанье повести в журнале «Октябрь» оборвалось. В 46-м году добрались и до его рассказов.
После постановлений ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» и доклада Жданова даже и «прощенный», восстановленный в правах члена Союза писателей Зощенко физически и душевно не оправился. Но убить зощенковское в его творчестве все-таки не удалось.
В 1947-м году было высочайше дозволено печатать Зощенко. Он опубликовал в девятом номере «Нового мира» за этот год цикл партизанских рассказов под общим названием «Никогда не забудем». «Военного писателя» из Зощенко не вышло, рассказы написаны неуверенной, дрожащей рукой. Но у заглавий некоторых рассказов есть автобиографический подтекст, глубоко запрятанный и на счастье Зощенко ни редакторами, ни цензорами не усмотренный.
Заглавие второго рассказа: «Добрый день, господа». – После вынужденной разлуки Зощенко здоровается с читателями. Заглавие четвертого рассказа: «Где кушаю» того и слушаю». – С голодухи и сатиру, и юмор бросишь и в чужом жанре сочинять начнешь. Заглавие десятого рассказа: «У счастья много друзей». – Кто только ни втирался в дружбу к Зощенко до сентябрьских событий 46-го года и кто только ни отвернулся от него потом!..
Начали с запрета катаевского «Домика», придавили Зощенко, а в конце 40-х годов Евгении Ковальчик за то, что она была редактором однотомника Ильфа и Петрова» по партийной линии влепили «строгача». «Двенадцать стульев» и «Золотого теленка» начали переиздавать только после того, как Сталин загнулся.
Доклад Жданова – это длиннейший приказ по армии искусств духовного сына унтера Пришибеева. Цели у него две – застращать и взбодрить коняг: «Но, каторжные, но!» Жданов так прямо и говорит:
…ЦК принял… крутые меры по литературному вопросу.
Своим решением ЦК имеет в виду подтянуть идеологический фронт по всем другим участкам нашей работы.
Шпаргалку Жданову составляли люди, не обременявшие себя хотя бы поверхностным знанием предреволюционной литературы и искусства. Он спутал немецкого писателя Гофмана, автора книги «Серапионовы братья», и поэта-символиста Виктора Гофмана, и этот сшитый из двух Гофман оказывается у него идейным вождем и акмеистов, и «Серапионовых братьев»[89]89
«И у акмеистов, и у “Серапионовых братьев” общим родоначальником являлся Гофман, один из основоположников аристократически-салонного декадентства и мистицизма».
[Закрыть].
Жданов задает риторический вопрос:
Все эти символисты, акмеисты, «желтые кофты», «бубновые валеты», «ничевоки», – что от них осталось в нашей родной русской советской литературе?
Здесь одним небрежно-величественным жестом сваливаются в кучу литературные направления, объединение художников («Бубновый валет») и даже часть костюма Маяковского.
По всему докладу Жданова рассыпаны, как говорил председатель Перемышльского Исполкома Васильев, «перлы» красноречия:
Насквозь гнилая и растленная общественно-политическая и литературная физиономия Зощенко оформилась не в самое последнее время.
Позвольте привести еще одну иллюстрацию о физиономии так называемых «Серапионовых братьев».
В выражениях этот кнутобой не стесняется. Зощенко он обзывает «мещанином и пошляком», «подонком», «беспринципным и бессовестным литературным хулиганом», «пошлой и низкой душонкой». Он считает «совершенно справедливым», что Зощенко «был публично высечен в “Большевике”, как чуждый советской литературе пасквилянт и пошляк» (он имеет в виду статью, громившую «Перед восходом солнца») – Поэзия Ахматовой для него поэзия «взбесившейся барыньки».
Итак, стало быть, к черту сатиру и юмор, ибо даже в юмореске содержится гомеопатическая доля истины, а у нас критиковать нечего – мы живем в Эдеме. К черту интимную лирику! Советскому человеку горевать не о чем. Даешь «идейные, бодрые произведения», «бодрое, революционное направление»! Даешь произведения о Великой Отечественной войне по рецепту: «Политрук не растерялся и вытащил связку гранат», и ни слова о том, как бежали наши воины в 41 – 42 годах, как они попадали в окружение и десятками тысяч сдавались в плен, как бежали во все лопатки партийные и советские работники из городов, к которым подступали немцы (а на беспартийную и даже на партийную сволочь им было наплевать), даешь произведения о героическом (непременно героическом!) мирном труде!
«Наш народ ждет, – вещает Жданов, – чтобы советские писатели осмыслили и обобщили громадный опыт, который народ приобрел в Великой Отечественной войне, чтобы они изобразили и обобщили тот героизм, с которым народ сейчас работает над восстановлением народного хозяйства страны…»
В ответ на этот призыв посыпались поделки-скороспелки, а в поощрение подельщикам и в назидание другим – Сталинские премии. И почет и денежки.
Не сметь, сукины дети, любоваться прошлым: «помещичьими усадьбами екатерининских времен с вековыми липовыми аллеями, фонтанами, статуями и каменными арками, оранжереями, любовными беседками и обветшалыми гербами на воротах», «дворянским Петербургом, Царским Селом», «вокзалом в Павловске и прочими реликвиями дворянской культуры», «Старым Петербургом, Медным Всадником как образом этого старого Петербурга…»
Жданов воротит свою моржеподобную морду даже от воспетого Пушкиным Медного Всадника и требует такого же движения от писателей. Равнение на Великую Отечественную войну, на фабрики, заводы и колхозы! Шагом – арш!..
Медному Всаднику, царскосельским дворцам и помещичьим усадьбам Жданов противопоставляет «потрясающие успехи наших культурных делегаций за границей, наш физкультурный парад и т. д.»
И еще одна зычная ждановская команда стоголосым эхом отдавалась потом до смерти Сталина в советской прессе, команда, кстати сказать, поданная человеком, получившим образование не намного выше того, какое получил его духовный отец – Пришибеев, и школьной премудрости так и не одолевшим:
Некоторые наши литераторы стали рассматривать себя не как учителей, а как учеников буржуазно-мещанских литераторов, стали сбиваться на тон низкопоклонства и преклонения перед мещанской иностранной литературой. К лицу ли нам, советским патриотам, такое низкопоклонство?. – К лицу ли нашей передовой советской литературе… низкопоклонство перед ограниченной мещански-буржуазной литературой Запада?
И – еще шире:
К лицу ли нам, представителям передовой советской культуры, советским патриотам, роль преклонения перед буржуазной культурой или роль учеников?!
«Стали рассматривать себя не как учителей…», «…роль преклонения…» Нет, право же, речь сего витии многовещанного – это речь пошедшего не по военной части Пришибеева-сына, который не уступает папаше ни в глубокомыслии, ни в мягкости тона, ни в красоте слога.
Сама по себе идея борьбы с преклонением и низкопоклонством перед Западом – идея разумная. Ее вели еще Грибоедов, Аполлон Григорьев и Достоевский.
Писк грибоедовских княжон: «Ах! Франция! Нет в мире лучше края!» постепенно слился с заливистыми тенорами наших западников, – от Дружинина, Анненкова, Тургенева до сладкопевцев кадетских, – и с хриплыми семинарскими октавами и басами «революционных демократов», а по нотам «революционных демократов» запели гимны Западу социалисты-революционеры и социалисты-демократы. В докладе Жданова, как и во всей послевоенной «культурной» политике партии, концы с концами не сводились. Если уж Жданов хотел нанести решительный удар низкопоклонству, то вместо того, чтобы восславлять основоположников низкопоклонства, Белинского, Чернышевского и Добролюбова, он должен был бы их развенчать и обратиться к самобытным русским мыслителям – от славянофилов и почвенников до Владимира Соловьева и Розанова. Но что общего у Сталина и Жданова с Хомяковым и Достоевским?.. Вот они и крутились, как бесы перед заутреней.
Обожание всего иностранного действительно въелось и в русское барство, и в русскую интеллигенцию. Увы! От многих моих «отцов», любивших живопись и зодчество, я не слышал ни единого слова о Рублеве и Феофане Греке, о Суздале и Покрове-на-Нерли. От многих моих «отцов», любивших музыку и пение, людей религиозных, я ни слова не слыхал о киево-печерском распеве, о Веделе, Турчанинове и Архангельском. Но советская пресса не способна вести борьбу без тумаков, тычков, тулумбасов, зуботычин, подзатыльников, оплеух и волосяного дера, так что, даже если она, – что, впрочем, случается с ней чрезвычайно редко, – в основе права, ты невольно становишься на сторону тех, кого она лупит и в хвост и в гриву. Мне чужд космополитизм, тем более что природа пустоты не терпит, и в этой пустоте неизбежно заводится всякая нечисть вплоть до кровожадного национализма (пример тому Эренбург). Но я сочувствовал большинству тех, кого в 40 – 50-х годах объявляли у нас «безродными космополитами», потому что это были не «безродные космополиты», а просто-напросто евреи; если же еврея подводили под эту рубрику, то за сим следовало увольнение и лишение куска хлеба.
Борьба с низкопоклонством приняла на страницах советских газет и журналов, как все проводимые партией «кампании», уродливую и смехотворную форму – мы же все умеем изуродовать, огрубить, оглупить и опошлить! Она шла под лозунгом: «Россия – родина африканских слонов». Для моих друзей и для меня она была источником балагурства. Александра Леонидовича Слонимского мы переименовывали то в Вяземского, то в Шуйского. Для переименования Сергея Михайловича Бонди предлагались разные варианты: Прыгунов (если производить его фамилию от французского слова bondir – подпрыгивать), Краснобаев (если производить ее от французского bon dire – хорошо сказать), и, наконец, просто Бондарев.
Советская печать называла германскую армию «грабьармией». Ну, а советская армия, – разумеется, далеко не вся, как, впрочем, далеко не вся германская армия состояла из грабителей, – не превратилась в грабьармию, как скоро переступила границу Восточной Пруссии?
Осенью 41-го года Дмитрий Александрович Горбов сказал:
– Если мы войдем в Германию, дверные ручки будем там отламывать.
Дело доходило и впрямь до дверных ручек. «Освободители» во всяком случае сравнялись с захватчиками.
Ко мне приходили мои друзья, воевавшие с 41-го по 45-й год, отличившиеся, награжденные за боевые заслуги высокими наградами. Все они были потрясены, подавлены, доведены почти до психического расстройства не ужасами войны, о которых они не рассказывали, а ужасами насилий и грабежей, чинившихся Советской армией, ничем не вызванным грубым, хамским обращением советских офицеров с мирным населением оккупированных стран. Теперь уже про «освободителей» немцы, австрийцы, венгры, румыны могли петь:
Насильники, грабители,
Мучители людей.
В Польше, в Болгарии, в Венгрии, в Румынии, в Чехословакии Сталин для прилику поиграл в демократию. А малое время спустя то здесь, то там – путчи, «суды» и казни.
В Венгрии схватили, пытали, заточили в тюрьму кардинала Мин-центи. Оттуда удалось «за погодку» унести ноги за границу представителю партии мелких сельских хозяев премьер-министру Ференцу Надю и председателю Национального собрания Варге, из Польши – создателю партии «Польске Стронництво Людове» Миколайчику. Цадь, Миколайчик, в Болгарии – Петков, в Чехословакии – Бенеш и во время «февральских событий 48-го года» «выбросившийся из окна» Масарик наивно полагали, что многопартийная система в их странах останется незыблемой и что при многопартийной системе можно помериться силами с коммунистами и потрудиться на благо народа. Но все они вряд ли читали, а если читали, то наверняка забыли речь Томского, выдержки из которой я уже приводил: «…в обстановке диктатуры пролетариата может быть и две, и три, и четыре партии, но только при одном условии: одна партия будет у власти, а все остальные – в тюрьме».
Разговор у коммунистов с представителями других партий был, в буквальном смысле слова, короткий. Везде применили один и тот же сталинский прием: дело, мол, не в наших идейных разногласиях; все эти Ференцы и Варги, Маниу, Петковы и Миколайчики – террористы, изменники, заговорщики, наемники, связанные с иностранной разведкой и ставившие своей целью свержение республики и возрождение фашизма. Тогда широким массам будет ясно, почему надо сажать, вешать и расстреливать тех, кому эти массы во время избирательной кампании отдали свои голоса.
Взялись и за неугодных Сталину коммунистов. Начал своевольничать, льнуть к Броз Тито Димитров – его у нас «полечили». В Чехословакии казнили Сланского.
Грабеж, убийства и пожары,
Тюрьма, петля, топор и нож —
Вот что, Россия, на базары
Всемирные ты понесешь!
Как и до войны, Сталин приближал к себе людей, отвечавших трем основным его требованиям: а) способных на «мокрое дело» в любом виде, хотя бы в виде подписи на смертном приговоре; б) холопски ему покорных и в) не возвышавшихся над уровнем посредственности.
Алексей Константинович Толстой в предисловии к «Князю Серебряному» признался, что, работая над романом, он временами «бросал перо в негодовании не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV, сколько от той, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования».
Конечно, страшен был сам Сталин, эта удивительная амальгама тупоголовости, лавирующей беспринципности, хитрости и неутолимой кровожадности. Но, пожалуй, и впрямь еще страшнее было наше общество. Оно разглагольствовало и писало о немецких зверствах, закрывая глаза на зверства сталинские. Оно кипело от справедливого возмущения Освенцимом и Бухенвальдом, но оно забыло про Соловки, про Магадан, про Караганду, про «централы», про Лубянку, про Лефортово, Шпалерку, Таганку. Оно клеймило тех, кто у нас и за границей «сотрудничал с немцами» – не только тех, кто участвовал в карательных экспедициях, кто работал в Гестапо, то есть людей, заслуживающих всяческого поношения, но и тех, кто ради куска хлеба, ради прокормления престарелых родителей и малых детей работал в самых невинных учреждениях (это даже и сотрудничеством назвать нельзя), и тех, кто шел на сотрудничество с немцами во имя спасения соотечественников. Кому бы говорить!.. Ведь мы, прежде всего, должны были бы заклеймить самих себя, ибо мы, за ничтожным исключением, в той или иной форме сотрудничали и продолжаем сотрудничать с партией Ленина – Сталина, то есть с партией предшественников и учителей Гитлера, с партией более опасной и вредной, чем партия нацистов, ибо она двулична и лицемерна.
Интеллигенты, оставшиеся в Совдепии, кто же мы, как не коллаборационисты с 18-го года? Самое слово «попутчик», которое в начале 20-х годов применялось к писателям-интеллигентам, в той или иной степени «принявшим» Октябрьскую революцию, близко по смыслу к слову «коллаборационист». Лай не лай, а хвостом виляй… Все мы – что греха таить? – если и не лаяли, то хвостиками повиливали.
Мне было легче не подличать, чем многим другим. Я не только не состоял в партии – я не был ни одного дня в комсомоле, я не был даже «юным пионером». Со дня ареста и до 42-го года я в учреждениях служил несколько месяцев, ни в каких организациях не состоял, следовательно, имел возможность на собрания не ходить и за расстрелы руки не поднимать. Вступив в 42-м году в Союз писателей, я посещал только собрания, на которых обсуждались вопросы художественного перевода, да и то – «в редкую стежку». Мне было гораздо легче не подличать, потому что мой основной жанр – художественный перевод. Но ведь и я никогда громогласно своих убеждений не высказывал. В школе, в институте и после я был неизменно лоялен. Будучи студентом, я удрал с митинга, где надо было голосовать за смертную казнь рамзинцам. Удрать-то удрал, но протеста не выразил.
Когда в институте устраивались антирелигиозные вечера, я стоял в церкви. Но ведь я же ни разу не вступил в рукопашную ни с одним безбожником! На допросе я говорил истинную правду, что я не террорист, что я всякое порученное мне дело исполнял добросовестно, но я ведь все-таки играл в советского человека вместо того, чтобы прямо сказать следователю, что я ненавижу ленинско-сталинский рабовладельческий строй. Я боялся, что этим навлеку на себя строгую кару, боялся за себя, еще сильнее – за мать. В Архангельске я наотрез отказался быть осведомителем, но – сославшись на отсутствие у меня всякого присутствия надлежащих склонностей и способностей, вместо того, чтобы дать следователю по морде за его гнусное предложение. Я боялся, что меня снова засадят, боялся за мать. Для чего я вступил в Союз писателей? Только чтобы получать по карточкам больше продуктов, чтобы уберечь семью и себя от истощения. В тех немногих статьях, какие я печатал при жизни Сталина, есть фразы и абзацы, при воспоминании о которых кровь приливает мне к лицу от стыда. Есть в них фразы, мне не принадлежащие, вписанные руками редакторов, а я по малодушию не вычеркнул их. Так мне ли бросать камень в «коллаборационистов»?
Чехов, по его собственному признанию, «выдавливал из себя по капле раба». Мне надо было выдавливать из себя по капле страх. Задача, которую поставил перед собой Чехов, была все-таки легче моей. Чехов принялся выполнять ее в молодости, а я – когда мне перевалило за сорок.
В главе «Самоубийца» я писал о том, что советский подхалимаж многолик. Иных толкала на раболепство угроза голода, иных – угроза ареста, высылки из Москвы или из Ленинграда. Иным надо было прикрыть кого-то из родных. Иные, как Василий Иванович Качалов, славословили, чтобы этой ценой покупать волю для узников и возвращение изгнанников. Иные, как патриарх Алексий и митрополит Николай, славословили, чтобы этой ценой добиться выпуска из концлагерей уцелевших священников и святителей, открытия церквей, монастырей, семинарий и академий. Правда, иерархи, воздавая кесарево кесарю, иной раз переплачивали – и в смысле лексики и интонационного строя обращений к советским властям, и в смысле денежных отчислений, и все-таки, по сравнению с тем, чего они добивались, этот грех невелик.
Я знаю множество примеров, доказывающих, что наши тогдашние иерархи хотя иной раз и кривили душой, но – ради помощи ближнему, ради Церкви, а не ради собственного благоденствия. Ну вот хотя бы такие случаи… Патриарх Алексий, пользуясь благоволением Сталина, вызволил из Казахстанского концлагеря архимандрита Вениамина (Милова), куда его, в 1949 году арестовав в Троице-Сергиевой Лавре, по второму разу запрятали. Об этом мне стало известно от иеромонаха Троице-Сергиевой Лавры о. Никона (Преображенского). Митрополит Николай в том же году, пользуясь благорасположением к нему властей, уберег от высылки из Москвы архидиакона о. Сергия Турикова, уже отбывшего до войны ссылку. В начале войны он помог снять судимость протоиерею о. Александру Скворцову и назначил его настоятелем московского храма во имя Воскресения Словущего, что в Филипповском переулке. Александр Григорьевич Скворцов был священником в селе Изварине Московской области (близ станции Внуково по Киевской железной дороге). В 30-х годах его посадили. На вопрос о. Александра: «Какое же я совершил преступление?» – следователь ответил: «У вас был слишком большой авторитет у населения». Потом о. Александр рубил лес в концлагере, потом вернулся, некоторое время жил в Малоярославце (ближе к Москве не подпускали), потом переехал с женой к дочери в Москву на Арбат. И вот тут-то в нем принял живейшее участие митрополит Московский Николай. Об о. Александре я все это слышал из его уст. Он давно скончался, но верующие москвичи помнят его до сих пор. Лучшего священника я в Москве не встречал. Он был моим духовником, крестил моих детей, Елену и Бориса. Как просто, кратко и проникновенно говорил он проповеди! Как утешал, ободрял, какие мудрые советы давал на исповеди!.. Как приветлив и ласков был с молящимися! Как умел ладить, никому не льстя, ни перед кем не заискивая, со своими разнохарактерными сослуживцами! Как остроумен он был в обиходной речи, как умел вовремя вставить незатрепанную пословицу! Какое верное объяснение находил для явлений церковной жизни, непонятных для таких, как я, рядовых прихожан!.. Как он был мудр! Когда я ему сообщил, что Пастернак написал «Рождественскую звезду», он ответил: великая идея для самовыражения всегда выбирает лучших из лучших.
Вот я и думаю: митрополит Николай иной раз оступался, иной раз в своих официальных заявлениях «брал тоном выше», чем бы, пожалуй, следовало. Но не простятся ли ему все его прегрешения, вольные же и невольные, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением, – хотя бы за то, что он подарил верующим москвичам такого священника, как о. Александра Скворцова?..
Коротко говоря, не всех, принимавших участие в хвалебном пении партии, правительству и «лично товарищу Сталину», надлежит пригвождать к позорному столбу. У кого повернется язык осудить Ахматову за оду самодержцу, которую она написала в то время, когда ей самой жить было не на что и нечего посылать сыну в концлагерь?
Я не нахожу оправданий лишь для выслуживания, как выразился в «Мудрости жизни» Алексей Константинович Толстой, «без особенной нужды».
Я писал о том, что Сергееву-Ценскому не было никакой необходимости коверкать лучший свой роман «Обреченные на гибель». Никто не требовал от Алексея Николаевича Толстого портить «Хождение по мукам». Никто не требовал от него вывертывать наизнанку русскую историю в дилогии об Иоанне Грозном, за что не знающее пощады искусство отомстило ему: автор «Повести смутного времени» и «Петра», так тонко чувствовавший запах старинного русского слова, всех героев дилогии выкрасил в стилизаторскую сусаль. А ведь ни Ценский, ни Толстой на паперти с рукой не стояли, и МГБ на них не замахивалось. Как не совестно было Зощенко в пору гонения на духовенство и яростного преследования за религиозные убеждения и исполнение обрядов разводить чепуху на постном масле о пьяных попах? Как ему не совестно было сочинять такие побасенки, которыми Гаргантюа, великий знаток подтирки, побрезговал бы употребить их для этой цели? Ведь Зощенко – «не чета каким-то там Демьянам». Кто дергал за язык Семена Кирсанова на общемосковском собрании писателей мяукать, как обозленный кот, о «мещанстве и пошлости зощенковских писаний и салонности поэзии Ахматовой»? (Зри «Литературную газету» от 21 сентября 46-го года.) Есть ли тут хоть слово правды? Кто тянул за язык Леонида Мартынова, в 58-м году произнесшего архиподлую речь против Пастернака? Всем членам Союза звонили по телефону, приглашали на «суд над Пастернаком», но ведь силком же не гнали! Быть героем дано не всякому, но отойти от зла даже при диктатуре Ленина-Сталина-Хрущева-Брежнева мы могли, можем, были обязаны и сейчас обязаны. Ну зачем Чуковский-фис ратовал за исключение из Союза писателей историка литературы, старика Оксмана, прошедшего концлагерь и ссылку? Ведь Николай Чуковский был беспартийный, имел возможность под любым предлогом не явиться на заседание – с беспартийных спрос не велик. Какого черта Чуковский-пер в печати обозвал переводы Анны Радловой «предательскими», когда Радлова сидела в лагере? Кого «предавала» своими переводами Радлова? Экое непотребное пустозвонство! «Не пора ли, Корней, постыдиться людей?», – так переделали строку из стихотворения Никитина «Ссора» (У Никитина: «Не пора ль, Пантелей…»).
26-го января 47-го года я писал моей матери в концлагерь (это письмо вместе с другими письмами ей при выходе на свободу разрешили взять с собой, и оно у меня сохранилось):
…не думаю, чтобы твое самочувствие в основном резко отличалось от моего и от самочувствия моих друзей.
У нас и впрямь было такое ощущение, словно мы в концлагере. Мы обнесены незримой колючей проволокой. Охранников мы встречаем на каждом шагу: и в электричке, и в метро, и на улицах, и в форме, и в штатском. Во всех учреждениях с провокационными разговорами к нам подсыпаются стукачи…
Время от времени страх налетал на нас порывами, слепил глаза молниями, бросал в дрожь ударами грома. Но жил в нас иной страх – будничный, повседневный, тихий, уже привычный.
Мы с Колей Богословским признались друг другу, что всякий раз торопимся получить причитающийся нам гонорар. А вдруг арестуют? Пусть хоть какое-то время у семьи будут деньги.
Летом, приезжая с дачи в Москву, я старался покончить со всеми делами в один день: закупить на неделю продуктов и обегать несколько издательств. Только не ночевать в Москве! Если за мной приедут на дачу, я смогу проститься со спящими детьми. И как я ни старался уговаривать себя: за что же, собственно, меня сажать-то? – не только чувства, но и разум мне не повиновались. А за что других? Захотят – повод найдут.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.