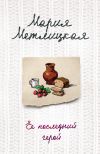Текст книги "Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 2"

Автор книги: Николай Любимов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 39 страниц)
Вы вновь слагаетесь, разбитые скрижали
Полузабывшихся, но не пропавших дней.
Случевский
Не знали мы, что скоро
В тоске предельной поглядим назад.
Ахматова
Какой-то звериный инстинкт подсказывал мне, что оседлость опасна, что надо вести кочевой образ жизни и время от времени менять место постоянной прописки.
Весной 38-го года кто-то заговорил при мне о Тарусе. Об этом уездном городе Калужской губернии я слыхал еще в детстве. Заговоривший о ней расписывал ее красоты, И у меня мелькнула мысль: не провести ли там по крайней мере лето? Понравится – перезимую. Я поделился своими планами с Маргаритой Николаевной и Татьяной Львовной.
– Там живет на покое в своем собственном доме моя сводная сестра, бывшая актриса Малого театра, вдова театрального критика Николая Ефимовича Эфроса, которого ты так любишь, Надежда Александровна Смирнова, – сказала Татьяна Львовна. – Я пошлю ей с тобой письмецо, и она тебе поможет устроиться… А знаешь что: мы в этом году ничего подходящего в смысле дачного жития себе не нашли, а про Тарусу я от многих слышала, что это чудесный городок. Попроси Надю, чтобы она и нам подыскала – только большую дачу: для Маргариты и для нас с Николаем Борисовичем. Вероятно, и Коля проведет с нами отпуск. И вот еще что: надо, чтобы была комната для Nirvana stervusendis. И лучше поближе к Наде, а не chez le diable аих petits koulikis[51]51
Шутливо-буквальный перевод на французский язык русского выражения «У черта на куличках».
[Закрыть].
Татьяна Львовна, нимало не медля, отстукала на машинке два письма и одно вручила мне:
– Вот тебе, душе своей погубитель, рекомендательное письмо Наде. Я его нарочно не запечатываю. Так раньше полагалось – чтобы рекомендуемый знал, что письмо действительно рекомендательное, а не ругательное. А вот это письмо я пошлю Наде по почте. На, прочти… Так тоже полагалось. А то, бывало, в руки дадут письмо с просьбой обласкать, а по почте – предостережение: я, мол, вынуждена была дать этой скотине рекомендательное письмо, только чтобы отделаться, но это такой подлец, такой мерзавец – ты его на порог не пускай… Вот деньги – это задаток за нашу дачу. Ну, поезжай с Богом. Ни пуха, ни пера!
У меня отлегло от сердца. Итак, еду я не совсем на авось; лето, может быть, проведу с дорогими людьми; я познакомлюсь с известной мне по рассказам матери талантливой артисткой (вот только жаль, что не Художественного театра!), да еще с вдовой Эфроса.
…Я поднимаюсь от Оки в гору и всхожу на террасу большого нескладного кривобокого дома, спрашиваю облепивших террасу людей, можно ли видеть Надежду Александровну. За ней пошли. Ко мне вышла полная, среднего роста, дама с крупными чертами лица. Ее седые волосы были расчесаны на прямой пробор, а сзади собраны в пучок. Глаза смотрели на меня сквозь пенсне с пытливой строгостью, но я почему-то не испугался. Я всеми порами своего тела почувствовал, что эта дама, которая так величественно себя держит и так строго на меня смотрит, – хороший, очень хороший человек.
Она предложила мне сесть, прочитала письмо Татьяны Львовны, распорядилась, не слушая моих отнекиваний, чтобы мне дали чего-нибудь перекусить, и у нас с ней мгновенно завязался разговор, до того непринужденный, словно она знала меня с малолетства.
Надежда Александровна познакомила меня со своим другом, дочерью известного в Москве общественного деятеля, основателя Высших женских курсов («Курсов Герье»), профессора Владимира Ивановича Герье, Софьей Владимировной, – с ней вдвоем она постоянно жила в Тарусе. После обеда Софья Владимировна пошла со мной искать дачу для меня и для Татьяны Львовны с Маргаритой Николаевной. Повезло нам всем. Маргарите Николаевне и Полыновым Софья Владимировна сняла большую дачу с террасой на берегу пруда. На дачу надо было проходить через фруктовый сад и цветник. У меня запросы были куда скромнее. Софья Владимировна, потерпев неудачу в одном месте, повела меня к некоей бабушке Наталье. Бабушка Наталья, крестьянка Тарусского уезда, на старости лет переехала с мужем в Тарусу. Муж ее скончался, и она осталась доживать свой век бобылихой в двухкомнатном, с кухонкой, домике. Домик был маленький, – три окошка на тихую, заросшую травой улицу Шмидта, два на двор, – но уютный, чистенький: чистоту поддерживала сама бабушка. Садик при доме тоже был небольшой, но тенистый; в урожайный год яблок девать было некуда. Бабушка жила на небольшую пенсию за мужа и на то, что получала с дачников. Мне ее хижинка сразу приглянулась, а главное – понравилась хозяйка, понравилось крестьянское благородство ее обличья, понравились бесхитростные, ясные, голубые ее глаза, понравилось, как она себя держит, – с приветливым достоинством, без угодливости. Я вручил ей задаток и с облегченным сердцем вернулся к Надежде Александровне. Обе снятые дачи находились неподалеку от ее дома, на окраине Тарусы, в том же районе, именовавшемся и в речевом обиходе, и на языке официальном «Порт-Артурским». Таким образом, одному требованию Татьяны Львовны выбор Софьи Владимировны удовлетворял. Вот только обе дачи находились aux petits koulikis, зато эти petite koulikis – живописнейшее место в Тарусе.
В Москве меня ждали срочные дела, и я намеревался уехать с вечерним катером до Серпухова, а оттуда поездом в Москву. Надежда Александровна настояла на том, чтобы я у них переночевал. Она обещала разбудить меня перед отходом первого катера. Но будить меня ей не пришлось.
В первый же день мои отношения с Надеждой Александровной и Софьей Владимировной приобрели особую окраску. С Софьей Владимировной у меня установились отношения отличные, но душевно не близкие, – незримая, но явственно ощутимая грань отделяла ее от меня. С Надеждой Александровной я подружился. Обе скоро стали называть меня «Коля, ты», но звучало это обращение в устах у каждой по-разному…
Они были очень непохожи друг на друга, начиная с внешности. В отличие от расплывшейся Надежды Александровны, Софья Владимировна была сухенькая, подтянутая, с пергаментно-сухим, изжелта-бледным лицом. Обе носили пенсне. Синие глаза Софьи Владимировны казались круглыми от круглых стекол, в них изредка вспыхивал недобрый огонек, и недобро, даже при улыбке, обнажавшей запломбированные зубы, круглилась у нее верхняя губа. Карие глаза Надежды Александровны с удлиненным разрезом смотрели иной раз сердито, даже грозно, но гнев этот был милосердный, а по временам ее глаза застилала влажная, усталая, страдальческая поволока.
С Надеждой Александровной у меня было гораздо больше общего: театр, литература. Софья Владимировна к театру была равнодушна, в литературе ее привлекало преимущественно то, что, с ее точки зрения, лило воду на теософическую мельницу, к примеру – творчество Гете, к которому я так и остался холоден. Наконец» Надежде Александровне не могло не быть отрадно, что я на пятерку знаю Эфроса.
Как-то она меня спросила:
– Что ты льнешь к старикам, к старухам?.. К Маргарите, к Тане, ко мне? Тебе, правда, с нами интересно?
– Еще бы не интересно! От «стариков» и «старух» я все что-нибудь да почерпну, а от ровесников по большей части ухожу ни сыт, ни голоден. Да ведь и льну-то я не ко всем без разбора. На кой мне пес Евдокия Дмитриевна Турчанинова? Тоска зеленая!
– Ну, это, положим, верно.
С Софьей Владимировной я любил беседовать, любил слушать ее рассказы об Италии, где она подолгу живала и которую знала лучше России. К Софье Владимировне Герье, как и ко многим русским дореволюционным интеллигентам, приложимы слова Достоевского из его записной книжки 1875–1876 гг.; «В России мы чувства местности не имеем. Ну, что такое, например, Владимир? И зачем его знать… Но только что русский переедет в Европу, так тотчас же он и местен, и гнездлив…»
Глаза у Достоевского были как-то особенно устроены: от них почти ничто не укрывалось ни вдали, ни вблизи, перед ними разверзались и земля, и небо, и преисподняя. Подмеченная им черта русской интеллигенции облегчила победу бесам.
Отпугивала меня от Софьи Владимировны ее властность, хотя по отношению ко мне она ее никак не проявляла. Властность проскальзывала в ее взгляде, в повелительно быстрых при всем их изяществе движениях. То была властность сектантки. Кажется, Софья Владимировна и была водительницей русского теософского корабля. За глаза я называл ее «Теософия Владимировна». Властность Софьи Владимировны была властность тщеславная и неумолимая. Она терпеть не могла Андрея Белого и его немецкого учителя Штейнера, называла антропософов, отколовшихся от теософов, «антропками». У Надежды Александровны тоже был властный нрав, но ее властность приносила пользу ближним. То была властность горячая и благожелательная, сочетавшаяся с уважением ко всем верованиям в области мысли и духа, если они не лицемеры. Софья Владимировна была сдержанна, не способна на резкость, на окрик, но и почти не способна на ласку. Надежда Александровна могла и прикрикнуть и выругать, но я ни разу не заметил, чтобы это кого-нибудь обидело.
При мне Надежда Александровна распекала своего соседа Федю, славного, работящего, но запьянцовского парня, которого Надежда Александровна и Софья Владимировна приглашали для всяких домашних поделок. И вот однажды Федя пришел просить у Надежды Александровны аванс. Некоторое время он молча подпирал притолоку. Смерив его уничтожающим взглядом. Надежда Александровна первая нарушила молчание:
– Федька! Ведь я же знаю, зачем ты явился. Небось, пятерку просить?
– Я вам отработаю, Надежда Александровна.
– Знаю, что отработаешь. Вчера все до копейки пропил, а мать голодная сидит?.. Экая ты стерва!
Последнее слово Надежда Александровна произнесла с особым смаком.
Федька жалко усмехнулся.
– На тебе пятерку, иди сейчас же в город, опохмелись, купи чего-нибудь и накорми мать. Но это в последний раз! Больше я тебе гроша медного в руки не дам – все буду матери отдавать.
Федька, уж верно, бражничать не перестал, но что сейчас он рад был сквозь землю провалиться, что проборция, не оскорбив, устыдила его, – это читалось в его виноватой улыбке, в том, как он вжался в дверной косяк.
Надежда Александровна не любила, когда люди, как выразился Ал. Конст. Толстой, «рыдают с такою силой по пустякам», во всяком случае – из-за того, что ей казалось пустяком.
Старшая сестра Софьи Владимировны, Елена Владимировна, каждую осень расставаясь с Тарусой до весны, накануне и в самый день отъезда обливалась слезами: боялась, что больше не увидит ее красоты.
– Жаль Елену Владимировну, – сказал я Надежде Александровне. – Как она плачет!
– Ничего, – слегка нахмурившись, ответила Надежда Александровна. – Меньше пи́сать будет.
Переход от этой жизни в другую не пугал Надежду Александровну. В мудрой благости вышней воли она была уверена так же твердо, как в том, что она живет на земле, в России, в Тарусе, и сочувствовать Елене Владимировне она не могла.
В трудных случаях Надежда Александровна не терялась, быстро угадывала, на кого как лучше действовать.
У нее иногда гостила ее сестра Варвара Александровна, седая коротко остриженная, незаметная, боязливая, «действующее лицо без речей». Я помнив ее хлопочущей у печки или тихо покуривающей где-нибудь в уголке. Она была душевно больная. Буйствовала она с годами все реже и реже, но когда на нее накатывало, держать ее дома было опасно. В 39-м году она осталась зимовать у Надежды Александровны. Грозы как-будто ничто не предвещало: Варвара Александровна была тише воды. Гроза разразилась внезапно, в отсутствие Софьи Владимировны, уехавшей в Москву. Утром Варвара Александровна, с нечесанными волосами, в одной рубашке, выскочила со шваброй в руке на террасу. В отдалении шли в центр города бабы.
– Эй, бабы! – крикнула Варвара Александровна. – Долго над нами грузинский ишак измываться будет?
При этих словах Варвара Александровна воинственно взмахнула шваброй.
– Бабы! Пойдем бить грузинского ишака!
К счастью, бабы не поняли этого боевого клича и, оглянувшись в сторону Варвары Александровны, пошли дальше.
Надежда Александровна, вышедшая вслед за Варварой Александровной на террасу тоже в одной рубашке, сумела успокоить ее, увести в комнату, потом, заперев ее в доме, пошла нанимать подводу и провожатых (кажется, одним из них оказался вышеупомянутый Федька) и отвезла ее верст за тридцать в психиатрическую лечебницу.
Однажды я имел счастье вызвать гнев Надежды Александровны.
Я приехал в Тарусу весной 41-го года в скверном расположении духа. Вода подошла мне к горлу. Тюрьма, ссылка, ежовщина, пятилетнее скитальчество, проживание в Москве с постоянной мыслью, что тебя в любой момент застукает управдом, с постоянной мыслью, что я уже зажился в Москве, пора и честь знать, надо куда-то выметаться, глухое молчание НКВД в ответ на мое прошение о снятии судимости – молчание, в котором мне чудился отказ, – все это меня измотало. И тут еще, как назло, Таруеский Районный военный комиссариат (Райвоенкомат) вызвал меня, как всегда, по какому-то дурацкому поводу: ведь я же был нестроевик, да еще с клеймом бывшего ссыльного, следовательно, военкомату я был нужен как собаке пятая нога, – вызвал на первый день Пасхи. А я хоть и не читал тогда «Уединенного» Василия Васильевича Розанова, однако чувствовал так же, как он: «60 раз только, в самом счастливом случае, я мог простоять Великий Четверток “со свечечками” всенощную: как же я мог хоть один четверг пропустить?!! Боже: да и Пасох 60!!! Так мало. Только 60 Рождеств!! Как же можно из этого пропустить хоть одно?!!» И вот в этом году ради бюрократической прихоти тупоголового военкома пропускаю… И, к умножению всех несчастий, автобусы от Серпухова до Тарусы, конечно, не ходят, и я пропер от станции Тарусская 17 километров по колено в грязи.
Обсушившись и перекусив у бабушки Натальи, я побежал к Надежде Александровне. Сел в столовой на диванчик и стал жаловаться на свою горькую долю. Надежда Александровна слушала меня внимательно, но с каждой минутой мрачнела.
Когда же я, с моей точки зрения – убедительно, доказав, что у меня «кругом шестнадцать», излился, воцарилось молчание. Затем, глядя на меня в упор. Надежда Александровна спросила с гневной иронией:
– Ты в Бога веришь?
– Верю, – испуганно и недоуменно пролепетал я.
– Врешь! – Тут Надежда Александровна стукнула кулаком по столу так, что запрыгали чашки. – Какая это вера?
Долго отделывала меня на все корки Надежда Александровна. Наконец я заплакал – заплакал слезами благодарной радости. Внутри у меня посветлело. И с этого вечера дела мои пошли на лад.
Надежда Александровна была искренне возмущена моим маловерием. Но она поддала пару. Она поняла, что рюмить сейчас вместе со мной – значит оказать мне медвежью услугу, что меня надо пристыдить, как Федьку, – пристыдить и взбодрить.
Надежда Александровна была самообразована, начитана ж умна – умна своим собственным, природным умом. Софья Владимировна свои глубокие знания (главным образом – в области философии и романской филологии) приобретала систематически, кем-либо направляемая, и этим тоже отличалась от Надежды Александровны, но она была – в чем я разобрался далеко не сразу – не столько умная, сколько умствующая женщина.
Еще сильнее, чем властность, отталкивали меня от Софьи Владимировны ее советские высказывания. Я догадывался, что это – маска, что это – «страха ради иудейская: она уже во времена послереволюционные дважды ездила в Италию; прежде у нее были связи с иностранными теософами, и уцелела она случайно, по всей вероятности, оттого, что вовремя скрылась с московского горизонта. Надежда Александровна, Заслуженная Артистка Республики, получала персональную пенсию. Софья Владимировна, кажется, получала крошечную пенсию за отца пополам с Еленой Владимировной, и «социальное положение» у нее было неопределенное. Узнав от Грифцова, что ему поручено составить новый итало-русский словарь, я напомнил ему о существовании Софьи Владимировны. У Софьи Владимировны появился почти постоянный заработок и справка от издательства словарей, что она является постоянной его сотрудницей. После войны работа в издательстве помогла ей вновь прописаться в Москве. Хотя Софья Владимировна начала заниматься словарем уже в послеежовские времена и хотя она в штате не состояла, ей все-таки предложили заполнить подробную анкету. Заполняющим предлагали вопрос: бывали ли за границей? Софья Владимировна советовалась со мной, надо ли ей писать об ее – само собой разумеется, легальных – поездках за границу после революции. Проверив на опыте слова моего дяди: «Ничего мерзавцы не знают, кроме того, что мы сами на себя и друг на друга наговорим», я отсоветовал Софье Владимировне отвечать на вопрос утвердительно: кто там, дескать, станет проверять, а вот ежели Софья Владимировна сообщит о своих вояжах, то, подобно герою рассказа Вс, Иванова, сама на себя донесет, и ей могут под каким-нибудь предлогом отказать в работе.
Словом, Софья Владимировна соблюдала осторожность сугубую. Надежда Александровна посидела за теософию на Лубянке, но это ее не устрашило. О своих взглядах она не кричала на площадях, но в обществе друзей высказывалась откровенно. И я был горд тем, что она скоро причислила меня к друзьям и в прятки со мной не играла. Разлад Надежды Александровны с эпохой коренился не в бытовой бестолочи, не в материальных лишениях. Она не разменивалась на антисоветские мелочи. Она предъявляла революции большой счет, философский, нравственный и эстетический.
Почему она так рано ушла из театра «на покой»? Не только – вернее – не столько – по болезни, сколько по нежеланию кривить своей артистической душой. Она репетировала в малом театре Гудуяу в инсценировке «Собора Парижской Богоматери», выполненной Н. А, Крашенинниковым. (Спектакль был поставлен в 1926 году.) Роль эпизодическая, и Надежда Александровна приходила на репетиции только ради своих сцен. Но на прогонной репетиции она не взвидела света от омерзения: из романа Гюго театр вкупе с инсценировщиком сляпал антирелигиозную агитку. В перерыве Надежда Александровна вылетела на сцену и закатила скандал. На другой день ее вызвали в дирекцию, к Владимирову. Надежда Александровна сказала, что она извиняется за резкость выражений, но остается при своем мнении. Потом она отказалась от нескольких ролей в плохих советских пьесах и в 1928-м году оставила сцену. Театральная Москва устроила ей торжественные проводы. Для прощального спектакля Надежда Александровна выбрала «На всякого мудреца» и сыграла Турусину. Спектакль был поставлен объединенными усилиями режиссера Малого театра Платона и режиссера Художественного театра Лужского. В спектакле были заняты могучие силы обоих театров: Москвин, Качалов, Массалитинова, Рыжова, Климов.
…Ну так вот, с Софьей Владимировной мне было интересно и приятно, к Надежде Александровне меня сразу потянуло.
После вечернего чая все разошлись по своим углам, а у нас с Надеждой Александровной вновь завязался разговор. Точнее, это был ее монолог-рассказ, рассказ о русском предреволюционном и послереволюционном театре, об актерах и режиссерах, об Эфросе, о ее дружбе с Брюсовым, с Леонидом Андреевым, чей творческий путь и чье дарование она позднее в своей книге воспоминаний[52]52
Смирнова Н. А. Воспоминания. М.: Всероссийское театральное общество, 1947.
[Закрыть] точно определила в двух словах: «смятенный талант»[53]53
Надежда Александровна играла в Малом театре в его пьесе «Профессор Сторицмн».
[Закрыть].
Когда восток побелел, Надежда Александровна велела мне хоть немного поспать перед отходом катера. Но оставшиеся три часа я пролежал с открытыми глазами, переполненный впечатлениями, переполненный радостью от сознания, что мне на лето обеспечено житье в городе-красавце, а главное – преисполненный уверенности, что здесь мне будет с кем отвести душу.
Когда Надежда Александровна тихонько постучала ко мне в дверь» я был уже одет. Она напоила меня чаем, и я зашагал на пристань. Тяжести в голове от бессонной ночи я не ощущал.
Разгоралось погожее утро, лицо освежал бодрящий холодок, и так же ясно и свежо было у меня на душе» и вперед я смотрел бодро.
В следующий мой приезд в Тарусу я прописался у бабушки Натальи постоянно, стал на учет в Райвоенкомате.
Я провел в Тарусе лето 38-го, лето 39-го и лето 40-го года, захватывал и раннюю осень, приезжал несколько раз зимой и ранней весной. С Надеждой Александровной виделся часто, особенно – осенью, когда, бывало, схлынет волна ее родных и знакомых, когда разлетится стайка порхавшей вокруг нее молодежи, и в зимнюю пору, когда жизнь в Тарусе булькала под сугробами, когда в городе оставались тарусяне, а так называемые «тарусоиды» в Москве, а кое-кто и ö Петербурге, жили мечтою о весенней встрече с Тарусой.
Сила воздействия Надежды Александровны на слушателей заключалась не только в мыслях, темах и сюжетах ее устных повестей и рассказов, но и в том, как она рассказывала, в сопровождающих рассказ мимике и жестах. Иногда она вспоминала случай, сам по себе не очень забавный, но художественность отделки была такова, что слушатели хохотали навзрыд. Все дело было здесь в подражании голосам и ужимкам участников эпизода, в таких подробностях, которые сверкают в разговорной речи и гаснут на бумаге. В рассказах Надежды Александровны не чувствовалось ничего разученного, заранее подготовленного. Она ничего не подчеркивала, ничего не подносила слушателям «на блюде», не «играла на публику». Художественные подробности, смешные черточки – все это воскресало в ее творческой памяти «по ходу действия» и производило впечатление на слушателей столько же меткостью и смехотворностью, сколько нечаянностью своего возрождения.
Шутила Надежда Александровна без улыбки. Только когда слушатели валились со стульев, она вдруг тоже принималась смеяться – как будто пошутил кто-то другой.
Юмор был ее родной стихией. Она вплетала юмор даже в воспоминания о событиях страшных. Вскоре после падения очередного временщика Николая Ивановича Ежова у нее в доме зашел разговор о нем. В ежовщину Надежда Александровна потеряла любимого брата, друзей, за многих боялась. Боялась, наверное, и за Софью Владимировну, и за себя. Ее собеседники говорили о Ежове в тонах мелодраматических. Надежда Александровна наедине с самой собой разрывала обволакивавший ее мрак обращением к высшим силам, на людях – шуткой. Я никогда не видел ее тоскующей, мрачной, угрюмой. И тут она обратилась к спасительной шутке.
– Да уж! – сказала она и с игривой кокетливостью опереточной дивы пропела:
Тебя, мой друг Коко,
Я долго не забуду!..
Природа наделила Надежду Александровну многими дарами, среди них – даром перевоплощения: не только на сцене, но и в устных рассказах.
Надежда Александровна пересказывает то, что слышала от кого-то из художественников… Немировичу-Данченко доложили, что две актрисы отказываются играть в такой-то пьесе: роли у них эпизодические, появляются они в первом и последнем действиях; извольте ради этого торчать целый вечер в театре. Надежда Александровна, пощипывая воображаемые бакенбарды, характерным для Немировича горловым голосом с юго-западным произношением шипящих, невозмутимо цедит сквозь зубы:
– Скажите им, что я отшень сердился, топал ногами… (Пауза; непринужденно откинувшись на спинку кресла) и критшал.
Надежда Александровна изображает Яблочкину, произносящую монолог в классической трагедии… Губки бантиком, скрипучий дрожемент в голосе;
Вще рюхнуло…
Разговор Нины Николаевны Литовцевой с шофером;
– Нина Николаевна! Мне Василий Иванович Есенина давал почитать. Вот здорово стихи сочинял! А потом Василий Иванович мне Пушкина дал. Ну, этот хуже. Непонятных слов много… Василий Иванович ведь был знаком с Есениным, правда?
– Да, был знаком.
– И с Пушкиным тоже?
– Да что ж, по-вашему, Василию Ивановичу сто лет, что ли?
Раздраженные нотки в голосе Нины Николаевны воспроизведены до того верно, что мне кажется, будто это говорит она. Шофера Качаловых я не знаю, но верю Надежде Александровне безусловно, что он так именно и говорит, а за его словами и интонациями вырисовываются черты его внешнего и внутреннего облика.
Я не помню, чтобы Надежда Александровна кому-нибудь со сладострастием перемывала косточки, но подмечала она все и говорила о недостатках человека спокойно – тоном не моралиста, а наблюдательного художника слова.
О Варваре Николаевне Рыжовой:
– У Вари даже нос подхалимский.
Я издавна собираю коллекцию актерских оговорок и накладок. Маргарита Николаевна сообщила мне оговорку артиста Малого театра Самарина в роли Фамусова:
Покойница сходила восемь раз…
Тут Самарин заметил» что он что-то пропустил, и, решив восполнить пробел, добавил от себя:
И умерла…
От Турчаниновой я слышал, что артист Малого театра Решимов, любивший пустить публике пыль в глаза разнообразием своего гардероба» в одной пьесе переусердствовал: прошел в комнату к невесте в одних брюках» а вернулся на сцену в других.
Надежда Александровна пополнила мою коллекцию.
Из ее вклада мне запомнилась оговорка какого-то провинциального актера в трагедии Кукольника «Князь Михаил Васильевич Шуйский». Вместо:
Пей под ножом Прокопа Ляпунова!
он вскричал:
Пей под проком Нажопа Ляпунова!
Славившийся своими оговорками Станиславский, игравший в «Трех сестрах» Вершинина, прощаясь с Машей» вместо «Пиши мне», сказал «Пипи мне».
Мало знавшие Надежду Александровну могли бы сказать, что она экстравагантна в своих суждениях и поступках. Но эта ее экстравагантность была не экстравагантна. У Надежды Александровны не было ничего нарочитого. Все у нее возникало стихийно. Актриса в ней не угасала, но в жизни, если она и играла, то без репетиций.
Надежда Александровна свела знакомство с пожилым священником, по отбытии ссылки поселившемся в Тарусе и зарабатывавшим себе на кусок хлеба физическим трудом. (Впоследствии она порекомендовала его Качаловым, и те взяли его к себе сторожем на дачу на Николиной горе.) Как-то в гололедицу она встретила на горке этого самого заштатного батюшку с пустыми салазками.
– Батюшка! – обратилась к нему Надежда Александровна. – Я боюсь спускаться, – я ведь близорука и ноги у меня больные, – того и гляди ухну. Давайте съедем на салазках!
– И вот» – рассказывает Надежда Александровна» – к изумлению тарусян» «артиска», как меня тут называют, Смирнова летит с горы на санках со ссыльным попом.
Летом я рано ложился спать. В самую глухую полночь стук ко мне в окно. Хотя ежовщине тогда уже пришел конец, россияне по-прежнему не любили ночных стуков и звонков. Просыпаюсь и, как был» в майке и трусах, – к окну. Вглядываюсь в темноту – Надежда Александровна. Распахиваю окно.
– Ты что же это, спишь?.. И тебе не стыдно дрыхнуть в такую ночь? Посмотри, какая луна.
Выйдем с тобой побродить
В лунном сиянии!
Живо одевайся – и идем гулять!
И долго мы с Надеждой Александровной кружим по крепко спящим улочкам и закоулочкам «Порт-Артура».
В воспоминаниях Маргариты Николаевны, относящихся к 22-му году» я обнаружил такую запись:
Мы иногда ходили с Татьяной Львовной и Николаем Борисовичем к Надежде Александровне Смирновой. У нее собирались интересные люди, и сама она была тогда как фейерверк… Она самоуверенно, находчиво, остроумно, интересно говорила… болтала… смотря по тому, кто был в комнате. Если мы были одни, она тихо, глядя вдаль, задумчиво и таким тоном, как будто она знала то, чего не знали и не могли знать мы, говорила о теософии… Для нее очевидно в этом была ее реальность, которая помогала ей жить. Она так рассказывала о своем посвящении:
– Я была тогда ужасно несчастна… было в жизни одно событие, которое я пережить никак не могла… я много вообще пережила всего, умела владеть собой… преодолевать… а тут – чувствую, что не могу справиться, и вот-вот сойду с ума… Как-то пришлось мне быть в симфоническом концерте… я стою в антракте у колонны и чувствую такое отчаяние, что даже не сознаю, где я и что со мной… Вдруг подходит ко мне женщина с прекрасным лицом и говорит тихо: «Простите, но у вас такие глаза, что я не могу пройти мимо… я чувствую, что вы несчастны, и должна вам помочь»… С тех пор мы с ней стали самые близкие друзья… она теософка…
Другой раз в конце ужина, сидя боком к столу, прислонясь спиной к Эфросу и положив нога на ногу, она, слегка возбужденная вином, красивая, почти совсем поседевшая, говорила:
– Я сказала Эфросу: «Ты можешь что хочешь делать и всегда будь спокоен, потому что нет такого положения, из-за чего бы я бросила тебя… Что бы ты ни сделал, я ни-ког-да… и ни при каких условиях не уйду от тебя…
– А как же художница? – спросил кто-то смеясь, намекая на недавний эпизод: какая-то художница писала портрет Эфроса, питая к нему нежные чувства, которые достаточно ярко выражала… Н. А. ликвидировала ее в конце концов.
– Художница? – засмеялась она. – А-а-а, это, знаете., как бы вам сказать: я не люблю, чтобы трогали мои вещи… Вы, например, не дадите другому вашу зубную щетку… Ну вот и я не дам…
Конечно, здесь все достоверно, – лгать Маргарита Николаевна не умела. Я не согласен лишь с одним определением, какое Маргарита Николаевна, описывая Надежду Александровну, дает ее манере говорить: «самоуверенно». Нет, Надежда Александровна говорила не самоуверенно, а убежденно – и без навязывания своих убеждений. Она знала, что я обеими ногами стою на родной почве, вполне это одобряла и не предприняла ни одной попытки перевести меня на стезю теософическую. У нее была драгоценная черта: она всех внимательно дослушивала до конца, никогда не перебивала, как бы ни были ей чужды и неожиданны для нее высказываемые кем-либо суждения, а в некоторых случаях, подумав, соглашалась.
Веротерпимость Надежда Александровна проявляла и в мировоззрении и в искусстве. Может быть» здесь сказывалось влияние Эфроса. И Эфрос и Надежда Александровна в целом принимали искания Мейерхольда.
В ту пору, когда я познакомился с Надеждой Александровной, я, не закрывая глаз на обмеление Художественного театра, в теории был воинствующим «художественником». Да таковым я и остался. Я и теперь отдал бы театр Мейерхольда с Камерным и Вахтанговским впридачу за один удар леонидовского грома, за один качаловский клейкий, распускающийся весной листочек, за молитву Луки – Москвина о новопреставленной Анне, за несколько туров вальса, который танцевала Книппер-Чехова в третьем действии «Вишневого сада», за ту сцену из «Дней Турбиных», где гибнет Алексей – Хмелев, и за следующую сцену, где весть об его гибели доходит до Елены – Соколовой, за то, как философствовал за коньячком Федор Павлович – Лужский. Но теперь я на огромном расстоянии смутно различаю красоту искусства Малого театра былых времен, ощущаю, как мне ее недостает, как безгранично много я потерял, оттого что не видел его корифеев. А тогда я вызывающе щеголял афоризмом собственного изделия: «Русский театр открылся в октябре девяносто восьмого года». До этого, мол, были гастрольные выступления гениальных артистов Малого и Александринского театров. Бухнул я это и Надежде Александровне и вот что услышал в ответ:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.